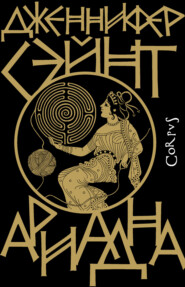скачать книгу бесплатно
Ариадна
Дженнифер Сэйнт
Об Ариадне известно, что она помогла Тесею пройти Лабиринт и победить получеловека-полубыка Минотавра. Но эта история – только начало романа Дженнифер Сэйнт. Ариадна, вынужденная предать и свою страну, и свою семью, сама становится жертвой предательства. Однако на помощь ей приходят боги, точнее, вечно юный бог Дионис. Вот он, счастливый поворот судьбы. Но долго ли продлится это счастье, не ждет ли Ариадну новое предательство?
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Дженнифер Сэйнт
Ариадна
Jennifer Saint
Ariadne
© Jennifer Saint, 2021
© Л. Тронина, перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО «Издательство Аст», 2023
Издательство CORPUS ®
* * *
Теду и Джозефу.
Надеюсь, вы понимаете, что ваши мечты непременно сбудутся.
Скоро ты в гавань войдешь родного Кекропова края,
И, среди внемлющих толп на возвышение встав,
Будешь рассказывать им о быке-человеке сраженном
И о пробитых в скале путаных ходах дворца[1 - Перевод с латинского С. Ошерова.]…
Овидий, Героиды, Письмо десятое. Ариадна – Тесею
Пролог
Позвольте рассказать вам об одном праведнике.
Праведник этот, царь Крита Минос, пошел войной на Афины. Хотел покарать город за смерть своего сына Андрогея. Сей могучий атлет одержал победу на Панафинейских играх, вот только после в пустынных пригородных холмах был растерзан взбесившимся быком. Потеряв сына-триумфатора, всю вину Минос возложил на афинян – не уберегли, дескать, юношу от свирепого зверя – и возжаждал наказать их, искупав в крови.
Но по пути, прежде чем обрушить свой гнев на Афины, Минос решил уничтожить другое царство – Мегару. Нис, мегарский царь, славился своей непобедимостью, но, хоть и легендарный, все равно не годился в подметки могучему Миносу, срезавшему прядь алых волос, от которой и зависело бессмертие царя. Лишившись кроваво-красного завитка, несчастный был повержен моим торжествующим отцом.
Откуда же он узнал, что нужно отстричь этот самый завиток? Царская дочь, красавица Скилла, весело рассказывал мне Минос, влюбилась в него без памяти и без надежды, и однажды, сладким шепотом обещая моему отцу, подставившему чуткое ухо, что с радостью променяет дом и родню на его любовь, проговорилась заодно, в чем заключена погибель ее отца.
Разумеется, такое отсутствие дочерней преданности внушило Миносу справедливое отвращение, и, едва царство пало под ударами его окровавленного топора, отец мой привязал безумно влюбленную девушку к кораблю и благочестиво поволок в водяную могилу, а она громко кричала, оплакивая свою нежную веру в любовь.
Она предала и своего отца, и царство, говорил он мне, еще сияя и упиваясь победой, когда вернулся из поверженных Афин. А зачем, скажите на милость, моему отцу Миносу, царю Крита, вероломная дочь?
Часть первая
Глава 1
Я Ариадна, критская царевна, однако история эта увела нас далеко от скалистых берегов моей родины. Отцу нравилось рассказывать мне, как благодаря своей образцовой добродетели он победил Мегару, подчинил Афины и всем показал блестящий пример безупречного правосудия.
По легенде, тонущая Скилла превращена была в морскую птицу. Только жестокой участи отнюдь не избежала, ведь за ней тут же пустился в погоню орел с алым пером, движимый вечной жаждой мести, и нет этой погоне конца. Легенда казалась мне вполне правдоподобной, богам ведь доставляет такое наслаждение созерцать долгие муки.
Но я, размышляя о Скилле, представляла отнюдь не птицу, а глупую и самую что ни на есть земную девчонку, задыхавшуюся в пене волн, бурливших за кормой отцовского корабля. Видела, что не только железные цепи, которыми сковал ее Минос, затягивают Скиллу в бушующие воды, но и бремя невыносимой правды: все родное и знакомое принесла она в жертву любви, такой же призрачной и мимолетной, как радуга, мерцавшая в облаках брызг, когда отец мой горделиво шел на всех парусах под золотистым солнцем.
Знаю, Скиллой и Нисом кровавые труды отца не завершились. За мир он потребовал с Афин страшную плату. Всемогущий Зевс, беспощадный правитель богов, благоволил Миносу, потому что любил силу в смертных, и оказал ему милость, наслав на Афины страшный мор, шквалом болезней, мук, смертей и горя пронесшийся по городу. Вопль матерей, должно быть, стоял повсюду, ведь дети чахли и гибли у них на глазах, а воины полегли на полях сражений, и великий город, узнавший вдруг, что, подобно всем городам, крепок был лишь слабой человеческой плотью, вяз уже в громоздившихся друг на друга телах собственных жителей, ставших жертвами принесенной Миносом чумы. Афиняне уступили его требованиям – ничего другого им не оставалось.
Однако не власть и богатства нужны были Миносу. А дань – семь афинских юношей и семь девушек, которых каждый год доставляли морем на Крит, чтобы хоть ненадолго насытить чудовище, грозившее опозорить и сокрушить мою семью, но вместо этого возвысившее и прославившее нас. От рева этого существа, почуявшего приближение того единственного дня в году, когда его кормили, пол в нашем дворце гудел и сотрясался, хоть оно было упрятано глубоко под землю, в сердце сумрачного лабиринта, до того поражавшего воображение, что вошедший не мог уже выйти обратно на белый свет.
Лабиринта, ключом от которого владела только я.
Лабиринта, заключившего в себе величайшее унижение Миноса и одновременно – величайшую драгоценность.
Моего брата Минотавра.
В детстве я как завороженная без конца бродила по углам и закоулкам кносского дворца. Кружила по бесчисленным комнатам, в которых ничего не стоило заблудиться, плутала змеистыми проходами, водя ладонью по гладким красным стенам. Пальцы нащупывали рельефный лабрис, обоюдоострый топор, высеченный на каждом камне. Уже потом я узнала, что для Миноса лабрис был символом могущества Зевса, вызывавшего громы и молнии, то есть свидетельством неодолимого превосходства. А мне, бежавшей по лабиринтам родного дома, этот топор напоминал бабочку. И именно бабочку я представляла себе, выбираясь из полутемного кокона дворцовых покоев на великолепный внутренний двор, просторный, залитый солнцем. На огромном выглаженном до блеска кругу, располагавшемся посередине, я провела счастливейшие минуты юности. Вращаясь в головокружительной пляске, ткала невидимый ковер, легкими прыжками пересекая танцевальную площадку – диво дивное, выточенное из дерева бесподобное творение прославленного мастера Дедала, хоть и не самое известное, конечно.
Я наблюдала, как он сооружал эту площадку – вертелась рядом, нетерпеливая девчонка, дождаться не могла, когда же он закончит, не понимая, что вижу за работой изобретателя, который во всей Греции славится. А может, и в других, далеких землях, но о мире за стенами нашего дворца я почти ничего не знала. С тех пор больше десятка лет прошло, однако мне всегда вспоминается именно тот Дедал – молодой, полный сил и творческого пыла. Я наблюдала за его работой, а он рассказывал мне, как, путешествуя, обучался своему мастерству, пока наконец не привлек выдающимися умениями внимание моего отца, пообещавшего щедро наградить Дедала, если тот останется. Казалось, он везде побывал – описывал знойные пески пустынь Египта, Иллирию и Нубию, непредставимо далекие, а я ловила каждое слово. Я видела отплывающие от критского берега корабли – под руководством умелого Дедала возводились их мачты, а на мачтах крепились паруса, – но только воображать могла, каково же пересекать моря на таком корабле, когда под ногой скрипит дощатая палуба и волны с шипением разбиваются о борта.
Наш дворец был полон творений Дедала. Изваянные им статуи, казалось, вот-вот оживут – их даже к стенам приковывали длинными цепями, чтобы не вздумали уйти. Изготовленные им изящные ожерелья из тонких золотых цепочек блестели на шее и запястьях Пасифаи. Однажды, заметив мой завистливый взгляд, Дедал и мне преподнес маленькую золотую подвеску – две пчелы на кусочке сот. Она сверкала на солнце, такая яркая, лощеная, что казалось – сейчас растает от жары, истечет медовыми капельками.
– Это тебе, Ариадна.
Он всегда говорил со мной серьезно, и мне это нравилось.
С ним я не чувствовала себя надоедливым ребенком, девчонкой, которая никогда не сможет возглавить флот или завоевать царство, то есть для отца своего Миноса почти бесполезна и потому неинтересна ему. Если Дедал и шутил надо мной, я этого не замечала – всегда считала, что мы общаемся на равных.
Я изумленно приняла подвеску, повертела в пальцах, дивясь ее красоте. И спросила:
– А почему пчелы?
Он развел руками, обратив ладони к небу, пожал плечами и улыбнулся.
– А почему бы и нет? Пчелы всеми богами любимы. Они выкармливали младенца Зевса медом в укромной пещере, пока он не набрал достаточно сил, чтобы свергнуть могучих титанов. Дионис подслащивает пчелиным медом свое вино, оттого оно так соблазнительно. Говорят, даже ужасного Цербера можно приручить, если накормить медовым пирогом! С таким украшением ты всякую волю смягчишь и всякого к себе расположишь.
Я не спросила, чью волю мне, возможно, понадобится смягчить, – знала и так. Все мы на Крите были заложниками сурового Миносова суда. Моего отца и гигантский пчелиный рой не поколебал бы, а все же этот очаровательный подарок я с тех пор носила всегда. Подвеска горделиво поблескивала у меня на шее и на празднике в честь женитьбы Дедала. Мой отец устроил грандиозный пир – очень был доволен, что Дедал заключил союз с дочерью Крита. Теперь узы, связывавшие мастера с нашим островом, стали еще прочней, и Минос мог похваляться своим собственным великим изобретателем. Жена Дедала умерла во время родов – они и года вместе не прожили, – но мастер нашел утешение в новорожденном сыне Икаре и умилял меня, гуляя с младенцем на руках и показывая ему, ничего еще не смыслившему, цветы, птиц и разные диковины нашего дворца. Моя младшая сестренка Федра, только выучившись ходить, в восторге ковыляла за ними, и когда мне надоедало уводить ее подальше от всяких опасностей, встречавшихся на каждом шагу, я оставляла Дедала с ними обоими и втихомолку возвращалась на свою просторную площадку для танцев.
В первое время и мать танцевала со мной – она-то меня и научила. Не просто показала порядок шагов, скорее передала мне умение создавать из беспорядочных, полубезумных движений текучие, волнообразные фигуры. Я наблюдала, как мать отдается музыке, необъяснимым способом преобразуя ее в некое изящное неистовство, и делала так же. Она превращала нашу пляску в игру – выкрикивала названия созвездий, а мне нужно было, перемещаясь по площадке, очертить эти небесные фигуры, которые мать выписывала и в рассказах тоже, не только в танце. “Орион!” – крикнет она например, и я перепрыгиваю, как безумная, с места на место, представляя огоньки в ночном небе – изображение злосчастного охотника.
– Девственная богиня Артемида яростно оберегала свою невинность, объяснила Пасифая. – Но благоволила Ориону – смертному, с которым охотилась, а он был в этом деле почти так же искусен, как она сама.
То есть находился в опасном для человека положении. Боги могут восхищаться искусностью смертного – охотника, ткача, музыканта, – но если тот возгордится, заметят сразу, и горе несчастному, чьи умения близки к божественным. Ни от кого бессмертный не потерпит хоть какого-то превосходства над собой.
– Движимый стремлением сравняться с обладавшей невероятным мастерством Артемидой, Орион захотел во что бы то ни стало поразить ее, – продолжила мать.
Она глянула на Федру и Икара, игравших у края площадки. В последнее время они были неразлучны, Федра упивалась старшинством: наконец нашелся кто-то помладше и можно им повелевать. Убедившись, что дети увлечены игрой и нас не слушают, Пасифая принялась рассказывать дальше.
– Может, надеялся, убив достаточно живых тварей, заслужить ее восхищение и заставить тем самым нарушить обет безбрачия. И они вдвоем отправились сюда, на Крит, чтобы устроить великую охоту. День за днем Артемида с Орионом вырезали здешних зверей, и доказательством их мастерства служили горы мертвых тел. Но пропитав землю кровью, они пробудили от мирного сна Гею, прародительницу всего сущего, и та ужаснулась побоищу, которое одержимый Орион учинил вместе со своей обожаемой богиней. Гея испугалась, что он и впрямь уничтожит все живое, как и говорил, в опьяненном исступлении похваляясь перед Артемидой. Поэтому призвала из тайных подземных обиталищ одно свое создание – Гигантского скорпиона – и натравила на хвастуна Ориона. Такого существа свет еще не видывал. Панцирь его блестел, словно вырезанный из гладкого обсидиана. Огромные клешни были размером с человека, а ужасающий изогнутый хвост вздымался до безоблачных небес, затмевая Гелиосов свет и отбрасывая жуткую тень.
Я содрогалась, слушая описание легендарного чудовища, и зажмуривалась от страха, представляя, как оно вырастает передо мной, невообразимо жуткое и свирепое.
– Но Орион не испугался, – продолжила Пасифая. – Или виду не подал. Может, думал, что возлюбленная Артемида спасет его от этой твари, а может, считал, что и без нее способен победить чудовище, посланное самой Геей. Как бы там ни было, Орион не справился, и Артемида не вмешалась, не вытащила его из могучих клешней скорпиона.
Тут мать прервалась, и ее молчание изобразило жалкие попытки Ориона сражаться ярче, чем могли бы слова. Затем она снова подхватила рассказ, но прежде я увидела, как Орион испустил дух, как обнажилась наконец его человеческая слабость, когда он сдался, обессилев – уж очень долго, пребывая в смертном теле, пробовал угнаться за богами.
– Артемида, горевавшая по своему спутнику, собрала его останки, разбросанные по всему Криту, и поместила на небо – пусть Орион светит во мраке, чтобы она глядела на него каждую ночь, отправляясь на охоту с серебряным луком в одиночестве, и превосходство свое сохранившая непререкаемым, и целомудрие.
Таких историй было много. Ночные небеса, казалось, усеяны смертными, повстречавшимися с богами и теперь являвшими земле яркий пример того, на что способны бессмертные.
Тогда мать, помню, отдавалась повествованию, как и танцу, бурно и самозабвенно, не зная еще, что эти невинные развлечения сочтут потом доказательством ее неудержимой склонности к излишествам. В то время никто и не думал говорить, будто она не может зваться женщиной, или обвинять ее в распутстве и каких-то неестественных склонностях, и мать танцевала со мной без оглядки, пока Федра с Икаром играли, увлекаясь все новыми забавами, все новыми мирами, которые сами же и придумывали. Одного лишь судьи нам стоило бояться – хладнокровного Миноса с его бесстрастной и последовательной расчетливостью. И мы, мать и дочь, танцевали вместе, отгоняя страх.
Девушкой я танцевала уже одна. На блестящем деревянном полу выстукивала ногами ритм и растворялась в нем, уходила с головой в кружение танца. И даже без музыки мне удавалось заглушить отдаленный грохот, от которого стонала земля под нашими ногами, топот огромных копыт в глубине, в сердцевине сооружения, которое и вправду упрочило славу Дедала и сделало его пленником высившейся поодаль башни, что попадалась мне на глаза, когда я обращала лицо к солнцу. Простирала руки к его золотистому теплу, тянулась к безмятежному небу, в танце забывая об ужасе, обитавшем под нами.
И здесь мы подходим к истории, которую Минос не очень-то любил рассказывать. О временах, когда он только стал наследником престола – вместе с двумя братьями, своими соперниками, и отчаянно хотел доказать, чего стоит. Минос попросил Посейдона послать ему из моря великолепного быка и твердо поклялся принести животное в жертву, чтобы оказать великий почет морскому богу и таким образом заполучить и его благосклонность, и критский трон разом.
Посейдон послал быка, которого Минос предъявил как неотразимое подтверждение своего права царствовать на Крите, посланное свыше, но Критский бык был так прекрасен, что мой отец поверил, будто сможет обмануть бога, принести ему в жертву другое животное, похуже, а это оставить себе. И Посейдон, оскорбленный и разгневанный таким коварством и дерзостью, замыслил месть.
Моя мать Пасифая – дочь Гелиоса, великого бога солнца. Но не обжигающий блеск исходил от нее, как от деда, а легкое мерцание, золотое свечение. Я помню, как мягко лучились ее удивительные глаза с бронзовым оттенком, как согревали летним теплом ее объятия, как вспыхивал и разливался солнечным светом ее смех. В дни моего детства, когда она смотрела на меня, а не сквозь. Когда несла свое сияние миру, не превратившись пока в мутное стекло, через которое еще проходит искаженный свет, но уже не льется драгоценным ярким потоком. Прежде чем ей пришлось поплатиться за мужнин обман.
Просоленный, облепленный ракушками, восстал Посейдон из океанской пучины, объятый гневом и громадным облаком брызг. Но серебристую, изворотливую месть нацелил не прямо на Миноса, пытавшегося обмануть его и оскорбить, а обратил на мою мать, дочь солнца и царицу Крита – довел ее до сумасшествия страстью к быку. Животная похоть распалила Пасифаю, а необузданное желание сделало хитрой и коварной, и она уговорила мастера Дедала изготовить деревянную корову, до того неотличимую от настоящей, что одураченный бык взобрался на нее – а заодно и на безумную царицу, спрятавшуюся внутри.
Эта невообразимая связь стала на Крите предметом непристойных сплетен – хоть и запретные, они достигали моих ушей, вились вокруг злобными, ехидными усиками. Всем будто подарок преподнесли: злопамятным аристократам, веселым купцам, угрюмым рабам, девушкам, которых раздирали противоречия – какая ужасная и притягательная мерзость! – юношам, завороженным извращенной дерзостью царицыного каприза, – бормотание, ропот, осуждающий шепоток и глумливые смешки носились повсюду и даже долетали в каждый уголок дворца. Посейдон вроде бы в цель не попал, однако поразил ее с убийственной точностью. Не тронув Миноса, но осрамив его супругу столь нелепым способом, он унизил отца как мужчину, которому жена, обезумевшая от неестественных желаний, изменила со скотиной.
Красавица Пасифая, происходившая от бога, была для Миноса не просто женой, а бесценным призом. Именно изяществом, утонченностью, очарованием моей матери и гордился отец, поэтому разъяренный Посейдон, наверное, получил особое удовольствие, низведя ее. Боги с наслаждением разбивают в пух и прах любой предмет нашей гордости, то самое, что выделяет нас среди прочих смертных и возвышает над ними. Размышляя об этом, однажды я расчесывала шелковистые, отливавшие золотом волосы младшей сестренки – подарок от сияющей матери, и заплакала, с ужасом разглядывая прелестные завитки, ведь каждый из них мог стать приманкой для небесных колоссов, шагающих по облакам, способных отобрать нашу крошечную удачу и растереть в пыль своими бессмертными пальцами.
Моя служанка Эйрена увидела, что я плачу, уткнувшись в волосы Федры.
– Ариадна… – проворковала она.
Наверное, ей было жаль меня, моей детской чистоты, нарушенной столь нелепым и чудовищным образом.
– Что такое?
Она, конечно, думала, что я оплакиваю материнский позор, но, как всякий ребенок, я поглощена была собой и именно за себя тревожилась на этот раз.
– А что если боги, – отвечала я, глотая слезы, – что если они лишат меня волос и я останусь лысой уродиной?
Может, Эйрена сдержала улыбку, но если и так, то виду, что смеется надо мной, не подала. А вместо этого, легонько меня отодвинув, сама взяла гребень и стала расчесывать Федру.
– С чего бы?
– Вдруг отец опять их рассердит? – воскликнула я. – И они лишат меня волос, чтобы он стыдился потом безобразной дочери.
Федра наморщила нас и решительно заявила:
– Не может царевна быть лысой.
И правда, кому нужна такая? Минос любил говорить, как однажды выдаст меня замуж и этот блестящий брачный союз покроет Крит славой. Зря, зря он так хвастал! Осознание подползало ко мне, и кровь стыла в жилах. Как мне защититься от его преступлений? Если оскорбленные отцом боги решили сразить его жену, так почему не дочь?
Я почувствовала перемену в Эйрене, присевшей рядом. Мои слова ее удивили. Она-то наверняка думала, что царевна убивается по пустякам, что это просто облачко набежало и можно смахнуть его как легкий туман, тающий в розовых ладонях зари. Я и не знала, что натолкнулась случайно на правду женского бытия: сколь безупречную жизнь ни веди, мужские страсти и алчность легко тебя погубят, и тут ничего не поделаешь.
Этого Эйрена не могла отрицать. И рассказала нам одну историю. О Персее, благородном герое, сыне Зевса, явившегося в виде золотого дождя к одинокой и прекрасной Данае, заточенной в бронзовую башню без крыши, откуда только небо и видно было. Сын вырос достойным своего блистательного отца и, как и полагается герою, победил страшное чудовище – Медузу Горгону, избавив мир от ее злодейств. Я уже знала, что Персей отрубил ей голову, уже слушала с трепетом, как змеи, выросшие вместо волос на ее безобразной голове, извивались, шипели и брызгали ядом, когда герой взмахнул чудесным мечом. Известие об этом подвиге только недавно пришло к нам во дворец, и все мы удивлялись отваге Персея и содрогались, представляя его щит, на котором висела теперь голова Горгоны, а всякий, кто смотрел на него, тут же обращался в камень.
Но сегодня Эйрена не стала говорить о Персее. Вместо этого рассказала, как Медузе достался венец из змей и способность все превращать в камень одним только взглядом. Такую историю я в последнее время и ожидала услышать. Поскольку не жила уже в мире отважных героев, слишком скоро узнала о женском страдании – неназванное, пробивалось оно в легендах об их подвигах.
– Медуза была красавицей, – начала Эйрена. Она уже отложила гребень, а Федра, забравшись к ней колени, приготовилась слушать. Обычно сестра не могла усидеть на месте, но сказаниям внимала как зачарованная. – Моя мать видела ее однажды, на большом празднике в честь Афины, видела издалека, но все равно узнала – по великолепным волосам. Они стекали с ее плеч сияющей рекой чистого золота, поэтому юную деву ни с кем нельзя было спутать. А повзрослев, Медуза превратилась в восхитительную молодую женщину, но поклялась самой себе хранить невинность и лишь смеялась над женихами, требовавшими ее руки.
Эйрена помолчала, будто бы тщательно взвешивая слова. И даже наверняка взвешивая, ведь историю эту юным царевнам рассказывать не следовало. Однако Эйрена рассказала, и ей одной было ведомо почему.
– Но однажды в святилище Афины перед ней предстал жених, от которого не убежишь и насмехаться над ним не станешь. Могущественный Посейдон, заставивший твою мать пылать страстью к быку, возжелал прекрасную деву и ни криков, ни мольб ее слушать не стал и даже перед осквернением священного храма не остановился.
Эйрена медленно и аккуратно вздохнула. Я перестала всхлипывать и слушала внимательно. Я ведь знала лишь о Медузе-чудовище. И не думала, что она стала такой не сразу. В легендах о Персее Медузе иметь свою собственную историю не дозволялось.
– Афина пришла в ярость, – продолжала Эйрена. – Она, богиня-девственница, не могла стерпеть столь возмутительного преступления в собственном храме. И должна была наказать бесстыдницу, позволившую Посейдону одолеть себя и оскорбить взор богини гнусным своим падением.
Итак, за поступок Посейдона должна была расплатиться Медуза. Не увидев тут сначала никакого смысла, я, склонив голову, взглянула на это под другим углом – как смотрят боги. И тогда картина сложилась – ужасная, с точки зрения смертного, и красивая, как паутина, так пугающая, наверное, муху.
– Афина лишила Медузу волос и увенчала голову девушки живыми змеями. Забрала ее красоту, так обезобразив лицо, что всякий взглянувший на Медузу обращался в камень. И та бесчинствовала, оставляя после себя только статуи, на лицах которых застыли ужас и отвращение. Когда-то мужчины желали Медузу неистово, а теперь так же неистово боялись и бежали от нее со всех ног. Она сто раз успела отомстить, прежде чем Персей отсек ей голову.
Я слова не могла вымолвить от ужаса. А потом отважилась спросить:
– Почему ты рассказала нам эту историю, Эйрена, а не те, что обычно?
Она погладила меня по голове, но смотрела при этом, не отрываясь, куда-то вдаль. А потом проговорила ровным голосом, донесшимся из той самой дали:
– Решила, что пора вам послушать и о другом.
Долго еще я носила в себе эту историю, крутила так и сяк, словно косточку спелого персика – такая вдруг ошеломляющая жесткость в самой сердцевине. Я заметила, конечно, сходство в судьбах Медузы и Пасифаи. Обе расплачивались за чужое преступление. Но Пасифая будто умалялась каждый день, хоть живот ее округлялся и растягивался, превращаясь в нечто бесформенное. Она не поднимала глаз, не открывала рта. Совсем не как выставлявшая напоказ муку Медуза, на голове которой яростно извивались, разевая пасть, змеи, а сверкавшая в глазах ненависть обращала в камень. Моя мать, напротив, заперлась в каком-то недоступном уголке своего существа, и осталась от нее одна лишь тонкая, полупрозрачная оболочка – будто раковина на песке, истертая почти в ничто сокрушительными волнами.
Стану Медузой, если уж до этого дойдет, – так я решила. Если однажды боги доберутся до меня и заставят отвечать за чужие проступки, если накажут за содеянное мужчиной, я не спрячусь внутри себя, как Пасифая. А надену корону из змей, и пусть от меня прячутся.
Глава 2
Мне было десять, когда родился мой устрашающий брат, и случилось это вскоре после той истории, рассказанной Эйреной. Я и раньше ухаживала за матерью после родов – когда появились на свет мой брат Девкалион и сестра Федра – и думала, что знаю уже, к чему готовиться. Но с Астерием все вышло иначе. Мать страдала несоизмеримо глубже, страдала всем существом. В ее жилах текла божественная кровь Гелиоса и не давала ей умереть в муках, но от боли не защищала – боли, которую я страшилась и вообразить, но глубокой ночью мои блуждающие мысли невольно возвращались к ней. Царапались копыта и рожки, пробивавшиеся на уродливой голове, покрытой скользкой шерстью, суматошно молотили конечности – я содрогалась, представляя в подробностях, как он прорывался на волю из утробы матери – зыбкого солнечного луча. Отлитый в горниле страдания, он сокрушил нежную Пасифаю, и моя мать, которая и так уже была далеко, а теперь прошла через огонь и муки, больше ко мне не вернулась.
Я думала, что он внушит мне лишь ненависть и страх – этот зверь, само существование которого нарушало все законы. Пробираясь в покои, откуда вышли, пошатываясь, бледные трясущиеся повитухи, я вдыхала солоноватый запах разделанного мяса и еле ноги переставляла – ужас приковывал их к полу.
Но мать сидела, опершись на подоконник, как и с другими своими новорожденными, все у того же окна, облитая уже знакомым мне усталым сиянием. И хоть глаза ее теперь были стеклянны и пусты, а лицо – истерзано, она баюкала ворох покрывал и прижимала к груди, нежно касаясь носом головки младенца. Он засопел, икнул и, открыв черный глаз, пристально посмотрел на меня, осторожно подходившую ближе. Я заметила, что глаз этот окаймляют длинные черные ресницы. У материнской груди трепыхался пухлый кулачок с безупречными розовыми ноготками на всех пяти пальцах. А под покрывалом, у лодыжек, нежно-розовые ножки младенца переходили в твердокаменные копыта, сверху заросшие темной шерстью, но этого я еще не видела.
Младенец этот был чудовищем, а мать – выпотрошенной оболочкой, но я-то оставалась ребенком и потянулась к слабому, затеплившемуся огоньку нежности. Неуверенно приблизилась и молча попросила разрешения – вытянув палец, всмотрелась в материнское лицо: одобрит ли? Мать кивнула.