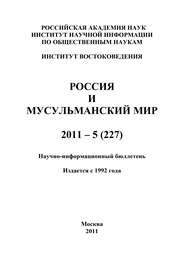скачать книгу бесплатно
По мнению авторитетного исламоведа А. Малашенко, ислам на Северном Кавказе является одним из главных факторов, формирующих местную идентичность, воздействующих на мировоззрение индивида, этнического социума. Признавая культурное многообразие северокавказских этносов, следует все же принимать во внимание их «общую этничность, ту сложную смесь менталитета и культуры, которая не только характеризует какой-либо народ, но и объединяет его, и отличает от всех других сообществ». Признание этой общей этничности позволяет говорить о северокавказской идентичности и об общем влиянии на нее ислама.
С самого начала исламская идентичность взаимодействовала и «соперничала» с идентичностью этнической, и это соперничество не выявило победителя. В советские годы власть воспринимала обе идентичности как единое целое, что иногда сводилось к отождествлению этнических, языческих или просто светских традиций с исламскими. Правда, начиная с 70-х годов на Северном Кавказе предпринимались неоднократные, но, как оказалось, тщетные попытки «развести народные обычаи с религиозными обрядами» и даже противопоставить их друг другу. И уж совсем несостоятельными оказались попытки заменить эти обряды на искусственно создававшиеся советские.
Хотя советская власть и вела определенное наступление на официальный ислам в виде зарегистрированных мечетей и имамов, разрушения религиозной сферы жизни, произведенные в исламе, некорректно сравнивать с тем, что происходило в отношении православия. Как указывает Равиль Гайнутдин, ислам не требует мечети, а имамом может быть любой подготовленный мусульманин. Для совершения православных таинств обязательно нужен священник, в определенных случаях – епископ, а главное христианское таинство – Евхаристия – может осуществляться только в церкви. Поэтому если для мусульман закрытие мечети и арест имама означали организацию подпольной мечети, для православных ликвидация церкви и арест священника были религиозной катастрофой (а особенно арест епископа, потому что только епископ может рукоположить новых священников).
Власти не предпринимали действии по закрытию неофициальны мечетей, а на низовом уровне – поддерживали их, выделяя помещения или выплачивая зарплату служителям ислама. С одной стороны, это, безусловно, объяснялось тем, что, как пишет Р. Гайнутдин, «КПСС и Советское государство верно оценивали уровень религиозности среди мусульман, отношение населения к исламу и не решались идти на шаги, могущие вызвать открытое недовольство своими действиями». С другой стороны, приведенное объяснение выглядит не полным. Советское государство, например, пошло на проведение коллективизации, невзирая на недовольство крестьян и периодические восстания. Очевидно, что не только страх перед «исламским ответом» удерживал власти от уничтожения неофициальных исламских структур.
Влияние ислама на формирование идентичности северокавказского общества существенно возросло в 90-е годы. В наибольшей степени это было характерно для чеченцев, ингушей, этносов Дагестана, а также карачаевцев и балкарцев. По разным экспертным оценкам, число тех, кто считал себя верующим в ранний постсоветский период в Дагестане, колебалось в пределах от 81 до 95 %. Подобный показатель религиозности среди чеченцев в 1995 г. составлял 97 %, среди ингушей – 95, среди карачаевцев – 88 %. При этом этническая идентичность также не теряла своего значения, что нашло отражение в ее тесной взаимосвязи с религиозной: «Чеченец – это в первую очередь чеченец-мусульманин, ибо чеченская идентичность сегодня немыслима вне контекста исламской традиции. Приведенное соображение справедливо и для других северокавказских этносов».
Ныне «… активное возрождение на Северном Кавказе традиционных социальных институтов свидетельствует о тяготении северокавказских структур к прошлому. …Все возрождающиеся обычаи, традиции, праздники имеют, как правило, религиозный характер, определяемый синтезом православия или мусульманства с местными верованиями». Однако на этом фоне ислам все-таки выделяется хотя бы в силу своей большей социальной и политической ангажированности.
Основная часть исследователей отмечают, что практически с первых шагов религиозного возрождения, начавшегося незадолго до распада Советского Союза и крушения коммунистической идеологии, ислам стал не просто частью северокавказского ландшафта, но в большей степени приобрел инструменталистские черты, став ключевым фактором динамики политических отношений в регионе. Местные этнические элиты, особенно в субъектах с преобладающей или высокой долей мусульман стали активно использовать «исламский фактор» для обеспечения политического доминирования своих этноклановых образований. Для чего к участию в региональных, городских и районных выборах неоднократно привлекались и продолжают привлекаться мусульманские авторитеты, которые в свою очередь, организуя пропагандистскую поддержку кандидатов на местах, получают возможность создавать достаточно плотный пояс влияния вокруг руководства своих республик.
Из этого следует, что обращение к исламу тех или иных группировок фактически есть обращение к «своему» исламу, который и выдается за «истинный». Именно поэтому абсолютное большинство социальных, политических, экономических и этнических противоречий, кульминацией которых стала война в Чечне, в большей или меньшей степени носят религиозный оттенок. Он, в свою очередь, определяется не столько межрелигиозным противостоянием между православием и исламом, но прежде всего внутриисламской дисфункцией, обусловленной сложной структурой, неоднородностью и противоречивостью традиционного для Северного Кавказа ислама.
Подавляющее большинство северокавказских этносов исповедует наиболее распространенную форму ислама суннитского направления. Распространение второго по значимости в мусульманском мире направления, шиизма, ограничилось южными районами Дагестана, где и по сей день проживают порядка 80 тыс. исповедующих шиизм азербайджанцев. Исторически на Северном Кавказе утвердились два мазхаба (суннитские богословско-юридические школы) – ханифизм и шафиизм, которые по сравнению с двумя другими: ханбализмом и маликизмом, считаются более мягкими, либеральными. Шафиизм более распространен среди чеченцев, ингушей и некоторых народов Дагестана. Ханифизму следуют этносы западной и центральной части Северного Кавказа, а также кумыки и ногайцы.
С одной стороны, принадлежность к тому или иному мазхабу не является фактором, существенно влияющим на восприятие различными этносами ислама, с другой – существует мнение, что различия между кавказскими ханафитами и шафиитами играют достаточно заметную роль. Так, фундаменталистские («ваххабитские») идеи легче проникают в шафиитскую, чем в ханифитскую среду, что среди прочего объясняется близостью шафиизма к составляющему идейную основу ваххабизма ханбалитскому толку, а также тем, что на востоке ислам глубже укоренился в сознании людей, существенно определяя их поведенческие стереотипы, в то время как в западной части Северного Кавказа (адыги, карачаевцы, балкарцы, ногайцы) большее значение имеют этнические морально-нравственные кодексы.
Следует согласиться с точкой зрения тех светских ученых-религиоведов, считающих, что религиозно-политические движения и партии не ограничатся тем, что впишут в свои программы идеологические формулы типа: «мусульманская культура», «исламская самобытность», «традиции» и т.д. В пропагандистской деятельности эти идеологические сентенции спокойно перерастают в фанатическую веру в спасение и возрождения Дагестана только с помощью шариата и Сунны. С этой точки зрения религия и политика вещи не совместимые. Но есть и такая точка зрения, которую излагает проректор Северокавказского исламского Университета им. М. Арифа (г. Махачкала) С.Н. Султанмагомедов. Возлагая на религиозно-духовное просвещение чрезмерные надежды и ожидания, он пишет, что «возрождение нравственности и сохранение мира и согласия в обществе возможны только через духовное просвещение нашего народа, которое избавит наше общество от пороков человечества, от всевозможных стрессов и потрясений со стороны экстремистов, сократит число коек в больницах и детских приютах, послужит гарантом оздоровления нации и народа в целом».
В контексте проблем политизации ислама мы разделяем взгляды З. Арухова, который считал, что в среде религиозного населения появились и последователи так называемого «чистого ислама», которые в своей пропагандистской деятельности подчеркивали значимость социальных и политических элементов, пытались предложить представителям среднего класса, ориентирующимся на демократию, права человека и гражданское общество, собственное видение перспектив развития дагестанского общества.
Разделяя точку зрения З. Арухова, необходимо сказать о том, что «некоторые организации политического ислама выдвигали идеологических лидеров, испытывающих серьезный недостаток официального религиозного образования, но тем не менее выступавших с далеко идущими комментариями, основанными на сомнительной интерпретации исламских норм и принципов. При этом не учитывалось то обстоятельство, что нельзя построить истинно гражданское общество без учета типа, характера, культуры народов Дагестана. Таким образом, политизация ислама стала оборотной стороной религиозной либерализации, сопровождаемой противоречиями между тарикатистами (суфиями) и так называемыми «ваххабистами» (салафитами).
Официальное духовенство Дагестана выступило с критикой миссионерской деятельности последователей ваххабитского течения в исламе (ал-ваххабина – ваххабиты, сторонники религиозно-политического движения в суннитском исламе, возникшего в Аравии в середине XVII в. на основе учения Мухаммеда ибн Абд Аль-Ваххаба). В свою очередь ваххабиты считали последователей традиционного суннитского ислама отступниками от «истинного» ислама Пророка и четырех правоверных халифов. Но на этом ваххабитская пропаганда не останавливалась, поэтому и в Чеченской Республике, и в Республике Дагестан сторонниками ваххабизма были выдвинуты претензии к верховной власти в терминах борьбы за установление шариатской формы правления и непризнания светских законов, придуманных, по их мнению, волей человека.
В силу возникшей опасности, угрожавшей национальной безопасности России, ее единству и территориальной целостности, вопрос проникновения зарубежного ислама в его крайне опасной экстремистской форме в российские мусульманские регионы стал приобретать особую значимость и актуальность. Ряд исследователей считают, что корень зла находится «внутри» самих исламских регионов России. К примеру, С. Маркедонов пытается доказать, что критика республиканских властей со стороны дагестанских ваххабитов связана с нерешенностью многих вопросов, в частности, социально-экономического характера, а «массовые злоупотребления служебным положением республиканских чиновников, коррупция, социальная дифференциация и, как следствие, высокий уровень безработицы, закрытость власти и ее нечувствительность к нуждам населения стали причинами пополнения рядов салафитов». И делается вывод, который позволяет считать ваххабитов чуть ли не волонтерами гражданского общества в отдельно взятой республике: «Салафиты предлагают такую модель ислама, в которой нет места кланам, тейпам, вирдам, этничности. Это – универсальный проект, который может быть востребован в полиэтниче-ском и фрагментированном Дагестане».
Многие ученые-религиоведы и даже государственные чиновники считают, что надо знать и использовать сильные стороны религиозного экстремизма. Они названы в аналитической справке Комитета Правительства РД по делам религий, это: рационализм и доступность ваххабитской доктрины; ее способность транслировать протест против традиционных форм социальной организации; ваххабитская идеология провозглашает идеи духовного эгалитаризма, проповедует равенство верующих перед Аллахом, что, в свою очередь сочетается в их учении с призывами к социальному равенству и справедливости. Однако эти сильные стороны ваххабизма и многообразие их проявлений, которые так симпатичны многим аналитикам, дискредитируются в глазах общественности, рядовых верующих методами вооруженного насильственного установления «исламских порядков». Есть расхождения и о причинах религиозного экстремизма, которые сводятся в основном к двум взаимоисключающим подходам – внешнего и внутреннего характера. По мнению социолога З. Абдулагатова, позиция духовенства и властных структур в большей степени склоняется к определяющей роли внешнего влияния: мусульманское образование за рубежом, миссионерская деятельность, деятельность зарубежных неправительственных организаций, экономические интересы транснациональных компаний, геополитические интересы отдельных государств и др. Есть точка зрения, что наши беды, связанные с экстремизмом, обусловлены главным образом внутренними причинами… До сих пор государство в лице лидеров различного уровня не признавало публично важность в борьбе с религиозным экстремизмом решений социально-экономических проблем.
Практика государственно-конфессиональных отношений оказывается многообразнее теоретических положений и деклараций. В деле обеспечения прав и свобод граждан, их безопасности государству принадлежит главенствующая роль. Так, Государственный совет РД, Народное собрание РД и Правительство РД приняли несколько постановлений, в которых осуждались действия религиозно-политических экстремистов по дестабилизации общественно-политической ситуации в Дагестане, на Северном Кавказе. В них же были предусмотрены конкретные меры по борьбе с религиозно-политическим экстремизмом, меры по ликвидации последствий вооруженного вторжения международных бандформирований со стороны Чечни в Дагестан в августе-сентябре 1999 г. 16 сентября 1999 г. Народное собрание РД приняло Закон РД «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан». Закон запрещает создание и функционирование ваххабитских организаций, групп или объединений, запрещает деятельность религиозных миссий, их филиалов, учебных заведений, физических лиц, проповедующих идеи ваххабизма. Таким образом, к различным проявлениям исламского фактора следует относиться весьма внимательно, разбираясь с его причинами, предвидя его последствия.
Однако при всей активности исламского фактора он не привел к серьезному идеологическому расколу всего дагестанского общества и подверг относительной дестабилизации лишь религиозную общину Дагестана. В этом отразились наши региональные базовые ценности, характеризующиеся наличием большого набора идеологических и духовно-нравственных приоритетов.
Итак, помимо причин внутрироссийского порядка, на степень и формы проявления политизации оказали значительное влияние и внешние причины.
Сочетание внутренних и внешних факторов привело к тому, что политический радикализм в исламе из потенциальной угрозы безопасности Российской Федерации стал реальной. Причем, если попытка создания исламского государства на территории Чеченской Республики являлась во многом следствием внешней «исламизации» сепаратистского конфликта на довольно поздней стадии, то события в селах Карамахи и Чабанмахи демонстрируют возможность вызревания внутренних причин радикализации ислама. Как пишет Д.С. Маханов, жители этих сел «решили выступить против господствовавшей, по их мнению, в республиканских институтах власти коррупции и с этой целью задумали создать на территории своих сел “истинный исламский порядок”». И хотя, по мнению того же автора, жители этих сел «не были радикалами», подобное изменение принципов общественного устройства означает выход этого, пусть даже небольшого, участка территории Российской Федерации из ее правового поля, что можно характеризовать как «скрытый сепаратизм». Еще раз следует подчеркнуть, что события в этих селах Дагестана носили, прежде всего, не религиозный, а политический характер, так как явились результатом конфликта по поводу существующей практики отправления властных полномочий.
Таким образом, анализ причин возникновения радикализма в исламе дает возможность определить его, прежде всего, как политическое явление. Политический радикализм в исламе имеет, по сути, нерелигиозную природу. Его причина вовсе не в том, что ислам не приемлет принципов организации современного общества.
«Политическая религия: Теория и методология исследования проблемы», Ставрополь, 2010 г., с. 81–96.
РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКИХ ЛИДЕРОВ
ПОВОЛЖЬЯ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Н. Семёнов, политолог (г. Саратов)
В силу актуальности роли мусульманского фактора в общественно-политических процессах Саратовского региона и России в целом рассмотрим некоторые факторы, которые прямым образом влияют на конфликтогенную обстановку в регионе.
В Саратовской области существует централизованная мусульманская религиозная организация – Духовное управление мусульман Поволжья (ДУМП), в состав которой входят десятки зарегистрированных и незарегистрированных мусульманских общин. Растет число национальных общественных организаций, представляющих в общественной жизни интересы казахов, татар, башкир, азербайджанцев, чеченцев и других народов, традиционно исповедующих ислам, лидеры которых входят в актив ДУМП. В работе все эти организации определены как национальные общественные организации народов, традиционно исповедующих ислам (НООНТИИ), хотя могут иметь разные организационно-правовые формы.
В работе используются результаты проведенных автором экспертных опросов среди видных общественных деятелей Саратовской области – работников и духовных лиц ДУМП и лидеров НООНТИИ, в их числе: руководитель пресс-службы ДУМП А. Махметов; имам Саратовской соборной мечети, директор медресе «Шейх-Саид» P.M. Кузяхметов; председатель Совета Саратовской областной казахской национально-культурной автономии М.С. Бисенгалиев; руководитель Департамента благотворительности ДУМП А.О. Гянджалиев; председатель исполкома Саратовской региональной татарской национально-культурной автономии, председатель башкирской национально-культурной автономии З.Ш. Хакимов; заместитель председателя Саратовского областного центра казахской культуры «Казахстан» У.М. Джунельбаева; председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Саратовской области А.П. Зуев; председатель правления Саратовской региональной чечено-ингушской общественной организации «Вайнах» С. – А.И. Элесов. Основанием для выводов, сделанных в работе, послужила экспертная оценка имама ДУМП, шейха М.А. Бибарсова. В работе приведены эмпирические данные социологических исследований, проведенных при участии автора Центром информационно-аналитического и социологического обеспечения государственной службы Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина посредством интервьюирования населения Саратовской области.
На протяжении последних лет в российском обществе происходит процесс религиозного возрождения. В общественной сфере религия как явление представлена своими последователями (верующими, прихожанами), духовными лицами, другими акторами гражданами. Активность религиозных организаций сейчас находится на высоком уровне и продолжает возрастать. Религиозные организации – постоянные участники общественных мероприятий, а их представители являются членами различных общественных институтов, в том числе Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов России и т.д. Многие вопросы и сейчас остаются открытыми: является ли религия пережитком прошлого? сохранится ли она в будущем? какими путями пойдет человечество? будут обостряться или нивелироваться межрелигиозные и иные противоречия? Возможно, ответы зависят от того, насколько глубоко осознана опасность применения насилия, террора, насколько сильна будет роль религиозного фактора, а также от того, как общество будет относиться к ценностям мировых религий, в том числе ислама.
По количеству верующих ислам занимает второе место в России. Численность представителей этносов, традиционно исповедующих ислам, в настоящее время увеличивается. Ислам – одна из трех мировых религий, которая имеет множество последователей, обладает существенным авторитетом в ряде обществ, является государственной религией в некоторых странах.
Важно отметить, что для изучения соотношения мусульманского фактора и террора в современной российской действительности необходимо проанализировать основные составляющие того и другого явления. Никакая другая конфессия в России не вызывает к себе столь противоречивого отношения, как ислам. Определить, кого можно считать мусульманином, помог авторитетный духовный мусульманский лидер М.А. Бибарсов: того, «кто признает единственность Бога, Его пророков, Мухаммеда как последнего посланника и пророка». На вопрос, по каким критериям можно определить, является ли человек мусульманином, имам ДУМП ответил, что критериями в данном случае выступают «молитва, пост, хадж, закят, отношение к родителям, запретному и дозволенному». Известный политолог, исследователь российского ислама А.В. Малашенко считает, что критерием в данном случае выступает самоидентификация человека.
Численность народов, традиционно исповедующих ислам, в России, согласно переписи населения, составила 14,5 млн. человек. Рождаемость среди мусульман в целом выше, чем среди немусульман. По мнению А.В. Малашенко, численность мусульман в мире составляет около 1 млрд. человек, а мусульманские общины зарегистрированы более чем в 120 странах, в 30 из которых ислам признан государственной религией. Мусульманская умма динамична, ее численность и роль в мировой экономике, политике, культуре постоянно растут, в том числе в регионах, еще недавно не знавших ислама.
Ислам как крупный социальный институт – явление сложное и противоречивое, включающее множество различных течений и толков. Ислам в большей степени, чем другие мировые религии, включен в систему социального регулирования. Практически все стороны жизни мусульманина объявляются религиозно значимыми. Таким образом создаются предпосылки для всесторонней политизации ислама. В заповедях ислама об устройстве человеческого общества и властных отношениях в нем утверждается, что мусульманин должен участвовать в общественной жизни. Стремительное развитие мусульманства в общественно-политической жизни России не в последнюю очередь обусловлено отсутствием государственной идеологии и наличием массовых миграционных процессов, которые усилились с начала 1990-х годов. К тому же росту влияния ислама на общество способствует большая активность мусульманских духовных лидеров.
Однако в последнее время понятия «ислам» и «терроризм» стали тождественны в глазах многих людей; появился феномен исламофобии, что влечет за собой опасность разжигания розни в обществе. Настораживающими являются попытки «демонизации» ислама. В информационном пространстве распространяются сведения об исламофобии, охватившей США после трагических событий 11 сентября 2001 г., а также силовых акций США в Афганистане; после агрессии против Ирака, предпринятой вопреки позиции большинства стран, входящих в ООН; тупиковой ситуации в Палестине, оккупированной Израилем.
Для Российской Федерации, где граждане-мусульмане составляют значительную часть населения и соседями которой являются государства Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока с преобладающим мусульманским населением, отношения с миром ислама являются острейшей проблемой национальной безопасности. В связи с этим крайне важными представляются философское осмысление места и роли ислама в современном меняющемся мире, определение критериев и индикаторов, позволяющих различать ислам как религиозную систему и экстремистские и идеологические течения и группы, выступающие от имени ислама, и на этой основе разработать систему профилактики и искоренения террора.
Сегодня издано большое число научных работ, посвященных терроризму в России и за рубежом, но мало исследований с научно достоверными данными о механизмах террористических преступлений и особенно о лицах, их совершивших. Зачастую это единичные факты, обычно почерпнутые из периодических изданий и телевизионных передач. По мнению авторитетного мусульманского духовного лидера Р. Гайнутдина, терроризм имеет глубокие социально-экономические и политические корни, а односторонний подход к выводам о его происхождении неприменим и является одной из причин дестабилизации общества. Известно, что на протяжении ряда лет наблюдается рост числа преступлений террористического характера: если в 1997 г. их было 1290, то в 2005 – 1728. Возросло также количество таких уголовно наказуемых деяний, как организация незаконного вооруженного формирования. Достаточно сказать, что в том же 1997 г. зарегистрировано всего одно подобное преступление, а в 2005 – уже 356.
Терроризм особенно опасен тем, что его идеологи часто прикрываются религиозным фактором, в частности исламом, используя вырванные из контекста цитаты Корана. Но многие уважаемые мусульманские религиозные организации заявляют, что терроризм и ислам – в корне противоречащие одно другому явления, а убийство, насилие и угнетение людей как проявления террора – это величайшее бесчестие. В сборнике переводов фетв имамов под редакцией И. Шангареева «Ислам против терроризма» говорится, что квинтэссенцией ислама и повелений Аллаха являются справедливость и гуманизм. Можно утверждать, что именно эти две категории являются основополагающими в деле борьбы с террором.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: