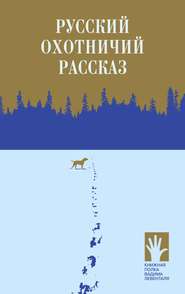скачать книгу бесплатно
– А брат у меня сбежал.
– Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
– А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором[8 - Форейтор – при езде четверками или шестерками верховой, сидящий на одной из передних лошадей.] был, садовником, а то и доезжачим[9 - Доезжачий – старший псарь, распоряжающийся борзыми и гончими на псовой охоте.].
– Доезжачим?.. И с собаками ездил?
– Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.
– Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?
– Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.
– Какое ж тут ученье в двадцать лет?
– Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, – меня в деревню и вернули.
– Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?
Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.
– Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!
– Ну, – промолвил я, – видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?
– А я, батюшка, не жалуюсь. И славу богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика – Андрея Пупыря – в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть… А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.
– Есть у тебя семейство? Был женат?
– Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница – царство ей небесное! – никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»
– Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?
– Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются – и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!
Ермолай вернулся.
– Справлена лодка, – произнес он сурово. – Ступай за шестом – ты!..
Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.
– Глупый человек-с, – промолвил он, когда тот ушел, – совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с… и все хвастал-с… Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!
Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.
Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.
Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я – довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» – и то и дело почесывал спину – не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.
Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, – как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновенье мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.
– Тьфу ты, пропасть! – пробормотал он, плюнув в воду, – какая оказия! А все ты, старый черт! – прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. – Что это у тебя за лодка?
– Виноват, – пролепетал старик.
– Да и ты хорош, – продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, – чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты…
Но Владимиру было уж не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!
Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами… В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» – подумал я.
– Как нам быть? – спросил я Ермолая.
– А вот посмотрим: не ночевать же здесь, – ответил он. – На, ты, держи ружье, – сказал он Владимиру.
Владимир беспрекословно повиновался.
– Пойду сыщу брод, – продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, – взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.
– Да ты умеешь ли плавать? – спросил я его.
– Нет, не умею, – раздался его голос из-за тростника.
– Ну, так утонет, – равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.
– И без всякой пользы пропадет-с, – жалобно прибавил Владимир.
Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.
Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.
– Ну, что?
– Был на берегу; брод нашел… Пойдемте.
Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, – тут направо колдобина!» или: «Правей, – тут налево завязнешь…» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри: «Ну, ну, ну!» – грозно кричал на него Ермолай, – и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега.
Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом… Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна… На селе раздавались песни.
Егор Дриянский
Записки мелкотравчатого[10 - Мелкотравчатыми, на охотничьем языке, называются те охотники, которые держат не более десяти собак и охотятся с ними без гончих – на хлопки (прим. Е. Дриянского).]
(отрывок)
После обеда между охотниками начался жаркий спор с различными шутками, прибаутками и прочими вариациями. Стерлядкин отпускал остроты насчет Бацова и ловко над ним подтрунивал; последний возражал, горячился, отбранивался, но все это было у него как-то невпопад, как говорят – «не в строку». Меня одолевала дремота, но уснуть не было возможности, потому что волею-неволею я обязан был состоять в роли свидетеля и посредника.
– Ну, ты, скажи, пожалуйста, так ли это все было, как я говорил? – обращался ко мне Атукаев, рассказывая о подвиге Чауса.
Вслед за тем Бацов, в споре со Стерлядкиным и прочими, приступил ко мне с умоляющим видом: «Ну, вот ты, как сторонний человек, уверь их, пожалуйста» – т. п.
Правду сказать, не видавши по дальности расстояния ничего, что делалось на той стороне котловины, я брал многое на совесть, но, не желая оставить в одиночестве бедного Луку Лукича, поддерживал его, сколько мог.
Вскоре, однако же, этим разговорам положен был конец. Вошел стремянной[11 - Стремянной – конюх при всаднике, принимающий от него лошадь и подающий ему стремя.] и доложил Атукаеву, что к нему припожаловал пастух Ерема.
– Ну, вот кстати; давай его сюда! – проговорил граф стремительно. – Вот вам, господа, и конец всем побасенкам, – прибавил он, обратясь к Бацову и Стерлядкину. – Верно, есть подозренный[12 - Подозрить – увидеть, заметить зверя на его лежке.].
С этим словом в отворенную настежь дверь протиснулся необычайного вида человек. Ростом он был – косая сажень, лицом страшен, борода всклочена, в нечесаной голове торчали солома и ржаные колосья. Наряд его состоял из лаптей, посконных затасканных портов и побуревшего сермяжного полукафтанья с множеством заплат и отрепанными рукавами; под мышкой держал он баранью шапку, а в правой руке такую палицу, что ой-ой! При взгляде на это страшилище мне тотчас вспал на мысль Геснер[13 - Геснер Саломон (1730–1788) – швейцарский поэт, автор произведений, изображающих условных пастухов и пастушек в галантном стиле.], с его Меналками, Дафнисами, Палемонами и со всею вереницею пригоженьких лиц, удержанных памятью из детского чтения. Поверх кафтана, от дождя, Ерема драпировался толстою неудобосгибающейся и не идущей в складки дерюгой, накинутой на плечи в виде гусарского ментика[14 - Ментик – короткая накидка с меховой опушкой.].
Помолясь святым, Ерема поклонился всей честной компании, отшатнулся к притолке и загородил собой дверь.
– Что скажешь, Ерема? – начал граф.
– Русачка обошел, ваше графское сиятельство! – произнес Ерема таким голосом и тоном, по которому можно было понять сразу, что этот страшный и неуклюжий детина был простейшее и добрейшее существо.
– Хорошо. А где лежит? На чистоте? Травить можно?
– Как же, батюшка! В Мышкинских зеленях[15 - Зеленя – озимь, поле, засеянное озимыми.], на мшищи[16 - Мшищи – мхи, участок, обильно покрытый мхом.]. Трави – куды хошь. Матерой русачина; сулетошний[17 - Сулетошний – старый, в годах.]. Он самый, батюшка, безобманно…
– А, ну, если только он, так спасибо! Вот тебе за усердие, – граф подал ему целковый рубль, – а эти господа еще от себя прибавят. Только смотри, тот ли? Пожалуй, вместо его, ты насадишь собак на какого-нибудь настовика[18 - Настовик – молодой заяц, февральский или мартовик (прим. Е. Дриянского).]! Как бы нам не сплоховать!
– Будьте в надежде, батюшка, ваше графское сиятельство, он самый; уж я к нему пригляделся: что ни день, почитай, видаю. И к скотине приобвык… энто, нарочно нагоню стадом, – только что ужимается, пес, да уши щулит[19 - Щулить – прижимать.]… лобанина такой…
– Ну, вот вам, господа, и делу конец! – сказал Атукаев Стерлядкину и Бацову. – Вот и увидим, чья возьмет. А уж русачок, рекомендую, распотешит дружков, если это лишь тот, которым я прошлый год потешался раз до трех. Так уж скажу наперед – одолжит! Будет за кем повозить воду! Ну, Лука Лукич?
– Что ж, пустяки, – отвечал Бацов, выпуская обильную затяжку дымом, но в этих как-то небрежно сказанных словах уже было заметно раздумье.
– Этак, пожалуй, мы, не долго думая, и на попятную… – прибавил Стерлядкин.
– У, щучья пасть! На попятную! Кто на попятную? Ты, что ли, пойдешь?
И у Бацова с Стерлядкиным пошли перекоры. Пользуясь их увлечением, граф подмигнул мне глазом, и я пошел с ним в соседнюю светелку.
– Поддерживай, пожалуйста, Луку! – сказал он почти шепотом. – Мне хочется, чтоб он отравил этого барышника (Стерлядкина): уж он слишком допекает бедного Бацова, а Карай, может быть, и оскачет: собака по породе выше Азарного.
– Что ж, господа, полноте вам спорить, не видя дела. Хотите сажать[20 - Сажать – здесь: травить наперегонки, соревнуясь собаками.] – уступлю вам зайца, а не хотите – стану мерять своих молодых, – сказал Атукаев, входя обратно.
– Вот тебе и весь сказ! – возразил Стерлядкин Бацову. – Идет, так? Я не отступаю от вчерашнего уговора… Только не иначе, как на завладай, и заднюю по хвосту. Мне не жаль собаки…
– Ну, вот, что ты меня, дурака, что ли, нашел! Пущу я на завладай с осенистой[21 - Осенистая – старая, опытная собака, нескольких осеней.] и втравленной собакой! Тебе говорят русским языком, что Карай – погодок[22 - Погодок – здесь: годовалый.] и скачет щенячью… До угонки, изволь. Я те вставлю очки! Разве я не видал твоего редкомаха[23 - Редкомах – собака, которая во время гона бежит мерно, широко и не частит ногами.]? За псарскими воду возит; а тут… Пустяки, брат… ты меня храбростью не удивишь!
– Ха, ха, ха! Вот он каков! А вчера как рисовался?
– Полноте, господа, кончайте! К чему тут в далекое забегать? Еще собак вздумали портить!.. Померили – и конец… Вы за славу, а мы за вас попридержим. Ты за кого держишь? – спросил меня граф.
– Я? Теперь пока не знаю. А вот взгляну, которая покажется, – отвечал я.
– Ну, и прекрасно! Так идет, что ли, господа? Велите ввести собак.
– Да к чему и вводить? У нас семь пятниц на неделе. А там, пожалуй, чего доброго, еще и разревется, как тюлень на льду, – произнес как-то свысока и самонадеянно Стерлядкин, поднимаясь со стула.
– А ты, щучья п… – начал было Бацов с свойственной ему быстротою и энергией, но граф не дал ему кончить. Все мы приступили к состязателям и уговорили их «мерить собак» просто, а сами вызвались присутствовать в качестве судей и общим приговором утвердить славу за быстрейшей.
Послали привести собак на погляденье. Первого – Азарного – ввел Стерлядкина стремянный на своре. Это была муруго-пегая[24 - Муруго-пегая – рыже-бурая или буро-черная пятнистая собака.], чистопсовая[25 - Чистопсовая – чистопородная, чистокровная русская борзая.] собака, собранная вполне, рослая, круторебрая, на твердых ногах, но собака скамьистая[26 - Скамьистая – или прямостепая, то есть с ровной спиной (прим. Е. Дриянского).] и с коротким щипцем[27 - Щипец – т. е. пасть, вытянутая морда собаки.]. Увидевши своего господина, она степенно подошла к нему и положила голову на колено.
Вслед за ним, на свист Бацова, вихрем влетел Карай в комнату и, прыгнув к нему на грудь, заскиглил[28 - Заскиглил – завизжал, заскулил.] и замахал хвостом.
– Ох ты мой… шалунок!.. – приговаривал Бацов, лаская своего любимца. Карай спустился на пол и начал бегать и обнюхивать. Это была очень породистая густопсовая[29 - Густопсовая – чистопородная собака с густой шерстью.] собака, почти во всех ладах: он был немного лещеват[30 - Лещеватый – сухой, костлявый.], но с крутым верхом[31 - С крутым верхом – спина с овалом (прим. Е. Дриянского).] и на верных ногах: сухая голова, глаза на выкате, тонкий щипец, хотя немного подуздоват[32 - Подуздоват – нижняя челюсть короче верхней.]. Глядя на этого, с черною лоснящеюся шерстью и проточиной[33 - Проточина – здесь: белая полоска.] на лбу, белогрудого красавца, видно было, что он еще не опсовел[34 - Не опсовел – то есть еще не покрылся достаточно густой (по породе) шерстью.] и по молодости не сложился вполне, но по ладам и «розвязи» нельзя было не предпочесть его Азарному.
– Ну-с, ваше сиятельство, – сказал я полушутя, – если б пришлось попридержать, я бы не отстал от Карая.
– И прекрасно, – отвечал Атукаев, – а я, пожалуй, потянусь за Азарным.
Трутнев подобострастно примкнул к графу и хвалил Азарного; г. Бакенбарды молча управлялся с недопитым стаканом.
Карай, как будто понимая мои слова, прыгнул ко мне на грудь, но эта минутная ласка ничего не значила в сравнении с тем взглядом, каким подарил меня Бацов.
Через полчаса охота в полном составе тронулась с места. Сопутствуемые ватагой мальчишек, мы выехали за околицу. Граф приказал ловчему[35 - Ловчий – главный псарь, старший над псарями; управляет всем порядком псовой охоты.] идти в Глебково, но если не будет дождя, остановиться в завалах, где надеялись найти лисиц; ловчий со стаей и охотниками принял налево и пошел торной проселочной дорогой; мы же, по следам Еремы, разровнялись и поехали прямо полем. Кроме Карая и Азарного, с нами не было собак. Впереди всех, держа по-прежнему шапку под мышкой, широко шагал наш необыкновенный вожак: он, казалось, продвигался вперед очень медленно, но лошади наши постоянно шли за ним тротом[36 - Трот – аллюр, укороченная, не быстрая рысь.]; вскоре начались зеленя, и посредине их возвышался небольшой, засеянный рожью же курган; налево это озимое поле отделялось от овсянища широким рубежом, и тот же самый рубеж загибал под прямым углом и тянулся направо по легкому скату в болотную ложбину, поросшую кустарником и молодыми березками, где и заканчивались озими.
Поднявшись на темя теперь почти незаметного для нас возвышения, казавшегося издали плоским курганом, пастух остановился и показал прямо на низину поля, где, саженях в сорока от нас, был круглый мшарник[37 - Мшарник – участок, поросший мхом.], или, лучше сказать, не засеянный рожью мочевинник[38 - Мочевинник – заболоченный участок.], каких бывает множество в озимых полях: желтая сухая трава ярко отделялась от окаймлявших ее густых зеленей.
– Ну, как, сударики, прикажете? Куда гнать будем? – спросил Ерема Бацова и Стерлядкина.
– Да он здесь? – спросили оба разом.
– Тутотка, вон, влеве, к самой головке.
– А куда передом? Ты видел?
– Да так вот, на вынос, в угол, к рубежам.
– Не хлопочите, господа! – сказал граф. – Если это русак и материк, так я вас уверяю, что он потянет рубежом; другого ходу у него быть не может, и как вы ни отъезжайте, а на жниво вам его не сбить, скорей же заловят на зеленях, если осилят.
– Как же поднимать? – спросил Бацов.
– Просто спуститесь на вашу грань – и катай из-под арапника[39 - Арапник – длинная охотничья плеть с короткой рукояткой.]. Сосворьте собак.
– Кому ж показывать?
– Да вот хоть мой стремянный. Ларка, – продолжал Атукаев своему стремянному, – насади собак и доскакивай! А ты, Лука Лукич, отдай свой арапник Ереме: он поднимет русака. Да не путай же своры, экая горячка! Смотри, точно на эшафот его ведут! Ну, брат, вижу, ты огневый!..
И точно, отдавши арапник пастуху, Бацов принялся сосворивать собак; я заметил, как, пропуская свору узлом внутрь, дрожащие руки его едва попадали в кольца.
– Что он делает? – крикнул граф. – Смотри, Лука, как ты сосворил? Ты захлеснешь кобелей на мертвую петлю или сам полетишь с седла!
– Ах, да не торопите… вижу!.. – приговаривал Бацов, суетливо вымахивая свору назад.
Наконец, уладивши дело, он очутился в седле.