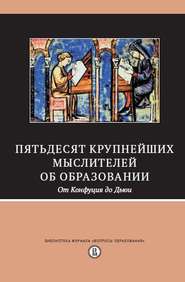скачать книгу бесплатно
ИЗУЧЕНИЕ
Каким же образом выстраивается это знание в уме человека? Аристотель отвергал и теорию Платона, согласно которой знание является врожденным. Для Аристотеля знание начинается с чувственного восприятия: мы наблюдаем за предметами или явлениями и из этого наблюдения выстраиваем в уме общий принцип, помогающий нам понять и объяснить эти предметы или явления. Это процесс индуктивного мышления, приводящий от частного наблюдения к общим выводам. Это, разумеется, первейший способ мышления в естествознании в противоположность дедуктивному методу в математике. И опять-таки тут очевидны различия между Аристотелем и Платоном: Платон заинтересован в первую очередь в математике, Аристотель – в естествознании.
Аристотель, безусловно, понимал, что не всякое мышление является индуктивным. Как только мы установили общий принцип, мы можем делать из него частные выводы. Например, из посылок о том, что все люди смертны, а Сократ является человеком, можно сделать вывод, что Сократ смертен. Такой способ мышления известен как силлогистический. Аристотель его подробно описал.
Однако у Аристотеля подлинное развитие нового знания обычно достигается индуктивным методом, а процесс изучения – это наращивание в уме картины действительности, соответствующей реальному миру, существующему вне нас. При рождении наш разум напоминает чистую доску, но наделенную способностями действовать в соответствии с впечатлениями, поступающими из внешнего мира. Роль учителя состоит в том, чтобы помочь ребенку систематизировать этот огромный эмпирический опыт, как-то структурировать многочисленные разнородные элементы. С тех самых пор такая модель работы учителя не менялась.
ЛИЧНОСТЬ
Аристотель считал, что люди наделены душой, дающей форму телу, являющемуся материей. Заметим, что Аристотель говорил о душе не в том смысле, какой вкладываем в это понятие мы сегодня, у нас оно полностью христианизировано. Вряд ли он верил, что душа может существовать отдельно от тела.
Исходя из того что все на свете совершается с определенной целью, Аристотель в своей «Никомаховой этике» задается вопросом: в чем цель человечества? Его ответ: в поисках счастья. Это единственное самодостаточное благо. Но как нам достигнуть счастья? Ответ прост: будучи добродетельными. Если кому-то это покажется неубедительным, Аристотель развивает свою мысль, проводя различие между интеллектуальной и нравственной добродетелью. Первая эквивалентна тому, что мы называем мудростью или разумом, она приобретается обучением, в то время как нравственная добродетель определяется нашим поведением по отношению к другим людям и в основном приобретается практикой. Когда Аристотель говорит, что добродетель необходима для счастья, он подразумевает обе добродетели.
Нам также следует помнить, что древнегреческое слово, которое мы переводим как «добродетель», не полностью совпадает по значению с привычным нам словом. Древнегреческое слово звучит как «арете», что примерно переводится как «внутреннее совершенство» или «готовность к цели». С учетом этого проще понять, почему Аристотель так высоко ценил добродетель. Если в людях нет добродетели, значит, они не функционируют должным образом, не выполняют своего предназначения, т. е. они не способны достигнуть счастья.
Из двух типов добродетели, которые Аристотель выделяет в «Никомаховой этике», именно к нравственной добродетели он проявляет наибольший интерес, именно ее анализирует особенно подробно. Стараясь постичь, что в ней важнее всего, Аристотель развивает идею о том, что добродетельный поступок – это обычно средний путь между двумя крайностями. Например, добродетель щедрости – это середина между скупостью и расточительством. Данная доктрина приобрела известность как «золотая середина», и с тех пор ее сделали своим знаменем моралисты, верящие в умеренность во всем и всем советующие не увлекаться эмоциями.
Позиция Аристотеля, настаивающего на том, что добродетель необходима для счастья, казалось бы, рассматривает добродетель всего лишь как средство, другими словами, мы должны вести себя хорошо только потому, что это скорее всего принесет нам счастье. Но здесь опять мы сталкиваемся с трудностями перевода. Греческое слово «эвдемония», которое мы переводим как «счастье», означает отнюдь не только ощущение личного довольства (о чем говорит сам Аристотель[37 - The Ethics of Aristotle. P. 326–328 (1176a-1177a).]), оно означает судьбу человека, ведущего добродетельную жизнь. Это включает понятие «быть счастливым» в современном смысле слова, но означает также, что обретенное состояние долговременно и стабильно, что оно распространяется на всю жизнь индивида. В хорошо известном пассаже, ставшем поговоркой, Аристотель замечает: «Ведь одна ласточка не делает весны и один теплый день тоже; точно так же ни за один день, ни за краткое время не делаются блаженными и счастливыми»[38 - Ibid. P. 76 (1098a).]. И еще Аристотель рассматривал «эвдемонию» как по необходимости дело общественное, включающее надлежащее исполнение своей роли в обществе.
Следующая ступень в рассуждениях Аристотеля – это вопрос: какое из занятий индивида наилучшим способом проявляет его добродетель в полном масштабе и что, следовательно, принесет нам счастье на долгие годы? Ответ Аристотеля – «теория», т. е., по-нашему, созерцание или попытка интеллектуального осмысления. Именно здесь самым наглядным образом проявляется отличающая человека функция разума. (Тут вспоминается данное Аристотелем и хорошо известное определение человека как «разумного животного».) Так что в конечном счете его вывод довольно близок к выводу Платона, за исключением того момента, что для Аристотеля созерцание нацелено в первую очередь на более полное понимание материального, видимого мира, окружающего нас, а не сосредоточено на неком идеальном мире абстрактных форм. Любопытно отметить связь между этими двумя греческими мыслителями и некоторыми восточными мистиками, а также теми, кто видит в медитации нашу высшую и самую благородную деятельность.
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО
Основным источником идей Аристотеля на эту тему является его «Политика». Как и на Платона, на Аристотеля оказало влияние его аристократическое происхождение. Он считал, что некоторые люди по природе своей рабы или чернорабочие, а другие рождены, чтобы быть воинами или правителями. Однако он не с таким недоверием относился к демократии, как Платон, и отдавал предпочтение форме правления, которую называл «полития», где государство управляется в каком-то смысле лучшими, мудрейшими представителями народа.
Как и Платон, Аристотель верит, что государство должно осуществлять полный контроль над образованием и пользоваться своей властью для подготовки нужного типа граждан, полезных для самого государства. Опять-таки как и Платон, он проявлял подлинный интерес к образованию свободного гражданина Греции: чернорабочие и рабы нуждались лишь в самом примитивном обучении для совершения своей работы.
Теперь, познакомившись в самом общем плане с представлениями Аристотеля в таких областях, как знание, изучение, человеческая природа и общество, мы можем исследовать выводы, вытекающие из всего этого для его специфических образовательных рекомендаций. Ему есть, что сказать, главным образом о нравственном образовании, и, как мы уже заметили, он считал, что нравственная добродетель в основном приобретается практикой. Как он сам говорит: «Мы становимся справедливыми, совершая справедливые поступки, воздержанными, совершая воздержанные поступки, мужественными, совершая мужественные поступки»[39 - Ibid. P. 91–92 (1103b).]. Отсюда важность правильного воспитания, осуществляемого родителями и учителями. Если детей с раннего возраста приучить к правильным поведенческим моделям, подавая им нравственный пример, для них это станет второй натурой. Совет Аристотеля стал популярной моделью воспитания с тех самых пор.
Затем он выдвигает возражение против того, что сам только что сказал. Он говорит, что, если мы станем нравственными, совершая нравственные поступки, разве это не означает, что мы уже высоконравственные люди? Иначе как бы мы вообще могли совершать нравственные поступки?[40 - Ibid. P. 97 (1105a).] Его ответ на этот вопрос является вехой в размышлениях о нравственном воспитании, он до сих пор оказывает влияние на нашу жизнь. И опять-таки здесь проводится важное различие, на этот раз между поступками, совершенными в соответствии с нравственными нормами, и собственно нравственными поступками. Само по себе поведение может быть одним и тем же (например, помощь нуждающимся), а разница заключается в состоянии ума человека, совершающего поступок, и в его мотивации. Чтобы поступок был по-настоящему нравственным, говорит Аристотель, необходимо соблюсти три условия: 1) мы должны действовать, вооружившись знанием; 2) мы должны сознательно выбирать действие ради самого действия; 3) действие должно проистекать из внутреннего склада души или характера[41 - The Ethics of Aristotle. P. 97 (1105a).]. Эти три черты стали общепризнанными в качестве необходимых характеристик полноценного нравственного поступка.
С другой стороны, нравственные поступки могут совершаться просто по привычке, из страха наказания, чтобы добиться одобрения и т. д. Поэтому Аристотель сам дал ответ на поставленный им вопрос: вполне возможно совершать нравственные поступки еще до того, как мы стали полностью нравственными людьми. На самом деле это единственный способ начать собственное нравственное просвещение. По мере того как дети интеллектуально взрослеют, подлинные причины, по которым они должны совершать нравственные поступки, могут быть им объяснены, после чего дети перейдут к нравственным поступкам, совершаемым принципиально. Современные психологи, такие, как Ж. Пиаже или Л. Кольберг, доказали на практике то, что здесь говорит Аристотель.
Что же еще внесено в расписание, помимо нравственного воспитания? Здесь Аристотель мало что говорит открыто, но у него была пошаговая программа, в чем-то схожая с программой Платона[42 - См. книги VII и VIII «Политики» для более подробного представления.]. До семилетнего возраста предусматривались в основном физические упражнения и воспитание характера. С семи до половой зрелости и далее до двадцати одного года наступает период образования под контролем государства. Основные предметы – гимнастика, чтение, рисование и музыка. Изо всех этих предметов Аристотель подробно писал о просветительской ценности музыки[43 - См. книгу VIII «Политики».]. Помимо своей непосредственной ценности эти предметы направлены также на подготовку полноценного гражданина Греции в заключительный период его образования, который, как предполагалось, должен был продолжаться до конца его дней. Этот период образования выходил за пределы школы. Слово «его» используется здесь не случайно, потому что Аристотель (в отличие от Платона) категорически исключал участие женщин в высших ступенях образования.
Последний этап данного периода – свободное образование. «Свободным» его называют по двум причинам. Во-первых, свободное образование освобождает ум от невежества. Во-вторых, это образование для свободных людей. Предметы, которые предстояло изучать в этот период, сходны с теми, которые, как мы считаем, преподавались в аристотелевском Ликее. В основном это математика, логика, метафизика, этика, политика, эстетика, музыка, поэзия, риторика, физика и биология.
Именно этот последний период прежде всего интересовал Аристотеля, именно его великий мыслитель считал достойным времяпрепровождением, только в нем видел он истинную самоценность. Понятие истинной самоценности образования (в противовес любым профессиональным или практическим преимуществам, которые можно приобрести благодаря ему) было лейтмотивом просветительской мысли со времен Аристотеля, хотя многие сегодня, возможно, считают, что существует опасность потерять его из виду в нынешнем климате экономического рационализма. Аристотель особенно резко и презрительно отзывался об использовании образования в любых внешних или утилитарных целях: именно в этом его аристократические предрассудки проявляются особенно заметно. Профессиональное обучение предназначалось исключительно для низших классов. Лишь полноправного гражданина Греции была достойна идея образования, делающего его более совершенным и культурным человеком.
В общем и целом многие ключевые темы в области образования, поднятые Аристотелем, остаются с нами и до сих пор, включая его эмпирическую модель обучения: упор на воспитание нравственных привычек в раннем возрасте, а затем приобретение принципиальной, осознанной нравственности, укоренение идеи, что счастье, добродетель и созерцательность являются взаимосвязанными и ключевыми образовательными целями, и, наконец, идеал свободного образования, нацеленного на внутреннюю самоценность познания.
См. также очерк о Платоне в данной книге и очерки о Пиаже и Кольберге в книге «Пятьдесят современных мыслителей об образовании».
Основные сочинения Аристотеля
Собрания сочинений
Barnes J. (ed.). The Complete Works of Aristotle – The Revised Oxford Translation. Princeton: Princeton University Press, 1984.
McKeon R. (ed.). The Basic Works of Aristotle. N. Y.: Random House, 1941.
The Ethics of Aristotle / J. A. K. Thompson (transl.). L.: Penguin Books, 1955, rev. 1976 by H. Tredennick.
The Politics of Aristotle / T. A. Sinclair (transl.). Harmondsworth: Penguin Books, 1962.
Дополнительное чтение
Книги об идеях Аристотеля в целом
Barnes J. (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Evans J. D. G. Aristotle. Sussex: Harvester Press, 1987.
Книги о взглядах Аристотеля на образование
Bauman R.W. Aristotle’s Logic of Education (New Perspectives in Philosophical Scholarship Texts and Issues). Vol. 19. N. Y.: Peter Lang, 1998.
Howie G. (ed.). Aristotle on Education. L.: Collier-Macmillan, 1968.
Lord C. Education and Culture in the Political Thought of Aristotle. Ithaca; L.: Cornell University Press, 1982.
Verbeke G. Moral Education in Aristotle. Washington, DC: Catholic University of America Press, 1990.
Книги с главами о просветительских идеях Аристотеля
Frankena W.K. Three Historical Philosophies on Education. Glenview, IL: Scott Foresman, 1965.
Rorty A. (ed.). Philosophers on Education: New Historical Perspectives. L.; N. Y.: Routledge, 1998.
Иисус из Назарета (4 до н. э. – 29 н. э.)
К. Л. СЕРАФИН
Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его[44 - The Gospel According to Luke, 11: 27–28 // Holy Bible: New Revised Standard Version. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1989.].
Иисус из Назарета, учитель, проповедник и реформатор, совершил исторический переворот. Иисус учил своей жизнью. Он ходил нехожеными тропами. Его метод и его послание – это головокружительный зигзаг, громогласный диссонанс экстраординарной миссии, вызов и призыв, брошенный людям: думать по-новому.
Иисус родился в Палестине ближе к концу правления Ирода Великого, возможно, около 4 года н. э. Его родителей звали Марией и Иосифом, его генеалогическое древо доходит до царя Давида, жившего около 1000-961 года до н. э. Иисус родился в городе Назарете на юге Галилеи, в сотне миль к северу от Иерусалима и в нескольких милях от Сепфориса (ныне Ципори), крупнейшего города Галилеи. Палестина была присоединена к Римской империи в 63 году до н. э. Ею правили цари, назначенные в Риме.
Мы мало что знаем о его ранних годах, но историки, придерживающиеся господствующего направления в науке, считают, что Иисус научился читать и писать в местной синагоге, а его текстом была Тора. У него было несколько братьев и сестер, его отец был плотником. Вероятно, он умер еще до того, как Иисус начал читать публичные проповеди. Как старший сын, он, вероятно, изучил ремесло отца – производство таких товаров, как хомуты, плуги, дверные рамы, сундуки, мебель. Плотники считались низшими представителями простонародья, потому что не владели землей[45 - Borg M. J. Meeting Jesus Again for the First Time. N. Y.: HarperSan Francisco, HarperCollins Publishers, 1994. P. 26.].
Одна из историй, рассказываемая о двенадцатилетнем Иисусе, свидетельствует о его интересе к религии и рисует портрет отрока, отличавшегося острым умом. Иисус с семьей вместе с другими едет в Иерусалим на ежегодное празднование Пасхи. После праздника семья собирается вернуться в Назарет, но, проведя день в пути, они замечают, что Иисуса в караване нет. Мария и Иосиф возвращаются в Иерусалим, отчаянно ищут его. Через три дня они наконец находят его в Храме, «сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их».
В Евангелии от Луки описано, какое впечатление этот юный отрок произвел на мудрецов: «.все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов». Лука заканчивает этот рассказ пассажем о том, что Иисус послушался родителей и подчинился их воле. «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков»[46 - Luke, 2: 49–52 // Holy Bible: The Contemporary English Version. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1995.].
Когда ему было около тридцати, он начал учить и проповедовать, отправлять обязанности священника, но не так, как было принято в те времена. Он не укладывался в привычные представления об уличном проповеднике или бродячем пророке – такие фигуры были нередки на всем протяжении еврейской истории. Но и на элиту того времени, воспитанную на греческой философии[47 - Torjesen K. J. You Are the Christ: Five Portraits of Jesus From the Early Church // Jesus at 2000. Boulder, CO: Westview Press, 1998. P. 80.], он был не похож. Эти учителя не просто считались мудрецами, они имели власть, проистекающую из морального превосходства над необразованными.
Иисус в своем учении исходил из принципа всеобщего равноправия. Это само по себе привлекло бы внимание в жестко структурированном, классово разобщенном обществе. Еврейские бедняки, как пчелы на мед, слетались на проповеди этого раввина из Галилеи, и все им было мало. Его послание надежды на приход нового дня милосердия и справедливости привлекало бедных и обездоленных, вытесненных на обочину жизни. Возможно, еще большее впечатление, чем слова, производило то, что Иисус с каждым встречным обращался, как с человеком достойным. У него слово не расходилось с делом. Например, он находил время, чтобы учить грамоте крестьян, общался с презираемыми (сборщиками податей), прикасался к тем, кого считали оскверненными (прокаженным), и приглашал детей прийти и посидеть с ним, когда его ученики пытались прогнать их. Иисус не раз повторял своим последователям, что они должны искать истины и спасения – Царства Божиего – внутри себя. Вот что записал святой Лука:
Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть[48 - Luke, 17: 20–21 // Holy Bible: New Revised Standard Version.].
В отличие от воспитанной на греческой классике элиты, Иисус утверждал, что его власть происходит не от него, не от его нравственного превосходства, но из духовного источника – его Отца, пославшего его с духовной миссией на землю. В ранние годы христианства защитники или апологеты веры пытались представить Иисуса как Божественного Учителя, чья власть идет от Бога. Во втором веке Юстин Мученик указывал, что Иисус внес в римскую и иудейскую культуру нравственность, которая была выше, чем нравственность философской элиты того времени, потому что ему удалось установить духовную связь между собой (как божественным учителем) и необразованными угнетенными массами. Он открыл своим последователям, что и в этих людях может жить божественное.
Наличие божественного в учителе порождает возможности толкования, понимания, общения и обучения, направляющего учеников на поиски божественного. Через процесс возмужания ученики постепенно ассимилируются в божественное и сами приобретают божественный статус[49 - Torjesen K. J. Op. cit. P. 82.].
Ориген, теолог III века, заявлял, что через процесс возмужания человек может стать «сыном Божиим». Позднее в раннехристианской церкви этот процесс возмужания и укрепления в вере стал катехизическим, вопросно-ответным процессом. Обычно он занимал три года в жизни христианина, отведенные на подготовку и обучение.
Однако Иисус очень неохотно и скупо делал заявления о собственной божественной природе. Его отношения с последователями были отношениями учителя с учениками. В римском обществе существовали два типа учителей. Первый был наставником, нанимаемым богатыми семьями для преподавания знаний и нравственного поведения детям в домашних условиях. Второй был ученым, он преподавал группе студентов науки и философию. Клемент, христианский теолог II века, видел Иисуса в обеих ролях. Во-первых, Иисус рассказывал своим ученикам и другим последователям о Царстве Божием, учил их жить по-новому, жить в любви. Как учитель-ученый он углублялся в план Бога для него самого и для мира в целом со своими двенадцатью избранными учениками и несколькими другими, включая женщину нееврейского происхождения из Самарии[50 - John, 4: 1-30 // Holy Bible: New Revised Standard Version.] и Марфу, которую он любил, сестру Лазаря и Марии[51 - John, 11: 1-27.].
Иисус был демократичен в своем учении, но он учил властью, которую черпал не из ученых степеней. Более того, мудрость, пронизывающая его разговоры с людьми и его многочисленные притчи, ставила в тупик образованных лидеров того времени. Они не понимали, как бродячий проповедник из простой крестьянской семьи, из такого городка, как Назарет, мог говорить с такой убедительностью и вести за собой людей? Как мог человек, пренебрегающий строгими иудейскими законами, запрещающими, например, лечить в субботу или питаться с мытарями, покорять сердца сотен и тысяч иудеев из всех слоев общества?
Просветительская власть Иисуса была основана на знании того, что Бог призвал его нести истину в мир. Когда Понтий Пилат допрашивал Иисуса перед распятием, Иисус ответил на вопрос, вправду ли он царь, такими словами: «.ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине.». А брошенные ему слова Пилата: «Что есть истина?»[52 - John, 18: 37–38.] – стали вечным вопросом для искателей истины.
Маркус Борг, исследователь Иисуса, утверждает, что он был носителем альтернативной мудрости в противоположность традиционной[53 - Borg M. Op. cit. P. 75.]. Традиционная мудрость – это «по сути, жизнь внутри социально выстроенного мира»[54 - Ibid. P. 76.]. Иисус прибегал к языку парадоксов и иносказаний в опровержении мудрости его времени, основанной на традициях, которые он считал устаревшими. Такие фразы, как «Блаженны нищие», «Так будут последние первыми, и первые последними», «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов», передают неожиданные послания, требующие дальнейшего осмысления.
Основным инструментом преподавания для Иисуса была притча. Притчи – это занимательные истории, приучающие человека к новому способу мышления. Маркус Борг замечает: «Идет апелляция не к воле, не „Сделай это“, а скорее „Попробуй взглянуть в этом свете“. Как пригласительная форма речи, притчи не взывают ни к какому внешнему авторитету»[55 - Ibid. P. 74.]. Притчи как педагогический прием привлекали слушателя не только сюжетом, они будили воображение, пока слушатель размышлял над образами и смыслом.
В евангелиях Иисус рассказывает ученикам, почему он говорит притчами[56 - Matthew, 13: 10–17; Mark, 4: 10–11; Luke, 10: 21–23.]. Он объясняет, что притчи содержат загадки о Царстве Небесном, и люди, открытые этому, услышат и поймут. Иисус считал, что необразованные и угнетенные скорее поймут смысл его притч, так как они готовы воспринять новый образ жизни.
Иисус сам жил своим учением. Он воплощал вызов традициям своего времени. Многие из иудейских законов, которые он нарушал, касались телесных функций (еда, прикосновение, подбирание колосьев) и были не просто частными действиями, а «социальными миниатюрами, которые могут поддерживать или опровергать, утверждать или отрицать поведенческие правила культуры или привычные коды общества)[57 - Crossan J. D. Jesus: Revolutionary Biography. N. Y.: HarperSan Francisco, HarperCollins Publishers, 1994. P. 77.]. Иисус учил своими поступками, как бросать вызов политическим и социальным структурам – телесной политике. Джон Доминик Кроссан указывает на то, что телесная политика может стать «политическим телом»[58 - Ibid. P. 76.], когда тело человека взаимодействует с общественными нормами таким образом, что бросает им вызов.
Многие исследователи Библии во второй половине ХХ века сосредоточились на изучении исторического Иисуса. Борг замечает: «Это удивительно, это просто невероятно, что две тысячи лет спустя после того, как он жил, иудейский крестьянин из Назарета продолжает быть столь значимой фигурой, возвышающейся над всеми»[59 - Borg M.J. Introduction: Jesus at 2000 // Idem. (ed.). Jesus at 2000. Boulder, CO: Westview Press, 1998. P. 1–2.]. Некоторые теологии сфокусировались в последние годы на радикально эгалитарной жизни Иисуса. «Теология освобождения», появившаяся в конце 1960-х годов в Латинской Америке и ознаменованная книгой Густаво Гутьерреса[60 - Gutierrez G. A Theology of Liberation. Rev. ed. / S. G. Inda, J. Eagleson (transl., eds). Maryknoll; N. Y.: Orbis, 1988.], на основе учения и действий Иисуса провозгласила Бога «покровителем бедных». Бедные и часто неграмотные крестьяне были обучены процессам изучения Библии, давшей им понимание их несчастной судьбы и подтолкнувшей к выступлениям во имя всеобщего блага в их нищих пригородах. В результате низовые христианские группы, названные «базовыми коммунами», распространились по всей Латинской Америке и сегодня продолжают бороться за справедливость.
Католический просветитель из северо-восточной Бразилии Пауло Фрейре поддерживал идею «практики» – участия людей в осознании своего угнетенного положения и в обучении их тому, как осуществить перемены в социальных и политических структурах[61 - Freire P. Pedagogy of the Oppressed / M. B. Ramos (transl.). N. Y.: Continuum, 1982.].
В США в 1960-1970-е годы (и вплоть до сегодняшнего дня) религиозные институты присоединялись к гражданским группам и профсоюзам в формировании широкомасштабной поддержки кампаний по проблемам справедливости, как ее понимают народные массы. Жилищное строительство и здравоохранение для бедных и трудящихся – вот два направления главного удара.
Еще одной теологией, образованной и вдохновляемой историей Иисуса, является так называемая «повествовательная теология». Она рассматривает Библию прежде всего как повествование. Стэнли Хауэрвас видит в библейском повествовании этический аспект, показывающий нам, как жить в мире Божьими людьми[62 - Hauerwas S. The Peaceable Kingdom. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1983.]. Понимать Иисуса как учение, открывающее новый способ прожить жизнь в этом мире, где в каждом уважают человека, и построить новое справедливое общество как непреходящее наследие Иисуса, великого учителя, равного для всех.
См. также очерк о Фрейре в книге «Пятьдесят современных мыслителей об образовании».
Дополнительное чтение
Borg M. J. Meeting Jesus Again for the First Time. N. Y.: HarperSan Francisco, HarperCollins Publishers, 1994.
Borg M. J. (ed.). Jesus at 2000. Boulder, CO: Westview Press, 1998.
Borg M. J., Wright N. T. The Meaning of Jesus: Two Visions. N. Y.: HarperSan Francisco, HarperCollins Publishers, 1999.
Crossan J. D. Jesus: Revolutionary Biography. N. Y.: HarperSan Francisco, HarperCollins Publishers, 1994.
Ehrman B. D. Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium. N. Y.: Oxford University Press, 1999.
Johnson L. T. Living Jesus: Learning the Heart of the Gospel. N. Y.: HarperSan Francisco, HarperCollins Publishers, 1999.
Powell M. A. Jesus As a Figure in History: How Modern Historians View the Man from Galilee. Louisville: John Knox Press, 1998.
Neusner J. A Rabbi Talks with Jesus: An Intermillennial Interfaith Exchange. N. Y.: Doubleday, 1993.
Блаженный Августин (354–430)
Р. ДЖ. ФИЦПАТРИК
В даре Твоем отдыхаем мы; наслаждаемся Тобой. Отдых наш это «место» наше. Всякое тело вследствие своего веса стремится к своему месту. Где нет порядка, там беспокойство; упорядоченное успокаивается. Моя тяжесть – это любовь моя[63 - Confessions. XIII. ix. 10.Я пользовался тремя сочинениями Августина, когда писал это эссе: «Исповедь» («Confessions»), написанная около 397 года, не только отражает опыт образования самого Августина, она рассказывает научному миру о его времени, о борьбе христианства со многими ересями. Три заключительные книги написаны в форме размышления об эпизодах из книги Бытия. Они представляют не только философский интерес (Августин размышляет о проблеме времени), но и познавательный тоже: они демонстрируют способы, какими учитель может «выявить смысл» текста. Я цитирую «Исповедь» с указанием книги, главы и номера абзаца.Сочинение «О научении основам веры людей, незнакомых с учением Христа» («De catechizandis rudibus») около 400 года было послано одному катехизатору (наставнику в вере), который был подавлен отсутствием успехов в своей работе. Сочинение представляет собой доброжелательное и в высшей степени практическое пособие, подробно иллюстрирующее принципы самого Августина, которыми он руководствовался в преподавании. Я цитирую эту работу по главе и номеру абзаца.Сочинение «Об учителе» («De Magistro»), написанное около 389 года, рассматривает язык, знаки и значения. Здесь выдвигается тезис о том, что ни один человек не может учить другого: просвещение должно приходить изнутри, где живет учитель наш Христос. Я цитирую эту работу по главе и номеру абзаца.].
Аврелий Августин, которого мы знаем как Блаженного Августина, родился в 354 году в небольшом североафриканском городке Тагасте. Его мать Моника была христианкой, отец Патрициус – язычником, получившим крещение лишь на смертном одре. К моменту рождения Августина Римской империи на Западе оставалось жить меньше ста двадцати лет перед окончательным падением. Когда же настал его смертный час, он был епископом Гиппонским, а город Гиппон осаждали вандалы. Его сочинения были прочитаны совсем иным миром, не тем, которому он их оставил.
Он был подвергнут процессу обучения, типичному для его времени и способному нагнать тоску на кого угодно: это была механическая зубрежка, запоминание отдельных слов и пренебрежение целым, искусственное составление текстов и обучение греческому, вызывавшие у него отвращение. Он так и не овладел греческим языком свободно и мало читал по-гречески. И весь этот учебный процесс был обильно сдобрен телесными наказаниями. Августин писал в первой книге «Исповеди» о боли, страхе и скуке своих школьных дней. Тем не менее он получил образование, которое немало стоило его родителям, но сделало его членом касты, открывавшей свободный доступ ко всем уголкам Римской империи.
Августин начал преподавать – сначала в Тагасте, потом в Карфагене. У него завязались устойчивые отношения с женщиной более низкого социального положения, чем он сам, и у них родился сын. Августин был литературно образованным человеком, но жажда чего-то высшего пробудилась в нем лишь после чтения философских сочинений Цицерона в «Hortensius» (ныне сохранившемся лишь во фрагментах), где утверждалось, что высшее счастье – в поисках мудрости. Это откровение потрясло его. А вот чтение Библии его разочаровало, он занял скромное место послушника у манихеев, дуалистической религиозной секты, утверждавшей, что Доброе начало сильно, но не всесильно. В конце концов Августин уехал в Рим, а потом в имперский город Милан, где стал профессором риторики. Его преданной подруге пришлось с ним расстаться: она препятствовала его карьере. Его манихейские верования иссякли, он ударился в скептицизм, но чтение текстов «платоников» (Плотин и Порфирий) приблизило его к христианству. Последний шаг он совершил в 386 году, об этом рассказано в восьмой книге «Исповеди», написанной через тринадцать лет после события. Его крещение состоялось в Милане. В течение трех лет умерли его мать и сын, а сам Августин вернулся в Африку и был рукоположен в священники. В 395 году он был силой – таков был обычай того времени – посвящен в епископы и нес связанное с епископством бремя управления до конца своих дней.
Его многотомные сочинения содержат комментарии к священному писанию, богословские работы, философские трактаты против скептицизма и о свободе воли, саму «Исповедь» и полемику с оппонирующими теологами. В первую очередь он, что совершенно естественно, полемизировал с манихеями. Затем он написал трактат против донатистов, африканской секты, желавшей ограничить церковь присутствием в ней только безгрешных. Он состоял и в оппозиции к пелагианам, секте британского происхождения, не отдававшим должного нужде в Божьей благодати. Затем, в последние годы жизни он написал «Град Божий», книгу против язычества в уже совсем разложившейся империи. Воздействие мысли Августина на латинскую теологию переоценить невозможно. В течение веков, последовавших за его смертью, когда Западная Римская империя рухнула и над Европой сгустилась тьма, два памятника христианской литературы можно было найти в монастырских библиотеках среди фрагментов языческих писаний: одним была латинская библия святого Иеронима, вторым – сочинения его современника, Блаженного Августина. Что бы кто ни думал о его влиянии, отрицать его невозможно, оно осталось с нами навсегда.
Текст Августина, который я поместил в начало данного очерка, был написан им в обстановке размышления над нашим стремлением к Богу, пронизывающим все наши мечтания и блуждания. Как тела ищут своего «надлежащего места», в соответствии с верованиями того времени, так и мы ищем Бога. «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (Исповедь, I. i. 1). Но этот текст может послужить также удобным введением в то, что Августин хотел сказать об образовании, ибо обращает на себя внимание его убеждение в том, что должно существовать прямое и непрерывное общение учителя с учеником, поощрение, проистекающее не из жестокости и желания наказать, любящая попытка понять состояние ученика и подвести его к тому, что учитель может дать.
В первой книге «Исповеди» он противопоставляет свой школьный опыт изучения греческого овладению латынью, его родным языком. Наказания, применявшиеся в школе, отвратили его от языка, даже истории, рассказанные Гомером, казались ему отталкивающими, словно окропленными желчью. В то же время изучение латыни с детства происходило без всякой боли, наказания или угроз: няни гладили его по голове, люди шутили с ним, он играл в игры; «для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость» (I. xiv. 23). Даже в школе поэзия Вергилия трогала его сердце, и он оплакивал смерть Дидоны (I. xii. 20). Позже первым шагом к обращению стал для него тот момент, когда, получая в основном литературное образование, он прочел философскую работу Цицерона о поисках мудрости. Он пишет в «Исповеди»: «Эта вот книга изменила состояние мое, изменила молитвы мои и обратила их к Тебе, Господи, сделала другими прошения и желания мои». И знаменитая сцена в Милане, где он наконец обратился к Богу, – даже если мы сделаем скидку на дистанцию во времени между событием и рассказом о нем – передана Августином как сердечная перемена: «сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений» (VII. xii. 28–29).
В работе «О научении основам веры людей, незнакомых с учением Христа» («De catechizandis rudibus») видны те же сомнения и тревоги, но теперь уже в практической обстановке религиозного обучения других людей. Деограций (катехизатор, наставник в вере, писавший для поощрения и дававший совет) не должен отчаиваться: очень возможно, ученики оценили его дискурс гораздо выше, чем он сам. Любой учитель по временам может болезненно ощущать разрыв между тем, что у него в душе, и тем, что ему удается выразить. Он должен во что бы то ни стало быть жизнерадостным и бодрым – Бог любит тех, кто дает с радостью, – и передавать эту радость в том, что говорит (II. 3 и 4). Он должен помнить, что любовь Бога к нам была явлена в пришествии Христа; и что это любовь мы должны сделать основой нашего преподавания, чтобы ученик, «услышав мог поверить, поверив – обрести надежду, а обрести надежду – полюбить» (IV. 8).
Трудности могут возникнуть как у ученика, так и у учителя. У ученика, когда он ищет просвещения, мотивы могут быть смешанными. Если так, мы не должны забывать, что преподавание само по себе порой очищает помыслы того, кто его получает. Следовательно, мы не должны вести себя так, словно разоблачаем его неискренность, но бережно и участливо расспросить его о душевном состоянии: мы должны попытаться преподать урок, который затронет его сердце и приведет его к добру (V. 9).
Или ученик может быть уже образованным в других предметах, возможно, он даже знаком с отрывками из Писания. И опять-таки мы должны учитывать его душевное состояние. Мы не должны разговаривать с ним так, будто он ничего не знает, наоборот, говорить надо так, словно мы напоминаем ему о том, что ему уже известно. Его трудности и возражения не стоит бесцеремонно отметать, их нужно обсудить в скромном разговоре (modesta collatione). Все дела следует обсуждать «наилучшим образом» (ср. Первое послание к коринфянам, xiii), следуя дорогой любви (VIII. 12). Что до учеников, обучавшихся языкам и риторике (Августин имеет в виду людей с таким же, как у него самого, культурным багажом), их надо учить смирению, чтобы их не отторгали литературные несовершенства в евангелиях или солецизмы в проповедях священников. Их надо учить видеть именно то, что важно: содержание сказанного. Они нуждаются в смене приоритетов. Как сам Блаженный Августин выразил это в «Исповеди», «предпочитать истинные речи и мудрых друзей» (IX. 13).
Трудности могут заключаться и в самом учителе. То, что заключено у него внутри, должно быть ясно выражено в подробностях, которые ему самому скучны: он может прийти в уныние от кажущейся инертности ученика; его собственные душевные переживания могут помешать надлежащему исполнению обязанностей, или – это звучит весьма современно – он может быть занят своей собственной, чрезвычайно увлекательной работой, и ему не хочется бросать ее, чтобы тратить время на учеников (X. 14).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: