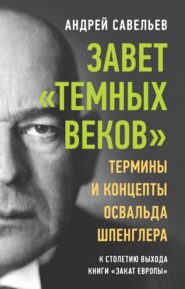скачать книгу бесплатно
Завет «темных веков». Термины и концепты Освальда Шпенглера
Андрей Николаевич Савельев
Книга доктора политических наук, автора многих книг, известного общественного деятеля, депутата Госдумы 4 созыва Андрея Николаевича Савельева посвящена философскому осмыслению судьбы Европейской и Русской цивилизаций, состоявшимся и грядущим катастрофам, которые обещают «конец истории», погружение в «темные века», после которых начнется новый исторический цикл.
К своим заключениям автор приходит, переосмысляя работы Освальда Шпенглера – главным образом его знаменитую книгу «Закат Европы». Многое из философских размышлений столетней давности к настоящему времени опровергнуто, но самые фундаментальные прогнозы оправдались и не внушают оптимизма в расчетах на XXI век.
Автор книги призывает к мужеству в условиях гибели цивилизации, призывая стоять до конца – как триста спартанцев в Фермопилах. Опыт античности широко привлекается им в книге, изданной в год, когда исполняется 2500 лет Фермопильскому сражению.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Андрей Савельев
Завет «темных веков»
Термины и концепты Освальда Шпенглера
К столетию выхода книги «Закат Европы»
Моим друзьям – выдающимся ученым и глубоким мыслителям – посвящаю: Владимиру Махначу, Сергею Пыхтину, Борису Виноградову, Владимиру Авдееву, Леонтию Вызову, Петру Хомякову
* * *
© Савельев А. Н., 2021
© Книжный мир, 2021
© ИП Лобанова О. В., 2021
Предисловие
Если я пойду долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что Ты со мной.
22 Псалом Давида
Катастрофа неизбежна – даже это утверждение уже опоздало. Катастрофа состоялась.
В это трудно поверить, но от окружающей нас цивилизации не останется ничего, кроме руин мегаполисов, которые простоят еще как минимум тысячелетие. Память об утраченном частично сохранится на периферии, где все еще живут тяжким физическим трудом и натуральным хозяйством. «Последние станут первыми», и при этом они смогу передать будущей цивилизации лишь доли процента научных и технических знаний и практически ничего из культурного наследия.
Перед лицом этой уже совершенно неизбежной катастрофы еще есть шанс зацепиться за жизнь, восстановив технологии вековой данности как резервные. Или бросить все ресурсы на прорыв хотя бы в области энергетики – в призрачной надежде пройти сквозь «игольное ушко», которое предоставит нам история. Но нет сомнений, что этим никто заниматься не станет, и шанс будет упущен – по социальным причинам. Индивидуальной стратегии выживания за пределами олигархических кланов не существует. Поэтому поколения XXI–XXII вв. будут наблюдать развал государств и социальных систем, истребительные межэтнические конфликты, разрушение высокотехнологичных производств, ухудшение условий жизни и не фиктивные, а вполне реальные эпидемии, с которыми некому и нечем будет бороться.
В условиях «темных веков» нет субъекта, который мог бы что-то сделать для смягчения всеобщей деградации и передачи последующим цивилизациям хотя бы самых существенных достижений исторического опыта – как это удалось сделать Византии, передав идею Империи поднимающейся из собственных «темных веков» Руси. В современной России, в Европе, США нет ничего, что могло бы обеспечить такой межцивилизационный транзит технологий и культур. Прогрессисты уничтожили цивилизационный дискурс, держатели ресурсов цивилизации – деграданты, аналог Ноева ковчега у не слышащих Бога немыслим – им ничего не втолкуешь и они ни к чему не готовы.
Поверить в совсем близкое небытие культуры и цивилизации столь же трудно, как и в личное небытие, хотя история и личный опыт убеждают в смертности всего живого и недолговечности всего созданного человеком. Предзакатные надежды уже в прошлом – Европейская цивилизация, а вместе с ней и Русская цивилизация, погрузились в глубокую ночь «темных веков», в которой мрак разрывается только слепящими электрическими фонарями – технологиями, создающими иллюзию полноценного существования лишь у недалеких натур. Утренняя радость, дневной восторг и вечерняя печаль цивилизации уже прошли. Мужественное «еще не вечер» сменилось на «уже не вечер».
«Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек, и тогда философия рисует минувшее и будущее в оттенках серого» (Гегель). Ночью она устало садится на ветку, а философ закрывает шторы и беседует при свечах с теми, кого встретит только на том свете. И это время уже не для печали и трагического оптимизма, а для встречи со смертью, которая стремительно стирает все, что тебе дорого и, как тебе казалось, было дорого и другим. Собственно, философия – это и есть мысли о смерти. Жизнь о смерти не помнит, а просто бодрствует и творит.
Философ – представитель вымершего вида творчества: он не может превратиться в декоратора. От философии осталась история философии, которая практически никого не интересует – исключая тех, кого не устраивает философствование кухонного уровня. Философия – последний признак жизни цивилизации, которая уже завершилась, и стремительно тянет в могилу народы – носители соответствующих культур и исторического опыта. «Темные века» уже наступили, и это приходится признать. Будет ли после них Новая Античность, Новый Ренессанс? Если и будут, то рассчитывать на то, что это станет продолжением именно нашей истории, невозможно. Мы станем немыслимой древностью, и осколки наших творений и нашей мудрости будут копироваться самым нелепым образом. Таких копий нашей собственной древности теперь предостаточно, чтобы быть уверенным в том, что наше время будет понято самым превратным образом.
Систематика в философии создает концепцию, но, если концептуальность переходит определенную грань, она убивает философию как таковую, превращаясь в магию, которая изобретением слов пытается, как пишет Освальд Шпенглер, «защититься от непостижимого»[1 - Автор отказывается от указания страниц, что замусоривало бы текст ссылками, которые никто на практике не проверяет. Если кому-то это придет в голову, то это нетрудно сделать по электронным версиям книг. Но вряд ли вменяемому человеку взбредет в голову этим заниматься.]. Исключение сферы, в которой никакая систематика не действует, означает исключение научного развития и создание «системы в системе», где разворачивается своя обособленная аксиоматика. Если подобное не только допустимо, но и обязательно в математике, то в философии ограждение систематизированной сферы, уснащенной избытком понятий, оказывается мирком самого философа, который может стать даже модным, но никогда не дотянется до тайн человеческого бытия.
Философия, таким образом, приближается не к математике, а к естественным наукам. Она изучает природный и человеческий мир как единственно данные, а не миры абстракций, где философам делать нечего – там все, что нужно, скажут математики. И поймут только математики – способные говорить на языке мира, обособленного от природы и человека. Математика даст реальному миру готовые понятийные модели, когда в этом появится необходимость и будут найдены объекты, сходные с определенным математическим формализмом. Но это в современном мире мечта несбыточная. Математики живут прикладными аспектами, а математические теории стали упражнениями для ума, которые в лучшем случае финансируются лишь по привычке – из уважения к непонятным занятиям мудрецов.
Философия больше созерцает, чем объясняет, и это определяет ее связь с жизнью – потоком истории. Попытка все объяснить рано или поздно оборачивается наукоподобным вздором. Объяснение – своего рода «обезвреживание» проблемы, которую можно разрешить, только пережив, а объяснив – только подорваться на этой необезвреженной мине. Не всюду требуется объяснение, понимание и преодоление – то, что свойственно технической цивилизации, и только в ней имеет смысл. Природу не надо преодолевать – это прояснилось во второй половине XX века, но до сих пор человеку недоступно умение жить в природе и подстраивать свой мир под ее мир. Технизированная понятийность убивает среду обитания человека, с которым природа ужиться не может, отодвигаясь в пространстве туда, где человека нет.
Рисование схем Шпенглер называет геометрическим способом обращения с мыслями. В то же время алгоритм – это метод замены множества стандартных процедур одной, из которой исключена мысль. Это позволяет экономить на размышлениях, направляя их на другие объекты, где чувствование и созерцание еще не убито схемой. Философу надо оставлять пространства, занятые схемами, и двигаться дальше – туда, где еще нет человеческого праздномыслия и наживы. Но социальный предел ограничивает такое продвижение. Поэтому сфера философии сжимается и ликвидируется механистическими алгоритмами. В конце концов, философы уходят в те же «дебри», где обитают математики и туда, где нет человечества. Право на жизнь философу, математику, религиозному подвижнику оставляют просто на всякий случай – из опасения, что они что-то скрывают, без чего жизнь может оказаться невозможной. Шамана тоже не поддерживают щедрыми дарами, но подкармливают как убогого представителя потустороннего мира, ставшего в этом мире совершенно ненужным. Весь опыт цивилизации низводится до мемориального шаманизма.
Единственный способ существовать для философа – примкнуть к вопросам политики и прилагать свою философскую эмпатию к самым острым вопросам современности. Добившись в этом деле признания и бучи принятым в роли политического публициста, философ может позволить себе занятие основным своим предметом – миром Божиим и отношениями Бога и человека, включая самые жгучие вопросы о жизни, смерти и бессмертия.
* * *
О каком «завете» говорит автор в названии книги? Не посягает ли он на Библию, не хочет ли подменить ее? Вовсе нет! Речь идет о наставлении тем, кто продолжит путь в «долине смертной тени». Он должен понять, что этот путь холоден и одинок. Здесь каждый сам по себе. И только где-то в конце пути забрезжит прозрение, а с ним и милость Божья.
Причем тут Шпенглер? Притом что в его сложносочиненной философии и очень ясных трудах говорилось о «закате», предвечернем времени цивилизации, а мы проморгали этот закат, и даже не смоги уловить момент, когда он сменился густыми сумерками и уже почти беспросветным мраком. Шпенглеровские мысли помогают сделать следующий шаг в понимании того, что закат цивилизации был не первым в истории, что «темные века» тоже пройдут. Вопрос лишь в том, кто их пройдет. И полночные размышления над шпенглеровскими текстами способствуют тому, чтобы не запутаться в малозначимой чепухе.
Слово «термин» кажется общепонятным. Это, вроде бы, то же, что слово (существительное), но определенное в какую-то группу со своей спецификой. При внешней простоте понимания оно не вполне соответствует применению термина «термин». Да, термин – это часть терминологии, а не отдельно взятое слово или словосочетание. Да, у него есть признак, объединяющий его с другими терминами. Но это слово, отделенное от других слов более определенным значением, и очерченным контекстом – термины нельзя применять всюду, где вздумается. По сути дела, термины – это основной словарь науки, научного общения, научные «речения». А слова – это в совокупности язык общения в самом широком смысле.
Наука пользуется также еще и понятиями, которые, в отличие от терминов, обладают более широким охватом обозначаемого. Понятия разъясняются через термины. Понятия служат пониманию терминов, создавая научный контекст, а термины, выпавшие из контекста, выпадают и из науки – освобождаются от свойственного им смысла.
Концепт – это не концепция, а лишь элемент концепции, из которой строится «чертеж» знания. Применение концептов необходимо для краткого изложения концепций, указания на еще не разработанные концепции. Концептами выступают мыслеформы, ограниченные набросками общих планов. Концепт извлекает из потока слов содержательный компонент – самое существенное значение или значение, необходимое для концепции. Через смыслы привлеченных понятий концепт соединяет их с другими понятиями, присутствующими в одних и тех же когнитивных слоях. Концепт формируется как сжатый когнитивно-дискурсивный текст, объективирующий научный контекст, привлекая лексемы, идиомы и афоризмы.
Интегрально: концепт проистекает из ядерных значений слов и формируется в текст, в который вовлечены термины и понятия. Термин можно сравнить с дорожным знаком, понятие – с правилами чтения дорожных знаков (понимание знаков), а слова – с описанием самого дорожного движения, которое в краткой и емкой форме составляются в концепт.
Большой научный текст не обходится без привлеченных хотя бы эпизодически примеров, отвлекающих читателя от обсуждения терминов и концептов. Это облегчает восприятие материала, возвращая возможность эмоционального сопереживания автору. Данная книга – это своего рода беседа с Освальдом Шпенглером, воспроизводящая его воображаемую в творческом пространстве личность. Но также беседа и с читателем, которому предлагается вообразить поток истории, который теперь на глазах иссякает, но (будем надеяться) полностью не иссохнет никогда. И поэтому можно представить себе времена, когда поток снова станет мощным и богатым содержанием – восстанавливая забытые термины, понятия и концепции, о которых мы теперь уже едва помним и не всегда в состоянии осмыслить.
* * *
Шпенглер многое не успел. От политической философии он не успел перейти к политологии, лишь в нескольких статьях коснувшись мировой политики. Он не успел создать задуманный труд о микенской эпохе – остались лишь наброски. Он не создал объемных трудов о государственном управлении, правовых системах и образовании, лишь наметив соответствующие темы в публицистике. Он не успел обдумать вопросы мир-экономики и изложил их лишь в одной главе «Заката Европы» очень конспективно, поскольку не знал современных уже ему ростовщических технологий, столь масштабно разросшихся столетие спустя, что иных технологий успешной деятельности почти не осталось.
Шпенглер хорош тем, что соединил многие темы в одну концепцию органического существования культуры и цивилизации, предопределяя фазы расцвета и заката. И сколь бы ни открещивался Шпенглер от пессимизма своей философии, сколь бы ни ругали его за произвольные трактовки истории, сколь бы ни спорили о том, говорил ли он о «закате», содержание работ Шпенглера предрекло конец европейской истории.
Подтверждают это бестселлеры наших дней – Патрик Бьюкенен «Гибель Запада», Тило Саррацин «Германия самоликвидируется» и многие другие. Даже предсказанная романистами вторая гражданская война в США (аналитически описанная Томасом Читтамом) началась на наших глазах – новыми методами, которые век назад были немыслимы. Очевидные признаки гибели по всему миру скрадываются достижениями научно-технического прогресса, которые позволяет людям не испытывать каждодневного голода и не замерзать от отсутствия теплого жилья. Культурные и интеллектуальные стандарты еще преподаются в университетах, но их нет в жизни. Культура уже погибла, интернет добивает рассудок, смартфон губит общение, а фантазии об искусственном интеллекте расслабляют правителей до полного нежелания чем-то управлять. Имитационные пандемии стали универсальным методом управления. Деньги – анахронизм, оставшийся в руках бедноты. Денежные суррогаты уничтожили понятие собственности и оставили от средства счета и товарообмена только электронные записи. Биржа – архаизм, сюда уже готовы приглашать для игры на деньги даже 12-летних детей. Сращивание банков с соцсетями и электронной рекламой создало новый субъект глобального мошенничества, который обрабатывает потребителя до полной невменяемости.
Сравнить Шпенглера можно разве что с последним русским философом-энциклопедистом Алексеем Лосевым, который под прессингом коммунистического режима не имел возможности рассуждать на темы мир-истории, мир-политики с привлечением современного материала. Но это позволило ему продвинуться в других направлениях – в древнюю историю и культуру – гораздо глубже Шпенглера. Но эта глубина потребовала такой пространности, которая не смогла бы уместиться в единственный концептуальный труд. По этой причине и нам приходится в некоторых вопросах не слишком углубляться – тем более, что погружение в древнюю историю и культуру, а также современную политику, состоялось в других книгах. Здесь мы даже не будем ссылаться на них.
Вслед за Шпенглером в данной книге нами поставлена задача дать целостную картину мира, которая укрепляет деятеля в его подвижничестве – таком нужном, чтобы история не оборвалась, а продолжилась после «темных веков». Ему есть за что сражаться, есть ради чего жить и умирать. При этом оставаясь практиком и прагматиком – без неумных мечтаний о несбыточном, о чудесном избавлении от напастей, которое принесет вмешательство Бога – в награду за бездеятельные молитвы.
Избавление Господь дарует тем, кто действует – живет по Его заповедям, которые были хорошо известны нашим предкам, создавшим великую Державу. И были забыты теми, кто пошел за ее разрушителями, да и теперь – после ужасного опыта XX века – продолжает хулить Христа и Российскую Империю, презирать православных людей и исторический опыт наших православных предков.
Мир-природа
Оторвать философию от естествознания – все равно что уничтожить ее, а естествознание лишить важнейшего инструментария, позволяющего видеть все поле исследований и испытывать любопытство к мирозданию в целом, а не к содержанию своей пробирки. От этого широкого взгляда происходит становление ученого, который лишь со временем начинает видеть Вселенную даже в самом рутинном эксперименте. Кажется, теперь эта способность почти потеряна.
Философ же без естествознания становится начетчиком, который философствует, не ведая об аналогиях между природными и собственными мыслительными процессами, между, к примеру, природными и социальными явлениями. Метод аналогий и заимствований оказывается в таком случае скудным – мысли аналогичны другим мыслям и постепенно сводятся к пересказу или тавтологии. Чтобы философ видел Вселенную, в его размышления должны проникать жизненные явления и научные достижения, и тогда аналогия дает простор для творчества.
Отсутствие интегральных философских трудов ставит ученых на самые нижние ступени социальной пирамиды: они непонятны ни среднеобразованному народу, ни чиновникам, которые чаще всего малообразованны и не имеют желания и способности вникать в научные проблемы. Без постоянного потока просветительских материалов, без объединения знания в общую систему гуманитарии будут иметь преимущество перед математиками и «естественниками», которым останется только прозябать в роли нелюбимых пасынков неблагодарного общества и ветшающего государства. Альтернатива – только в принципиальной иной власти, где аристократизм предполагает высокую образованность, а властные полномочия – поддержку ученых (прежде всего – математиков и «естественников») моральными и материальными поощрениями. Только в этом случае социум будет получать достоверные знания о мире окружающей его природы, в которой нет никакой «демократии» – только иерархии, сингулярности и анизотропии.
Никакой «народ» не будет добровольно расставаться даже с минимумом личных сбережений, чтобы поддерживать науку, литературу, искусство. Готовность к жертве всегда было уделом аристократии. Аристократия же устойчива, когда имеет своего вождя, династического правителя, который опирается на аристократические династии. Тогда поддержка наук и искусств естественна и последовательна. Нет аристократии – и научная мысль теряет опору в жизни, становится ненужной, поскольку в ней перестают видеть практическую пользу.
Так судьба цивилизации исчерпывается по мере удаления из жизни общества сначала родовой аристократии, а потом и самовоспитанного аристократизма, имеющего образцы в историческом прошлом народа. Социум, ведомый «демократами» перестает различать мир-природу, выхватывая из божественно прекрасного мира только то, что можно немедленно потребить.
Многомерность
Иллюзия простоты придает невежеству уверенность в том, что оно понимает достаточно, чтобы не обращаться к ученым и не слушать их, когда они что-то начинают «проповедовать». Среднеобразованный человек уверен, что он живет в трехмерном мире, и это для него само собой разумеется.
Конечно, интуитивно нам дано понимание трехмерности: вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз. Но на самом деле в векторном представлении это уже шесть направлений. Кроме того, для нас измерение вверх-вниз сильно ограничено (выше головы не прыгнешь и до центра земли не докопаешься – там верх с низом поменялись бы местами), а движение в плоскости в масштабах планеты оказывается не движением по поверхности, близкой к форме шара, а движением по маршрутам, где можно проехать-пройти.
Наше бытовое геометрическое пространство с тремя измерениями ограничено несколькими километрами, а зачастую – даже несколькими метрами. Если мы идем по дорожке в лесу, но мы не собираемся двигаться влево или вправо, не собираемся лезть на дерево или пытаться закопаться в землю. Не собираемся поворачивать назад. И тогда наше бытовое пространство одномерно – мы просто идем вперед в одном направлении. Да еще попадаем в ситуацию принятия решения, когда оказываемся на перекрестке. Это уже не одномерность, но и не двумерность. Здесь – в реальном мире – «мерность» под вопросом.
Шпенглер опроверг зыбкость профанного убеждения в том, что мы живем в трехмерном мире: «…абстрактная система трех измерений является механическим представлением, а не фактом жизни. Переживание глубины растягивает ощущение до мира. Направленность жизни была с полным значением охарактеризована как необратимость, и какой-то остаток этого решающего признака времени заложен и в той непреложной силе, с которой мы можем ощущать глубину мира всегда от себя и никогда от горизонта к себе».
Именно время создает бессчетное число миров с множеством измерений и собственным понятием протяженности («метрики»). Как только принимается во внимание субъект познания, тут же его позиция становится исключительной, и освоение пространства представляет собой «растягивание», расширение видимого горизонта.
Актуальной трехмерности для человека зачастую нет вообще. В том числе и в научном знании. Например, медицина имеет дело с объемными объектами – органами человеческого тела. Но какое дело, к примеру, фармакологии, до того, какой формы ваша печень? Трехмерность используется для некоторого класса задач. Для других задач требуется 5, 11, 13, 24 измерения. Все это – определенный математический формализм, который позволяет «утрясти» различные методологические подходы и объяснить наблюдаемые явления.
Мы считаем, что живем в трехмерном мире, когда нам это удобно. Но зачастую нам – как в быту, так и в науке – не нужны три измерения, евклидово пространство и декартова система координат, а нужно что-то совсем другое, и мы интуитивно или осознанно используем другие подходы к пространству.
Можем ли мы установить, что, независимо от нашего сознания, все-таки живем в трехмерном пространстве? Или только по причине «неудобства» иногда его не замечаем или пользуемся придуманными нами «теориями», чтобы упростить для себя понимание событий, происходящих все же в том же трехмерном пространстве?
Зачастую доказательством считают квадратичную зависимость силы от расстояния. Но это объясняется сферически-симметричным пространственным распространением гравитационного или электромагнитного поля. Что, собственно, мы сами и определили, обозначив наблюдаемое различными методами «сферичным». В бытовых масштабах эксперимента опровергнуть это не удается, но наука выходит за эти масштабы и за бытовые условия эксперимента, где и обнаруживается нечто любопытное и полезное, чтобы продолжать создавать «вторую природу» – свой мир, отличный от мира природного, который также понимается нами без абстрагирования только в бытовых масштабах. «Время рождает пространство, пространство же убивает время». Пространство – это застывшее время.
Еще одно «доказательство» также вполне бытовое – мы можем соединить три прямых угла вершинами, а четыре – не можем. То есть, геометрия обыденности – трехмерна. Но это доказательство просто подменяет определение прямого угла, не более того. Прямой угол тот, который удовлетворяет условию собирания трех углов вокруг одной вершины. Но точно так же мы можем собрать и другие одинаковые углы – что хорошо видно в тетраэдре или икосаэдре.
Начиная с планетарных масштабов, мы не видим никаких прямых. Эллиптические, параболические, гиперболические траектории, сферические формы небесных тел, спиралевидные, эллипсоидные и «неправильные» формы галактик совершенно не сводимы к прямым линиям. И единственным исключением является распространение света. Луч света едва отклоняется от прямой – даже в поле тяготения Солнца, а существенно – только в поле тяготения «черных дыр». И тогда мы можем просто определить понятие «прямой» как линии, по которой движется световой луч. Эта «прямая» – кривая.
Микромир также «не любит» прямых. Связанный электрон существует либо как облако, где говорить о трехмерности затруднительно (скорее, можно сказать о нуль-мерности), а свободный перемещается как волна. Предполагается, что квантовый эффект Холла демонстрирует четвертое пространственное измерение. Но это экзотика, вытекающая не из природы, а из описывающего ее формализма.
Все живое исключает симметрию относительно правой и левой стороны – это установленный факт. Почти все биомолекулы хиральны: закручены в определенную сторону. Это касается белков, ДНК, РНК. Простые биомолекулы с «закрученностью» в одну сторону имеют зеркально симметричные аналоги, но они встречаются в природе крайне редко. Хиральная чистота биосферы – нечто поразительное, совершенно несовместимое с евклидовой изотропностью пространства. Стереометрия молекулы принципиальна: левовращающая может вступать в определенную реакцию, а правовращающая – нет.
Человек расчерчивает сомасштабное ему пространство на вертикали и горизонтали только в целях экономии мысли. Архитектура возникает там, где появляются абсидальные формы, арочные и купольные конструкции. Из одних прямых архитектуру не создать. Ничего «трехмерного» нет в последовательности нервных импульсов, бинарном коде вычислительных машин, алфавите, языке, музыке. Все это существует вне евклидова пространства. И это говорит о том, что наш мир (мир человека) – не имеет ничего общего с трехмерностью.
Метрика определяет, что такое «расстояние» в данном воображаемом (построенном) пространстве. Попытка определить «расстояние» в больших базах данных создает проблему метрики. Например, в массиве генетической информации определить «расстояния» между каждой парой индивидов или группами индивидов (народами). И это продолжение умозрения: что мы назовем «расстоянием», то и будет расстоянием. Но кто-то другой может в этом многомерном пространстве определить расстояние иначе.
Хорошо, если в базе данных все цифры представлены одной и той же единицей измерения. А если в них рост, вес, группа крови и так далее? Что тогда есть расстояние между двумя людьми и как перевести «тонны в километры»? Здесь евклидова метрика совершенно не подходит. А какая подходит – предмет выбора специалиста (математик может ему только помочь в этом выборе, но не дать однозначный ответ).
В теории относительности пространство-время имеет три координаты с единицей измерения расстояния, а одну – длительности. Метры смешиваются с секундами. И что тогда есть «расстояние» в таком пространстве? Понимание метрики здесь может быть только конвенциональным, потому что принцип перевода метров в секунды определить невозможно. В статистической физике пространство и вовсе бесконечномерно.
Стохастический элемент реальности, куда может вклиниваться творческая воля человека, у Шпенглера размещается во временной координате: пространство противоречит (оппонирует) времени, хотя в основе времени лежат пространственные смыслы. Время есть одна из координат реальности, которая ничем не уступает пространственным координатам. Это умозрение удобно теоретикам, которые вообще все мыслимые координаты (которых для объяснения экспериментальных событий становится все больше и больше) просто как х
. Между тем, интуиция подсказывает, что «ближе-дальше» – это совсем не то, что «раньше-позже». В координатах стохастический элемент может быть лишь расчетной проблемой. Актуально предметный мир имеет свои координаты, даже в условиях квантовой неопределенности. Если мы хотим получить координату, пожертвовав знанием скорости (то есть, воздействия времени на координату), мы ее получим. Поэтому момент творения находится в координате – там присутствует неопределенность. И поскольку мы знаем неопределенность в макромире – не только из бытового, но и всякого научного опыта, то никакие теории с дополнительными координатами не могут отнять этого свойства у времени. Хотя, быть может, могут также содержать стохастическую компоненту.
В массивах разнородных данных многомерность совершенно бессмысленна, пока не сведена до двухмерности. Для этого применяются различные методы: метод главных компонент, метод многомерного шкалирования и другие. Социально значимая информация требует наглядности. В противном случае даже соглашение о том, что считать метрикой, не поможет: модель окажется непрактичной, ее выводы не будут признаны полезными.
Евклидово пространство оказывается лишенным объектности. Оно – абстракция, которая может существовать только без объектов, которые можно было бы изучать. Поэтому и само утверждение, что мы обитаем в трехмерном пространстве, оказывается бессмысленным. Объявление всеобщим законом теоремы Пифагора представляется тавтологией: трехмерность обнаруживается там, где применяется «линейка» и определенное представление о том, что такое расстояние. Как только в дело вступает циркуль, теорема Пифагора оказывается бесполезной.
Судьба Вселенной зависит от того, сколько в ней массы-энергии, а следовательно, какова ее кривизна, мало отличимая от «прямизны». Если плотность вещества во Вселенной выше критической, то она когда-то начнет сжиматься; если ниже критической – разлет вещества приведет к «тепловой смерти». В любом случае, Вселенная не статична – не замерла в состоянии, когда сумма углов треугольника равна строго 180 градусам. Она может приблизиться к евклидовой модели лишь при определенной плотности вещества, называемой критической – когда разлет вещества будет продолжаться все медленнее, пока не прекратится в какой-то необозримой перспективе. Показатель кривизны по сегодняшним измерениям и расчетам таков, что на масштабах, в которых влияние галактик можно считать несущественным, Вселенная и так «почти евклидова». Но в этом «почти» скрывается загадка: «почти» – это мало или много? И для чего это мало, а для чего много?
Пуанкаре писал: «Опыт не доказывает нам, что пространство имеет три измерения, он доказывает, что удобно приписывать ему три измерения, потому что именно таким образом число ухищрений сводится к минимуму». Пустое пространство без вещей и вещества, действительно, просто заполнить прямоугольными треугольниками, разбить на кубики и «доказать», что оно – евклидово. Но это мертвое пространство, умозрение по поводу пустоты.
Возможно, «зацикленность» на трехмерности определяется тем, что мы переживаем в своем сознании в основном «светомир» – видим прямолинейность пучков света и пытаемся переносить свой зрительный опыт в области знания, где он неприменим. В науке продуктивны модели, где нет трехмерности. Что касается уверенности большинства, что их жизнь проходит в трех пространственных измерениях, то это всего лишь массовое заблуждение.
Все, что мы можем придумать о нашем мире, опираясь на бытовые представления о пространстве и времени не годится ни для философии, ни для математики, ни для физики. Если «пиксельность»[2 - Под «пиксельностью» следует понимать такую дискретность, которая в каждом «пикселе» имеет свои собственные свойства – как на цифровой картинке с миллиардом цветовых оттенков в каждом пикселе.] (дискретность) мира, в котором мы живем, когда-нибудь будет открыта (закреплена как продуктивная модель), то это сломает многие теории. Но не потревожит бытовых представлений. Лишенный воображения социум будет полагать, что находится на предельно высоком уровне научности, полагая мир трехмерным. Если в нем не находится достаточного числа «чудаков», понимающих, что мир устроен по-другому, то жить такому социуму осталось недолго.
Числа
Понимание числа для первобытного человека было чудом. Даже понимание разницы между единичностью и множественностью – энтелехия просыпающегося сознания. Хотя и животное различает между одним, малым и многим, когда это касается его выживания. И животное можно научить счету – но не более чем до десятка. Поэтому словообразование для обозначения второго десятка очень своеобразно. И только с 20 идет общее правило дополнения десятков единицами. 20 – это по-настоящему «много».
Шпенглер полагал, что числа разграничивают природные впечатления точно так же, как имена богов разграничивают (можно сказать, «сюжетно размечают») миф. Именование богов и именование чисел – это способность человека, которую приходится признать равнобожественной. Человек называет богов! И лишь неназванные, не имеющие имен боги угрожают человеку вторжением из иных миров, чьи законы еще не прочувствованы в мире человека. Называние – это заклинание, а заклинание – это в некоторой степени подчинение. Если не Бога, то мира Божиего – наравне с самим Богом. «Именами и числами человеческое понимание приобретает власть над миром».
Природа и история у Шпенглера радикально разделены тем, что природа может подвергаться счислению и подлежит счислению, коль она так устроена. А вот история неисчислима, а потому не имеет отношения к математике. Прогноз всегда будет опровергнут, потому что будущее нам не принадлежит – мы не знаем, что оно из себя представляет. Попытка заглянуть в будущее всегда терпит неудачу, но без таких попыток переживание человеком истории невозможно. Человек скорее пытается почувствовать будущее, чем исчислить его параметры – хотя бы какие-нибудь.
Будучи знаком с современной ему математикой, Шпенглер, как ни странно, считал ее культурно зависимой – «стиль какой-либо возникающей математики зависит от того, в какой культуре она коренится, какие люди о ней размышляют». Исходя из наших представлений о математике, следует заявить, что математика – это особая культура мышления, которая в некоторой части становится доступной тем, кто избрал популярную профессию программиста. Но все же настоящая математика – это таинство иной культуры, которая выбивается из любых культурных норм.
Натуральный ряд чисел – основа математики. Да и в целом миропонимания, поскольку за каждым натуральным числом скрывается определенная «философия», акт мышления. Бесконечность познания выражена в бесконечности натурального ряда, а локальная конечность – в ограниченном наборе операторов. Как и в природе: законов мало, объектов, к которым они прилагаются – много. Проблема состоит в том, где разумно оборвать натуральный ряд, чтобы не выдумывать несуществующие объекты мышления? Скорее всего, его оборвать нельзя – если смыслы в начале ряда цепляются за каждое число, то дальше плотность смыслов падает, потому что множество цифр можно заменить так же, как и иррациональные – два числа и оператор между ними[3 - Понятно, что тривиальные случаи, вроде сложения с единицей, следует исключить. Также есть какие-то таинственные свойства за пределами ряда простых чисел. Возможно, потому что натуральный ряд линеен, но с его помощью приходится выражать объемные смыслы – в двух и более измерениях. Одного оператора для определения смыслосодержащих чисел, видимо, недостаточно.].
У единицы нет физического образа. Она несет в себе все исчисление, не тревожа его в умножении и устраняя при делении любого числа или функции на себя, оставаясь незримой константой, к которой стремятся все сходящиеся ряды. Галилей писал в «Беседах»: «Если какое-либо число должно являться бесконечностью, то этим числом должна быть единица: в самом деле, в ней мы находим условия и необходимые признаки, которые должно удовлетворять бесконечно большое число, поскольку оно содержит в себе столько же квадратов, сколько кубов и чисел вообще… Единица является и квадратом, и кубом, и квадратом квадрата и т. д… Отсюда заключаем, что нет другого бесконечного числа, кроме единицы. Это представляется столь удивительным, что превосходит способность нашего представления». Безмерное понимается (точнее, метафизические предощущается) в единичном, счет – до начала всякого счета. Единица представляет мысль о целостности уникальности и божественности. Она же и основа счета – «один, один, один…» Неразличимые объекты именно так и считаются. Но стоит идентичное различить хоть в чем-то (местоположении, времени…), и счет стронется с мертвой точки: «Один, два, три…».
Пифагор полагал, что первообразы и первоначала не поддаются изложению в словах, поэтому и приходится для ясности обучения прибегать к числам… Все разнообразие окружающего мира состоит из единичных вещей и событий, и самый первый взгляд не видит в нем никакого повторения. Отсюда – первичный статус единичного во всяком познании. Единичное символизируется как число – единица. Также единица символизирует понимание личного уникального «я»: один перед Богом, и не на кого свалить свои грехи. Отпадение от Бога означает неизбежную гибель: социум уже ничем не сплотить: без Бога одиночные «я» теряют понятие греха и связь с другими «я» через Бога. Только в Боге создается единодушие, единочувствие, целостность – что пифагорейцы называли Единицей (Порфирий, «Жизнь Пифагора»).
Как только появляется различие, неравенство, разделение, у пифагорейцев обнаруживается понятие о Двоице. Число «2» обнаруживается в виде отрицательной степени расстояния в законе всемирного тяготения и законе притяжения разноименных зарядов с «божественной» точностью, как только мы определяемся, что поле распространяется в трехмерном пространстве. То есть, точность здесь – не результат исчисления или теории, а результат конвенции.
В геометрии теорема Пифагора стала переходом в двумерное пространство из актуальной одномерности – громадным рывком мысли, переоткрытием природы, не случайно оставшимся таинством пифагорейской секты. Теорема Пифагора была прорывом – восстановлением божественной природы чисел, которая была поколеблена видимой невозможностью иррационального числа, представляющего диагональ прямоугольника, поразившей Пифагора настолько, что он счел это открытие сакральным знанием об ограниченности способностей богов.
Шпенглер напоминает про странный позднегреческий миф, согласно которому тот, кто впервые нарушил тайну рассмотрения иррационального и предал ее гласности, погиб при кораблекрушении, «поскольку несказанное и безобразное всегда должны пребывать сокрытыми». «Кто почувствует страх, лежащий в основе этого мифа, – тот самый страх, который постоянно отпугивал греков наиболее зрелого времени от расширения их крохотных городов-государств в политически организованные ландшафты, от устройства широких улиц и аллей с открытыми видами и рассчитанной отделкой, от вавилонской астрономии с ее проникновением в бесконечные звездные пространства и от использования средиземноморских путей, давно открытых кораблями египтян и финикян, – глубокий метафизический страх перед растворением осязаемо-чувственного и настоящего, того именно, чем античное существование как бы огораживало себя защитной стеной, за которой дремало что-то леденящее, бездна и первопричина этого в известной степени искусственно смастеренного и утвержденного космоса, – кто уяснит себе это чувство, тому откроется также последний смысл античного числа, меры, противопоставленной безмерному, и высокий религиозный этос, заключенный в его ограничении».
Земли у греков было много, но плотная застройка минимизировала затраты на оборону – сооружение стен. Хотя многие города обходились без стен, плотная застройка сама становилась оборонительными рубежами. Ужасные существа и могучие разбойники – это предания микенских времен. Грек их слушал как сказку, но в реальности знал, что путь до соседнего города безопасен, пока нет войны. Безмерность была чужда древнему греку так же, как и современному человеку со смартфоном в руках. Она – предмет размышлений узкого круга людей со сверхчеловеческими задачами.
Вернувшись к «двойке», мы должны увидеть в ней саму возможность мышления, подтвержденную бинарным кодом – наиболее удобным для устройств быстрого счета. Скорость операций перекрывает примитивность кода, состоящего из «нуля» (нет сигнала) и «единицы» (есть сигнал). Сама логика с законом исключения третьего – это тот же бинарный код: «А» и «не А», а третьего не дано. До тех пор, пока сама мысль не создаст зазор между «А» и «не А». Что уже есть посягательство на божественный порядок, где есть только «да» и «нет», а остальное – от лукавого.
Бинарная сущность пола очевидна своими зримыми признаками, но скрыто предопределена генетической разницей мужского и женского, из которого следует масса смыслов, усекаемых извращенцами «третьего пола» и сторонниками замены синтеза мужского и женского бесполыми: родителем-1 и родителем-2.
В теореме Ферма «2» становится определенным рубежом. Более высокие степени для целых чисел невозможно разбить на два целых числа в такой же степени. Теорема была сформулирована в 1637 году, а решена Эндрю Уайлсом с коллегами в 1995 году (публикация на 130 страницах). Поиски доказательства свели с ума тысячи математиков и закончились, когда созрели новейшие математические методы. Сам Ферма привел доказательства только для 4, позднее другие математики доказали теорему для 3, 5, 7. Затем нашлось доказательство для всех простых чисел меньше 100. Наконец, теорема была доказана, и это потребовало продвижения в целом ряде математических дисциплин.
«Тройка» – первый выход мышления за очевидный и удобный предел. Это порождение – из закона логики, из закона пола, возвышение над привычной для ощущения двумерностью образов окружающего мира. Восточная мысль определяет число «3» как магическое, поскольку в теле человека отсутствует что-либо в количестве трех. У пифагорейцев магия Тройки заключается в том, что любой процесс имеет начало, середину и конец.
С «тройки» начинаются чудеса. Из равнобедренных треугольников можно сложить паркет, из квадратов – тоже. Из треугольников и квадратов можно сложить объемные фигуры. А из правильных пятиугольников нельзя сложить ни паркет, ни объемную фигуру. Треугольник в виде тетраэдра прорывается в объем. Но для этого нужно четыре треугольника. Квадрат прорывается в объем только в наборе из шести штук. А пятиугольник «проскакивает» трехмерное измерение и «уходит» далее – в четырехмерное пространство, которое не постигнуть чувственным опытом. Оно уже полностью умозрительно. Но стоит добавить к пятиугольникам треугольники, и снова можно «опуститься» в двумерное пространство и сложить паркет.
«Четверка» существует в трехмерном пространстве как тетраэдр, который создает жизнь, основанную на четырехвалентном углероде. Четверке пифагорейская традиция приписывает устойчивость и статическую целостность. Восточные суеверия считают это число «плохим» (примерно так же, как число 13). В буддизме 4 благородные истины (нечто существует, не существует, существует и не существует одновременно, не может рассматриваться ни как существующее, ни как несуществующее). В христианском символизме указывается на стороны света и полноту вездеприсутствия, в талмудическом ритуализме – в различных правилах.
Соотношение сторон прямоугольного треугольника в виде 3:4:5 – единственное для последовательных целых чисел (пифагорова тройка). Хотя есть трехмерный аналог теоремы Пифагора для прямоугольного тетраэдра, но «пифагоровой четверки» не существует. Равная разница между прилегающими к прямому углу гранями с соотношением n: (n+1): (n+2): (n+3) существует только при значении площади меньшей грани ?2.
«Четверка» и «пятерка» всплывают в числе измерений (независимых координатных осей), которые считаются счетными, но, наверняка, можно построить какую-нибудь модель с дробным, иррациональным или мнимым числом измерений. Знаменитая «гипотеза Пуанкаре», которая (как считается) была доказана Григорием Перельманом, в 1–3 измерениях тривиальна, в ситуации свыше 6 измерений решается просто, поскольку для этого много «степеней свободы», а самое сложное решение – для 5 измерений, пришлось на долю российского ученого-чудака, который отказался от положенной ему премии в миллион долларов, считая, что ему деньги не нужны, коль скоро он знает, как устроена Вселенная.
«Шестерка» – в виде бензольного кольца уникальна тем, что ничего подобного другие числа в окружающем нас мире не предлагают. А «шестерка», оставаясь «плоской» конструкцией, порождает массу «двумерных» веществ – от духов до тротила. Платоновская нумерология предполагает, что число 6 символизирует Творца, а число 7 – строение мира. Последнее, вероятно, связано с тем, что невооруженный человеческий глаз видит, помимо звезд, семь небесных объектов – Солнце, Луну и еще пять планет.
«Десятку» пифагорейцы считали совершеннейшим числом, в котором присутствуют все отношения и подобия между числами. Для нас 10 – основа десятеричной системы счисления.
Простые числа в полярных координатах (n, n) образуют на плоскости архимедовы спирали – 2, если рассматривать точки на плоскости вблизи начала координат, и 20, если включить в картинку несколько тысяч точек. Дальнейшее увеличение числа включенных в картинку формирует на ней 280 лучей. Та же картинка будет и с целыми числами, но при более плотном заполнении пространства линии зрительно сливаются. Важно, что здесь проявляется «сакральное» число 20 – для ситуации с простыми числами.
Современная наука вполне может считать «20» «священным числом» – это количество видов аминокислот в белке. Как и число 23 – количество хромосом, которые передаются каждым родителем ребенку (всего 46 хромосом). Нечетное значение определяет различие вклада в наследственность от дедов и бабок (чего нет у человекообразных обезьян – с 24 хромосомами). Кроме того, в теле человека 23 межпозвоночных хряща, а в руке человека 23 сустава.