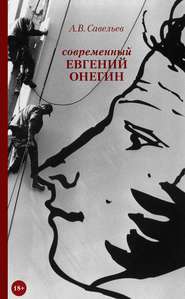скачать книгу бесплатно
…Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего —
резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинениях чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу»[28 - Абрам Терц (Андрей Синявский). Прогулки с Пушкиным. М., 2005. С. 7.].
Начало работы, как видим, многообещающее. Но эпатажные с точки зрения ортодоксального пушкиноведения идеи продолжают сыпаться одна за другой и далее по ходу всего изложения текста: «Он (Пушкин. – А.С.) не играл, а жил, шутя и играя»; «Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму»; «Сопутствующая амурная мимика в его растущей любви к искусству привела к тому, что пушкинская Муза давно и прочно ассоциируется с хорошенькой барышней, возбуждающей игривые мысли, если не более глубокое чувство, как это было с его Татьяной. Та, как известно, помимо неудачливой партнерши Онегина и хладнокровной жены генерала, являлась личной Музой Пушкина и исполняла эту роль лучше всех прочих женщин. Я даже думаю, что она для того и не связалась с Онегиным и соблюдала верность нелюбимому мужу, чтобы у неё оставалось больше свободного времени перечитывать Пушкина и томиться по нём. Пушкин её, так сказать, сохранял для себя»; «Пустота – содержание Пушкина»; «Нужно ли говорить, что Пушкин по меньшей мере наполовину пародиен? Что в его произведениях свирепствует подмена, дергающая авторитетные тексты вкривь и вкось? Классическое сравнение поэта с эхом придумано Пушкиным правильно – не только в смысле их обоюдной отзывчивости. Откликаясь “на всякий звук”, эхо нас передразнивает. Пушкин не развивал и не продолжал, а дразнил традицию, то и дело оступаясь в пародию и с её помощью отступая в сторону от магистрального в истории литературы пути. Он шёл не вперёд, а вбок»;
«В его текстах живет первобытная радость простого называния вещи, обращаемой в поэзию одним только магическим окликом»; «Пафос количества в поимённой регистрации мира сблизил сочинения Пушкина с адрес-календарем, с телефонной книгой»; «Ему главное покрыть не занятое стихами пространство и, покрыв, засвидетельствовать своё почтение. Поражает, как часто его гениальность пробавлялась готовыми штампами – чтобы только шире растечься, проворнее отреагировать. При желании он мог бы, наверное, без них обойтись, но с ними получалось быстрее и стих скользил, как на коньках, не слишком задевая сознание. Строфа у Пушкина влетает в одно – вылетает в другое ухо: при всей изысканности она достаточно ординарна и вертится бесом, не брезгуя ради темпа ни примелькавшимся плагиатом, ни падкими на сочинителей рифмами»; «Смерть на дуэли настолько ему соответствовала, что выглядела отрывком из пушкинских сочинений. Отрывок, правда, получился немного пародийный, но это ведь тоже было в его стиле»[29 - Абрам Терц. Указ. соч. С. 8, 12, 19, 27–28, 31, 42, 50. 51, 55.].
Стиль и содержание пушкинского «Евгения Онегина» также не остаются без внимания критика, «гуляющего» с Пушкиным. Позволим А.Д. Синявскому и здесь развернуть свою аргументацию по интересующему нас предмету более подробно, ограничивая ее лишь допустимым размером цитат.
Об «энциклопедичности» романа в стихах и о роли автора в нем:
«Энциклопедичность романа в значительной мере мнимая. Иллюзия полноты достигается мелочностью разделки лишь некоторых, несущественных подробностей обстановки. Там много столовой посуды, погоды, бальных ножек, и вследствие этого кажется, чего там только нет. На самом же деле в романе в наглую отсутствует главное и речь почти целиком сводится к второстепенным моментам. На беспредметность “Онегина” обижался Бестужев-Марлинский, не приметивший всеми ожидаемого слона. “Для чего же тебе из пушки стрелять в бабочку?.. Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка, подобно браминам индийским, когда у тебя в руке резец Праксителя?” (Из письма к Пушкину, 9 марта 1825 г.).
Но Пушкин нарочно писал роман ни о чём. В “Евгении Онегине” он только и думает, как бы увильнуть от обязанностей рассказчика. Роман образован из отговорок, уводящих наше внимание на поля стихотворной страницы и препятствующих развитию избранной писателем фабулы. Действие еле-еле держится на двух письмах с двумя монологами квипрокво, из которого ровным счётом ничего не происходит, на никчемности, возведённой в герои, и, что ни фраза, тонет в побочном, отвлекающем материале. Здесь минимум трижды справляют бал, и, пользуясь поднятой суматохой, автор теряет нить изложения, плутает, топчется, тянет резину и отсиживается в кустах, на задворках у собственной повести. Ссора Онегина с Ленским, к примеру, играющая первую скрипку в коллизии, едва не сорвалась, затертая именинными пирогами. К ней буквально продираешься вавилонами проволочек, начиная с толкучки в передней – «лай мосек, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога», – подстроенной для отвода глаз от центра на периферию событий, куда, как тарантас в канаву, поскальзывается повествование»[30 - Абрам Терц. Указ. соч. С. 51–53.].
Об особенностях композиции «Евгения Онегина»:
«Роман утекает у нас сквозь пальцы, и даже в решающих ситуациях, в портретах основных персонажей, где первое место отведено не человеку, а интерьеру, он неуловим, как воздух, грозя истаять в сплошной подмалёвок, и, расплывшись, сойти на нет – в ясную чистопись бумаги. Недаром на его страницах предусмотрено столько пустот, белых пятен, для пущей вздорности прикрытых решетом многоточий, над которыми в своё время вдосталь посмеялась публика, впервые столкнувшаяся с искусством графического абстракционизма. Можно ручаться, что за этой публикацией опущенных строф ничего не таилось, кроме того же воздуха, которым проветривалось пространство книги, раздвинувшей свои границы в безмерность темы, до потери, о чём же, собственно, намерен поведать ошалевший автор»[31 - Там же. С. 54.].
И наконец – как итог всему неординарному публицистическому рассуждению, – общая оценка Синявским-Терцем пушкинской поэзии:
«Мы видим, как, подменяя одни мотивы другими (служение обществу – женщинами, женщин – деньгами, высокие заботы – забавой, забаву – предпринимательством), Пушкин постепенно отказывается от всех без исключения, мыслимых и придаваемых обычно искусству, заданий и пролагает путь к такому – до конца отрицательному – пониманию поэзии, согласно которому та “по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме себя самой”. Он городит огород и организует промышленность с тем, чтобы весь ею выработанный и накопленный капитал пустить в трубу. Без цели. Просто так. Потому, что этого хочет высшее свойство поэзии»[32 - Абрам Терц. Указ. соч. С. 107.].
И далее:
«Пушкинские кивки и поклоны в пользу отечества, добра, милосердия и т. д. – не уступка и не измена своим свободным принципам, но их последовательное и живое применение. Его искусство настолько бесцельно, что лезет во все дырки, встречающиеся на пути, и не гнушается задаваться вопросами, к нему не относящимися, но почему-либо остановившими автора. Тот достаточно свободен, чтобы позволить себе писать о чём вздумается, не превращаясь в доктринёра какой-либо одной, в том числе бесцельной, идеи.
Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум…
Ландшафт меняется, дорога петляет. В широком смысле пушкинская дорога воплощает подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям и поэтому не придерживающегося твердых правил насчет того, куда и зачем идти. Сегодня к вам, завтра к нам. Искусство гуляет. Как трогательно, что право гуляния Пушкин оговорил в специальном параграфе своей конституции, своего понимания свободы.
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам…
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Вот счастье! Вот права…
Искусство зависит от всего – от еды, от погоды, от времени и настроения. Но от всего на свете оно склонно освобождаться. Оно уходит из эстетизма в утилитаризм, чтобы быть чистым, и, не желая никому угождать, принимается кадить одному вельможе против другого, зовёт в сражения, строит из себя оппозицию, дерзит, наивничает и валяет дурака. Всякий раз это – иногда сами же авторы – принимают за окончательный курс, называют каким-нибудь термином, течением и говорят: искусство служит, ведёт, отражает и просвещает. Оно всё это делает – до первого столба, поворачивает и – ищи ветра в поле.
Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно»[33 - Абрам Терц. Указ. соч. С. 110.].
Содержание «Прогулок с Пушкиным» Синявского-Терца сыграло для меня роль своеобразного «мерила» или методологического маяка, позволившего достаточно четко отделить поэзию Пушкина от той спекулятивной псевдолитературной оболочки, которая окружала эту поэзию в течение почти двух столетий. Этими же методологическими мерками я измерял и содержание многочисленных «откликов» на пушкинский текст «Евгения Онегина».
Дальнейшие поиски руководящих идей протекали у меня преимущественно в виде библиографических штудий, которые, правда благодаря использованию компьютеров, в наше время чрезвычайно упростились. Однако по характеру я всё-таки консерватор, и как историк, то есть человек, смотрящий преимущественно назад, а не вперед, с недоверием отношусь даже к интернету. Поэтому я по старой привычке бреду в Российскую государственную библиотеку (РГБ, в недалеком прошлом носившую имя В.И. Ленина), вхожу в ее электронный каталог и получаю даже больше того, что мог бы дать в аналогичном случае интернет. К примеру, проведя поиск в электронном каталоге РГБ по словосочетанию «Евгений Онегин», я получаю на экране монитора подборку из 1123 наименований. Анализ этой подборки больше всего напоминает промывку золотоносного песка на Колыме: отделяя пустую породу, я ищу золото. И – как оказывается – ищу не зря.
Под порядковыми номерами 348 и 349 на экране монитора высвечивается:
348. Sambeek-Weideli Beatrice van. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Библиография. Eine Bibliographie zu Puskins <Evgenij Onegin> (Slavica Helvetica, Band 35), Lang Verlag, Bern, Frankfurt am Main, New York, Paris, 1990. 390 S.;
349. Sambeek-Weideli Beatrice van. Wege eines Meisterwerks. Die russische Rezeption von Puskins <Evgenij Onegin>. (Slavica Helvetica, Band 34), Lang Verlag, Bern, 1989. 510 S.
Это означает, что в 1989 и в 1990 гг. в зарубежном периодическом издании «Slavica Helvetica» были опубликованы две большие работы, автор которых поставил перед собой важную исследовательскую задачу – с максимальной полнотой проанализировать все «отклики» и «заимствования», сделанные в России на основе пушкинского текста. Первая из указанных работ (под № 348) представляла собой наиболее полную библиографию пушкинского произведения «Евгений Онегин», опубликованную за рубежом. Вторая – № 349, название которой можно было перевести как «Путь шедевра. Русские восприятия пушкинского текста “Евгения Онегина”» – являлась, по сути дела, диссертацией, защищенной автором (Беатрис фон Самбик-Вейдели) в одном из престижных европейских университетов.
Когда я познакомился с содержанием двух этих работ (а сделать это можно было лишь в несколько привилегированном Отделе русского зарубежья РГБ, в помещении бывшего элитного спецхрана, располагавшегося на самом верхнем этаже библиотеки), я понял, что лучших справочных материалов, подробно характеризующих все «заимствования», «переделки» и «отклики» на текст пушкинского романа в стихах, мне не найти. Со справками из работ Б. Самбик-Вейдели по полноте не могли сравниться ни обстоятельные комментарии к тексту «Евгения Онегина» Н.Л. Бродского, Ю.М. Лотмана и В.В. Набокова, ни оригинальный многоцелевой указатель К. Лапина, ни юбилейный «Ономастикон» О.С. Крюковой, ни фундаментальная двухтомная «Онегинская энциклопедия» под общей редакцией Н.И. Михайловой, выделявшаяся даже на фоне скрупулёзно отредактированных работ, подготовленных к двухсотлетнему юбилею со дня рождения поэта.[34 - См.: Бродский Н.Л. Евгений Онегин. Роман А.С.Пушкина. М., 1964; Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя. Л., 1980; Набоков В.В. Комментарий к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. М., 1999; Лапин К. Кто? Что? Где? Когда? в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина. М., 2009; Крюкова О.С. Ономастикон романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». М., 1999; Онегинская энциклопедия. Т. 1. М., 1999; Т. 2. 2004.]
В отличие от интеллектуального многословия, господствовавшего в эмигрантских и постсоветских справочных изданиях к пушкинскому тексту, у Б.Самбик-Вейдели все было разложено, как говорится, «по полочкам», причем не только в самой диссертации, но и в подготовительной и вспомогательной к ней работе – библиографии к «Евгению Онегину». Большая часть этой библиографии давала представление о публикациях, проникнутых идеями пушкинского культа. «Культовый» характер представленного материала отчетливо проявлялся уже при знакомстве с рубрикацией первых глав книги: Издания «Евгения Онегина»; Рукописи «Евгения Онегина»; Литература о «Евгении Онегине»; Нерусские публикации о «Евгении Онегине»; «Евгений Онегин» на других языках; «Евгений Онегин» в музыке; «Евгений Онегин» на сцене; «Евгений Онегин» в киноискусстве; «Евгений Онегин» в изобразительном искусстве[35 - См.: Sambeek-Weideli B. Евгений Онегин А.С. Пушкина. Библиография… S. 1–326.]. Однако заключительные главы библиографии Б. Самбик-Вейдели характеризовали уже работы, ставившие под сомнение или вовсе ломавшие расхожие представления о культе Пушкина в литературе, – это были главы о стилизациях, пародиях и других переработках текста пушкинского романа в стихах, а также о литературных откликах на эти публикации[36 - Ibid. S. 327–346.].
Таким образом, публицистические новации и откровения А.Д. Синявского (А. Терца), высказанные им в эссе «Прогулки с Пушкиным», после знакомства с работами Б. Самбик-Вейдели обрели для меня вполне осязаемую историко-литературную форму, наполненную многочисленными фактами – конкретными публикациями. Обе работы (книги А.Д. Синявского и Б. Самбик-Вейдели) указывали на то, что пушкинский культ в русской литературе не был ни тотальным, ни доминирующим: немало авторов пытались в разное время и в разной форме преодолеть его или по крайней мере поставить ему преграды.
Разобравшись в том, как складывался пушкинский культ и выяснив специфику его влияния на русскую литературу, я, тем не менее, не добился почти никакого прогресса в определении (точнее говоря – в понимании сути) жанра того литературного произведения, которое было найдено мной и которое фактически послужило импульсом начатого затем литературоведческого исследования. В самом деле, что же такое я обнаружил на страницах найденной в 1994 г. стихотворной машинописной подборки – стилизацию, пародию, бурлеск или, может быть, обыкновенный плагиат? Раньше я подходил к этому вопросу абсолютно интуитивно, не вникая в суть дела. Теперь же мне предстояло опереться на достижения современной (боюсь употреблять здесь определение «научной») филологии.
Я начал подбирать и изучать соответствующий материал (сугубо филологический) и скоро понял, что столкнулся с довольно сложной и слабо разработанной в теоретическом плане проблемой. Стоявшая передо мной задача, в сущности, заключалась в том, чтобы выяснить специфические черты тех литературных произведений, которые создавались при помощи определённых изменений (в литературоведении такие изменения называются травестией), вносимых в текст другого произведения, являющегося образцом и основой для данной литературной переработки-травестии. В кажущемся монолитным советском литературоведении, изначально ориентированном на демонстрацию партийности в литературе, приукрашивание социальных явлений и культовый холуяж, проблематика, связанная с травестией текста, не была и не могла быть ни приоритетной, ни доминирующей. Поэтому полное отсутствие научной строгости в терминах и определениях вполне осознавалось мной уже при знакомстве с советской литературоведческой теорией, касающейся интересующих меня проблем. Сам термин «травестия» в прежнем формате определялся как своеобразный жанр комической поэзии, близкий к пародии и бурлеску[37 - См.: Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 306.], бурлеск же характеризовался как жанр комической пародийной поэзии[38 - См.: Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 59.], а пародия – как комическое подражание художественному произведению или группе произведений[39 - См.: Гаспаров М.Л. Пародия // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 268.].
Столь расплывчатые и смахивающие на тавтологию термины не только не проясняли специфики каждого из указанных видов литературного подражания, но, наоборот, лишь запутывали подходы к пониманию этой специфики. Стоит подчеркнуть также, что жанр пародии, наиболее привлекавший внимание советских литературоведов, в теоретическом плане был осмыслен довольно поверхностно[40 - См., напр.: Богак Б., Кравцов Н., Морозов А. Русская литературная пародия. М.—Л., 1930; Гаспаров М.Л. Указ. соч. С. 268; Русская литература ХХ века в зеркале пародии. Антология. М., 1993; Новиков В.И. Книга о пародии. М., 1989.], а такое фундаментальное в зарубежной филологии понятие, как «интертекстуальность» отечественные литературоведы предпочитали вообще не употреблять.
Положение дел начало меняться лишь в 1990-е гг., когда крах коммунистической идеологии позволил российским литературоведам не только опереться в своих работах на основы теории интертекстуальности, но и начать собственные теоретические поиски в этом направлении.[41 - См. напр.: Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008; Москвин В.П. Интертекстуальность: Понятийный аппарат, фигуры, жанры, стили. М., 2011; Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М., 2009; Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности. М., 2012.] В работах постсоветского времени отечественные литературоведы и филологи обращали внимание прежде всего на демонстрацию применения и характеристику понятийного аппарата интертекстуальности, но даже весьма серьезные научные работы (к примеру, монография В.П. Москвина) зачастую по-своему и довольно своеобразно истолковывали основные фигуры и стили интертекста.
Между тем – как показывают исследования и просто здравый смысл, – интертекстуальность является характернейшей чертой пушкинских произведений[42 - См.: Пушкин А.С. Переводы и подражания. М., 1999.], а пространные комментарии В.В. Набокова позволяют судить не только о галлицизмах, но и обо всех фигурах интертекста, встречающихся в стихотворном романе А.С. Пушкина[43 - См.: Набоков В.В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. М., 1999.].
Учитывая то обстоятельство, что в российской филологии до сих пор нет четких и полностью откорректированных определений основных понятий интертекстуальности, и полагая, что приоритет в разработке теории интертекстуальности принадлежит зарубежным исследователям, я, после довольно долгого размышления, пришел к выводу о необходимости использовать в своей работе те термины и определения, которые использует французская исследовательница-филолог Н. Пьеге-Гро. Теоретическая концепция Н. Пьеге-Гро привлекла внимание прежде всего тем, что любой вид интертекстуальности, рассматриваемый в ее рамках, вполне можно было интерпретировать как разновидность подражания, то есть «мимесиса» (по терминологии Аристотеля) – явления, которое с античных времен считалось основой не только поэтики, но и любого вида искусств. Разновидностями подражания можно считать и все формы травестии текста (это явление Пьеге-Гро именовала в своей работе «деривацией») – стилизацию, пародию и бурлеск.
Стилизация, очевидно, представляла собой наиболее простую форму подражания, основанную на имитации стиля автора. Так хороший ученик всегда стремится подражать своему учителю. «При стилизации, – отмечает в своей работе Н. Пьеге-Гро, – исходный текст не подвергается искажению, имитируется лишь его стиль, поэтому при подобного рода подражании выбор предмета не играет роль», иными словами, «мишенью стилизации является не конкретное сочинение, а стиль автора в целом, общие особенности которого можно извлечь из любых его книг»[44 - Пьеге-Гро Н. Указ. соч. С. 104, 107.]. Пародией и бурлеском именовались более сложные формы подражания, основу которых определяла уже существенная трансформация (травестия) либо стиля, либо сюжета произведения того автора, которому пытаются подражать. По мнению Н. Пьеге-Гро, с которой я вполне солидарен, «в основе бурлескной травестии лежит перевод в низкий стиль того или иного произведения при сохранении его сюжета, суть же пародии заключается в трансформации текста, когда изменению подвергается сюжет, а стиль сохраняется»[45 - Там же. С. 95.].
Руководствуясь всеми этими определениями, а в затруднительных случаях заглядывая в брошюру В.П. Москвина, я мог теперь вполне осмысленно анализировать и классифицировать накапливавшийся поэтический материал, попутно знакомясь с различными интертекстуальными феноменами, возникавшими либо через травестию, либо через использование доступного мне научно-справочного аппарата. Тождественность основных понятий поэтики я определял, ориентируясь в основном на классический учебник Б.В. Томашевского[46 - См.: Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 2001.], в выводах же, вытекавших из анализа всего материала, стремился к максимальной независимости.
Анализ
Приступая к анализу довольно многочисленных подражаний и переработок текста пушкинского романа в стихах, я должен был прежде всего четко определить цель такого анализа, поскольку любые филологические поиски, лишенные конкретной цели, попросту бессмысленны. Работа, проделанная ранее в этом направлении, подводила к мысли, что конечной целью предполагаемого анализа должно стать определение той формы травестии, которую я мог бы взять за основу при создании собственного интертекстуального образца (иначе говоря – переработки) текста пушкинского произведения. Практически для достижения этой цели нужно было решить следующий вопрос: какая из трех литературных форм – стилизация, пародия или бурлеск – является наиболее совершенной и подходящей формой для собственной переработки текста пушкинского «Евгения Онегина»? Ориентируясь на решение этой задачи и стараясь соблюдать хронологическую последовательность при выборе накопленных поэтических образцов, я и приступил к анализу. Разумеется, предпринятое мной «проникновение в поэтический материал» отличалось от тех изящных академических приемов и поисковых стратегий, которыми характеризуются, например, сочинения Умберто Эко, но за добросовестность и последовательность всех своих действий я читателям ручаюсь. Несмотря на большое количество стилизаций текста пушкинского романа в стихах, появившихся в России уже в 1820–1830-х гг., первое произведение, которое в хронологической последовательности мне пришлось анализировать, оказалось бурлеском.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: