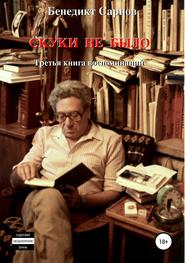скачать книгу бесплатно
мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроникающим взглядом.
Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.
О «Хозяине» я отозвался более сдержанно. Хотя первая строчка ("А мой хозяин не любил меня…") сразу захватила меня своей грубой откровенностью. Да и другие строки тоже впечатляли:
А я всю жизнь работал на него,
Ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
Смотрел, смотрел,
не уставал смотреть.
И с каждым годом мне всё реже, реже
Обидною казалась нелюбовь.
При всей своей горькой мощи это стихотворение слегка отвратило меня тем, что автор говорил в нем не столько о себе и от себя, как, на мой взгляд, подобало говорить поэту, а от лица некоего обобщенного лирического героя. Как мне тогда представлялось, сам Борис вряд ли так уж любил Хозяина, и уж во всяком случае вряд ли таскал с собою и развешивал в землянках и в палатках его портреты.
Примерно это я тогда ему и сказал. (Не уверен, что был прав, но – рассказываю, как было).
Борис промолчал.
Но пока всё шло более или менее гладко.
Неприятности начались, когда он прочел стихотворение, начинавшеееся словами: "В то утро в мавзолее был похоронен Сталин".
А кончалось оно так:
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,
Как будто выдирали из перезябшей почвы
Его приказов окрик, его декретов почерк:
Следы трехдневной смерти
И старые следы —
Тридцатилетней власти
Величья и беды.
Я шел все дальше, дальше,
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы —
Всё, что построил Сталин:
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей…
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.
Отдав должное смелости его главной мысли (заключавшейся в том, что сталинский социализм – бесчеловечен, поселить в нем людей нам только предстоит), я сказал, что в основе своей стихотворение все-таки фальшиво. Что я, как Станиславсий, не верю ему, что он действительно в тот день думал и чувствовал всё, о чем тут рассказывает. И вообще, полно врать, никакой социализм у нас не выстроен…
Он опять промолчал и всё опять шло довольно гладко, пока он не прочел такое – тоже только что тогда написанное – стихотворение:
Толпа на Театральной площади.
Вокруг столичный люд шумит.
Над ней четыре мощных лошади,
пред ней экскурсовод стоит…
Я вижу пиджаки стандартные —
фасон двуборт и одноборт,
косоворотки аккуратные,
косынки тоже первый сорт.
И старые и малолетние
глядят на бронзу и гранит, —
то с горделивым удивлением
Россия на себя глядит.
Она копила, экономила,
она вприглядку чай пила,
чтоб выросли заводы новые,
громады стали и стекла…
Уже это начало возмутило меня своим фальшивым пафосом.
Вряд ли у меня тогда было полное представление о той страшной цене, которую Россия заплатила за сталинскую теорию и практику построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Но ведь уже было не только написано, но и напечатано («Новый мир», 1956, № 10) стихотворение Заболоцкого «Противостояние Марса», в котором об этих самых «громадах стали и стекла» говорилось в совсем иной тональности:
Подобный огненному зверю,
Глядишь на землю ты мою,
Но я ни в чем тебе не верю
И славословий не пою.
Звезда зловещая! Во мраке
Печальных лет моей страны
Ты в небесах чертила знаки
Страданья, крови и войны…
И над безжизненной пустыней
Подняв ресницы в поздний час,
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишенный сердца и души,
Кто о чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши…
Но самое большое мое возмущение вызвала последняя, концовочная, финальная строфа этого стихотворения Бориса, – его, так сказать, смысловой и эмоциональный итог:
Задрав башку и тщетно силясь
запомнить каждый новый вид,
стоит хозяин и кормилец,
на дело рук своих глядит.
Тут мой спор с ним достиг самого высокого накала.
Собственно, никакого спора не было. Говорил я один. Борис молчал.
– Вы только подумайте, что вы написали! – горячился я. – Вот эти плохо одетые, замордованные, затраханные чудовищным нашим государством-Левиафаном люди, – это они-то хозяева? А те, что разъезжают в казенных автомобилях, жируют в своих государственных кабинетах, – они, значит, слуги народа? Да? Вы это хотели сказать?
Когда я исчерпал все свои доводы и напоследок обвинил его в том, что он повторяет зады самой подлой официальной пропагандистской лжи, он произнес в ответ одну только фразу:
– Ладно. Поглядим.
Тем самым он довольно ясно дал мне понять, что еще не вечер. Придет, мол, время, и истинный хозяин еще скажет свое слово.
Намек я понял. И хоть остался при своем, поверил, что он, во всяком случае, не врет, – на самом деле верит, что сказанное им в этом стихотворении – правда.
Но главный скандал разразился после того как он прочел мне – тоже только что написанное – стихотворение про Зою. Про то, как она крикнула с эшафота: "Сталин придет!".
Завершали стихотворение такие строки:
О Сталине я в жизни думал разное,
Еще не скоро подобью итог…
И далее следовало мутноватое рассуждение насчет того, что, как бы там ни было, а это тоже было, и эту страницу тоже, мол, не вычеркнуть из истории и из нашей жизни.
– Как вы могли! – опять кипятился я. – Да как у вас рука поднялась! Как язык повернулся!
– А вы что же, не верите, что так было? – кажется, с искренним интересом поинтересовался он. (Мне показалось, что он и сам не слишком в это верит).
– Да хоть бы и было! – ответил я. – Если даже и было, ведь это же ужасно, что чистая, самоотверженная девочка умерла с именем палача и убийцы на устах!
Когда я откричался, он – довольно спокойно – разъяснил:
– У меня около сотни стихов о Сталине. Пусть среди них будет и такое…
На Сталина все беды свалены
Но самый большой скандал разразился по поводу таких его строк:
Художники рисуют Ленина,
как раньше рисовали Сталина.
А Сталина теперь не велено:
на Сталина все беды свалены.
Их столько, бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
скорей – жестокое величество.
Сейчас, когда я отыскал в его трехтомнике это стихотворение, запомнившееся мне только первым четверостишием, да последними двумя строчками: ("Уволенная и отставленная, Лежит в подвале слава Сталина"), меня особенно покоробило в нем слово «величество». (Не само слово даже, а интонация, с какой оно произнесено: что бы, мол, вы там ни говорили…).
Но тогда возмутило меня там совсем другое.
– Ах, вот как! – иронизировал я. – Свалены, значит? А сам он, бедный, выходит, ни в чем не виноват?
В этом слове ("свалены", как это мне запомнилось, или «взвалены», как это теперь напечатано) мне тогда померещилось стремление Бориса выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.
Хотя в основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи, вероятно, лежало более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших бед был не Сталин, а порожденная, – конечно, им, Сталиным, но не только им – система.
Речь над гробом Заболоцкого
Наташа Роскина, с которой мы дружили, Слуцкого терпеть не могла. Имени его не могла слышать спокойно. И надо признать, что некоторые основания для этого у нее были.
Наташа одно время была женой Николая Алексеевича Заболоцкого. Брак их оказался непрочным и, наверно, правильнее было бы назвать его не браком, а коротким и бурным романом. Но роман этот оставил глубокий след в жизни обоих. У Заболоцкого это отразилось в дивных стихах лирического цикла «Последняя любовь», одного из лучших созданий любовной лирики в русской поэзии ХХ века. В том, что лучшие стихи этого цикла посвящены Наташе, для тех, кто знал ее, не может быть никаких сомнений. В одном из них даже отчетливо запечатлен очень похожий ее портрет:
Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.
Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.
Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.
А Наташа об этом их недолгом браке – или долгом романе – рассказала в прозе. В очень честных, не щадящих ни его, ни себя воспоминаниях, которые ей еще при жизни удалось напечатать (не на родине, конечно, где это тогда было невозможно, а в Париже).