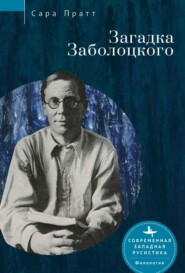скачать книгу бесплатно
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?
[Пушкин 1937, 1: 211]
В следующих строфах Пушкин сохраняет рефрен в виде повторяющихся вопрошаний, но сам вопрос уже звучит как «Встречали ль Вы?» (то есть: «Вы встречали певца любви?»), а затем – «Вздохнули ль Вы?» (то есть: «Вы вздохнули, когда услышали тихий глас певца любви?»).
«Автор» у Заболоцкого пытается воплотить подобную же поэтическую последовательность, но при этом падает в яму, которую сам вырыл. Его самый явный плагиат, «Слыхали ль Вы?», подчеркивает комическое противопоставление архаики и современности в монологе – ведь слышна не меланхолическая песнь «певца любви», а тарахтение моторной лодки. И тот факт, что этот звук обозначается словом трепетанье, которое скорее подходит для описания чувствительного сердца, чем для мотора, только усиливает это противопоставление. Затем «автор» переделывает рефрен, используя однокоренное слово с пушкинским вздохнули (корень дых-, дыш-, дух-, дох-), но вместо того чтобы спросить, «вздохнула» ли слушательница над певцом любви, он спрашивает, не «дышала» ли она воздухом вятского затона, который, как он клянется, прекраснее одеколона. Эта очевидная гипербола и могла бы, вероятно, балансировать на тонкой грани между смешным и возвышенным, если не вспоминать, что прототип «автора» происходил из той же местности близ реки Вятки и изменил написание своей фамилии именно для того, чтобы избавиться от ассоциаций с болотом. Похоже, что воздух затона не был для его обоняния таким уж ароматным. Как только понятия аромата и затона возникают в непосредственной близости, рефрен «Слыхали ль Вы?» начинает отдавать весьма уничижительным каламбуром, так как «слышать» в словосочетании «слышать запах» – слово, однокоренное (слых-, слыш-) с глаголом «слыхали». Настойчивое внимание «автора» к воздуху затона приводит к тому, что рефрен, помимо очевидного обозначения слуховых ощущений, начинает слабо намекать на обонятельный вариант прочтения. «Вдыхали ль вы? Нет! Не вдыхали! И я как будто не вдыхал…» Понятно, что литературный двойник Заболоцкого крепко увяз в тине плагиата и литературной бездарности[51 - Автор не учитывает еще и каламбурного прочтения пушкинской строчки («слыхали львы») которое стало поводом для многочисленных шуток. – Примеч. ред.].
Но не все потеряно. По крайней мере, он, кажется, осознает проблему, потому что с воплем отчаяния он оборачивается к собеседнице и извиняется с крайним самоуничижением:
(Посмотрел на собеседницу. С отчаянным воплем.)
Я, Лидья Якольна
, нахал!
Мошенник я, мерзавец, тать!
Как можно этим Вас пытать?
Сие сокращение слогов как нельзя лучше свидетельствует о душевном волнении автора.
Затем монолог погружается в литературный и интеллектуальный хаос, примерно через 20 строк достигает точки невозврата и заканчивается. Сначала «автор» пытается снискать расположение «Лидьи Якольны», называя ее «незабвенным меценатом, Вергилием в дебрях Академий [и] Сократом в версификациях». «Академия» здесь – каламбур, поскольку слово относится как к «академии» в общем, так и к издательству «Academia», с которым была связана Л. Гинзбург и которое оказалось «в дебрях» (то есть было закрыто) в результате политических преследований в конце 1920-х годов. После этого «автор», похоже, занимает более агрессивную позицию, утверждая, что даже «мерзавцы, тати и лгуны» выходят «в люди», долетают до луны и могут что-то дать людям. Но снова и снова он опровергает свои утверждения (многие из которых уже не имеют смысла) в примечаниях, например, таких: «Сего понять невозможно иначе как явную ложь и клевету».
Наконец, после «секунды молчания» «автор» рисует образ гроба, стоящего на столе, в соответствии с обычной русской практикой прежних времен. Эта картина отсылает к строке из хорошо известного стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского»: «Где стол был яств, там гроб стоит», но еще в ней отражено то же прямое противостояние со смертью (возможно, с элементом назидательности), которым завершаются многие кладбищенские стихотворения, в том числе «Элегия, написанная на сельском кладбище» Грея и ее переложение Жуковским[52 - См. [Державин 1958: 6]. В стихотворениях Грея и Жуковского осязаемое напоминание о смерти обеспечивает надгробие с назидательной эпитафией.]. В этом обращении к традиции заключается спасение «автора»: он признает литературную условность смерти как завершения и тем самым находит способ закончить монолог, хоть и неуклюже, просто врезавшись в англицизм «Стоп!»[53 - См. [Smith 1974: 113, 117].]:
…И вот —
представьте дом неприхотливый,
в столовой гроб, в гробу – урод…
..........................................
Я знаю: вид такого дома
немножко мрачен для альбома,
но дело в том, что если гроб —
то и конец. Довольно! Стоп!
Непонятное, неуместное кощунство, которое, однако, можно было ожидать после предшествующего.
Оправдание сие – смешно и нелепо. Оно свидетельствует также о вредном свободомыслии сочинителя, который как бы не верует в загробное бытие.
Это явно мастерское литературное произведение, хоть и весьма своеобразное. «Монолог» – это практически учебник по применению формалистского принципа «обнажения приема»: в нем есть автор, создающий персонажа, называемого «автором», который, в свою очередь, является протагонистом в собственном произведении. Таким образом, «автор», созданный монологом, одновременно «пишет» монолог в альбом «Лидьи Якольны», и более того – когда он записывает текст в альбом, он действует за пределами монолога. Помимо этой игры с разными уровнями литературной реальности, Заболоцкий умело воссоздает языковые и литературные условности прежних эпох, а затем с немалым остроумием разбивает их вдребезги. Эта расположенность признавать, а затем преодолевать культурные и интеллектуальные барьеры – основа его причуд.
ПРИЧУДА В ИНЫХ ОБЛИЧЬЯХ
Тот же самый феномен в другом варианте проявляется в откровенно шуточных стишках, которые Заболоцкий писал время от времени на протяжении всего своего творческого пути. Учитывая, что, например, «Неудачная прогулка» была написана в 30-х годах, а цикл «Из записок старого аптекаря» – в 50-х, можно видеть, что юмор Заболоцкого – не просто результат юношеского избытка жизненных сил или обэриутской бравады. «Неудачная прогулка» прорывается сквозь «нормальную» реальность посредством неявного вопроса, похожего на тот, что был задан гоголевским «Носом», но с акцентом на другую часть анатомии человека. Вопрос таков: а что, если пупок решит прогуляться и объявит себя Богом? Излишне говорить, что прогулка пупка вызывает переполох. К счастью, вмешивается ухо и ставит заблудший пупок на место, а стихотворение заканчивается суровым увещеванием читателю, которое поддерживается (или опровергается, в зависимости от обстоятельств) потенциально кощунственной рифмой между словами пупок и Бог:
Читатель! Если ты не Бог,
проверь – на месте ль твой пупок.
[Заболоцкий 1978, 9: 295]
В «Записках старого аптекаря» используется другая схема – возможно, та же, что и в пушкинских «Повестях Белкина». Учитывая образ автора, «старого аптекаря», «Записки», как и «Повести» Пушкина, противоречат общепринятому допущению, что только литературные рассуждения образованных, «важных» людей заслуживают интереса. Также подразумевается, что произведение одновременно и оспаривает, и своеобразным способом поддерживает романтический шаблон найденной рукописи, которая свидетельствует о завораживающем и оригинальном складе ума ее автора.
Весьма немногие поэты в попытке стимулировать творческий процесс задавали бы вопросы вроде таких: что, если бы старый аптекарь вел дневник, да еще в стихах? О чем бы он писал? Каков был бы его язык? Что его раздражает? Отчего он делается счастлив? Содержание предполагаемых записок разноообразно: от размышлений о пенициллине, идиотах и йоде до радости от появления новых аптек. В первом четверостишии описывается, как «красавице Акулине» пенициллин спас жизнь. Судя по ее крестьянскому имени и разговорной интонации стиха, она не типичная литературная героиня и не красавица из какого-нибудь роскошного литературного салона. Вполне возможно, что эта Акулина приходится дальней родственницей «крестьянке» Акулине, которая в действительности является переодетой барышней в одной из «Повестей Белкина» «Барышня-крестьянка». Также возможно, что этот персонаж трансформировался из другой «красотки Акулины» – куклы, игравшей скромную, но важную роль Петрушкиной невесты в народном кукольном театре – русском аналоге зрелища «Панч и Джуди»[54 - См. [Kelly 1993: 77–79].].
Красотка Акулина захворала,
Но скоро ей уже полегче стало.
А ведь не будь у нас пенициллина,
Пожалуй, померла бы Акулина!
[Заболоцкий 1978, 9: 296]
Поразмышляв о разных других предметах, «старый аптекарь», впечатленный сходством между словами «идиот», «йод» и «йота», записывает в виде двустишия следующую мысль:
Дай хоть йоду идиоту —
Не поможет ни на йоту.
[Заболоцкий 1978, 9: 297]
В конце концов цикл завершается звучным двустишием, которое представляет собой одновременно и гимн старого аптекаря строительству новых аптек (возможно, его собственное восприятие успехов строительства социализма), и опровержение блоковской тоски («Ночь, улица, фонарь, аптека»). Первую строку вполне можно встретить во многих одах XVIII века, а вот вторую мог изречь только «старый аптекарь» Заболоцкого, живший в советское время:
О сколь велик ты, разум человека!
Что ни квартал – то новая аптека.
[Там же]
Пожалуй, наиболее привлекательно и мягко причудливость Заболоцкого выражается в виде самоироничного недоумения, которым наполнены его мемуары и некоторые письма. Несмотря на его манеру держать себя, которая выражала груз морального долга перед своим призванием, он также видел смешное вокруг себя. Описывая свое волнение во время вступительного экзамена в Уржумское реальное училище, он именует его «святилищем науки». Эта гипербола передает как трепет десятилетних мальчиков, так и ироническую дистанцию автора средних лет от всего этого. Более того, автор снимает напряженность описываемой ситуации, пересказывая замечание по поводу собственной внешности, донесшееся из толпы волнующихся матерей и поступающих учеников: «Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!» [Заболоцкий 1972, 2: 210]. И действительно, на фотографиях Заболоцкого в молодости у него широкий и высокий лоб, придающий его лицу выражение открытости, ума и в то же время грустной задумчивости.
В другом случае заслуженный и довольно суровый с виду поэт в 1957 году весело описывает детскую проделку, когда старшие ученики нарядили его девочкой, чтобы пробраться в кино и не попасться школьному инспектору. В уржумском кинематографе «Фурор» показывали «картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина!». Взрослый Заболоцкий очевидно наслаждается, рассказывая эту историю, точно так же, как в детстве наслаждался походом в кино [Заболоцкий 1972, 2: 212][55 - Сведения о В. Холодной и Мозжухине см. в [Stites 1994].].
Стихам, создавшим тот образ Заболоцкого, к которому мы привыкли, обычно недостает юмора. Они совсем не смешные. И все же гротеск «Столбцов» в конечном итоге происходит из той же причудливости, из той же способности действовать за пределами общепринятого видения реальности – увидеть соленые огурцы как великанов, прилежно плавающих в воде, увидеть клубы дыма в небе как картошку, или глаза внезапно засыпающего пьяницы – падающими, словно гири[56 - Эти образы встречаются в стихотворениях «На рынке», «Новый быт» и «Красная Бавария» [Заболоцкий 1929: 33, 31, 8].]. Точно так же многое из того, что не дает спутать «классическую» поэзию Заболоцкого с поэзией XIX века – камень с ликом Сковороды, деревья, читающие Гесиода, жук-человек с маленьким фонариком, приветствующий тех, кто переходит в мир иной, – есть отражение того причудливого любопытства, которое было неизменной частью мироощущения поэта: что, если бы у камней были лица? На кого бы они были похожи? Что, если бы мы могли отправить природу в школу? Какое чтение порекомендовать деревьям? А если бы возможно было увидеть загробную жизнь своих давно ушедших друзей?[57 - Эти образы взяты из стихотворений: «Вчера, о смерти размышляя» (1936), «Читайте, деревья, стихи Гесиода (1946), «Прощание с друзьями» (1952) [Заболоцкий 1972, 1: 195, 214–215, 268].]
В последний год своей жизни Заболоцкий сказал сыну, что хотел бы написать пьесу, «в которой действующими лицами были бы люди, камни, животные, растения, мысли, атомы». Действие, по его замыслу, должно было происходить в самых разнообразных местах – «от межпланетного пространства до живой клетки» [Заболоцкий Н. Н. 1977: 203; Бахтерев 1977: 78]. Как и задуманная им трилогия «Поклонение волхвов», которая должна была охватить огромные материальные и духовные царства, населенные пастухами, животными и ангелами, пьеса так и не была реализована. Эти планы, даже неосуществленные, дают основание полагать, что ни возраст, ни превратности судьбы, ни трагические обстоятельства советской жизни не изменили природы основных интересов Заболоцкого и не притупили его эксцентричного любопытства.
Глава третья
Начинающий поэт нового строя
ПОЭЗИЯ И ГОЛОД В ПЕТРОГРАДЕ
Голодать кончаю… Как-то сами собой выливаются черные строки.
Заболоцкий, письмо Мише Касьянову, 7 ноября 1921 года
К моменту поступления Заболоцкого в Петроградский институт имени Герцена в 1921 году интеллектуальные основания его мировоззрения были уже прочно заложены, но ему не хватало самого важного для поэта инструмента – собственного поэтического голоса. Как выразился он сам: «Много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса не находил» [Заболоцкий 1983, 1: 491]. Однако в Петрограде, как и в Москве, проблемы физического выживания отнимали у него время и энергию, которые он предпочел бы отдать поэзии. Свою досаду он изливал в письмах к Касьянову. 11 ноября 1921 года он писал:
Мой дорогой Миша, прости – за 3 месяца моего петроградского житья не послал тебе ни одного слова. Почему? Почему? Ни одной минуты не уделил еще себе из всего этого времени – обратился в профессионального грузчика – физическая работа – все время заняла до сих пор – сюда еще присоединяется хроническое безденежье и полуголодное существование. 3 месяца убиты на будущее [Заболоцкий 1972, 2: 227].
В другом письме Заболоцкий жалуется, что его душа бунтует против обременяющих его практических дел, но «проклятый желудок требует своих минимумов, а минимумы пахнут бесконечными десятками и сотнями тысяч» рублей [Заболоцкий 1972, 2: 230]. Кроме того, он опасается, что от безысходности ему придется уехать в Уржум. «Конечно, все силы приложу для того, чтобы остаться здесь, – пишет он, – Это все же необходимо; Иначе будет трудно. Но пусть будет то, что будет…» [Заболоцкий 1972, 2: 231].
Его постоянные упоминания о еде в этих письмах выдают навязчивое состояние человека, действительно страдающего от «полуголодного существования». Например, он рассказывает, что за работу по разгрузке судов в порту получит «шпику, муки, сахару, рыбы и пр.» [Заболоцкий 1972, 2: 227]. Далее он сообщает, что он и его соседи по комнате в своей жизни различают три периода в зависимости от основного источника существования:
I. Картофельный
II. Мучной
III. Жировой —
и что каждый из периодов отличается свойственной ему разновидностью расстройства желудка. Кратко упомянув о лекциях в институте, он переходит к вопросу о недавно увеличенных студенческих пайках: «1 ф. хлеба, 4 ф. крупы, 5 ф. селедок, 1 – масла, 1 – сахару и пр.». И торжествующе заключает: «Голодать кончаю» [Заболоцкий 1972, 2: 227].
И все же, несмотря на материальные заботы, Заболоцкий продолжает всерьез заниматься своим поэтическим образованием. Сожалея о том, что он не написал «ничего или очень мало», он рассказывает Касьянову, что иногда выступает на концертах, иронически добавляя, что публика относится к его творчеству «с удивлением и нерешительно хлопает» [Заболоцкий 1972, 2: 228]. Он признается, что поддался искушению и потратил последние деньги на книги стихов и книги по стихосложению, однако о своей финансовой неосмотрительности он упоминает с детским восторгом: «Но я так рад, Мишка, какие я купил книги!» [Заболоцкий 1972, 2: 230][58 - Заболоцкий описывает восхитившие его книги следующим образом: «1) Д. Г. Гинцбург. О русском стихосложении. Изд. 1915 год Объемистая, весьма серьезная книга. Автор обладает богатой эрудицией в области исследования не только русского, но и древнего восточного, латинского и пр. стихосложений. 2) В. Брюсов. Опыты. Книга, тебе известная, как единственная в своем роде. 3) Н. Шебуев. Версификация. Сортом-двумя ниже, но не лишняя. Кроме того, кой-кого из поэтов и журналы».]. Он оплакивает смерть Блока и отъезд Андрея Белого, но радуется стихам Мандельштама: «Мандельштам пишет замечательные стихи. Послушай-ка», – и целиком приводит стихотворение Мандельштама 1920 года: «Возьми на радость из моих ладоней» [Заболоцкий 1972, 2: 228–229][59 - Стихотворение Мандельштама: [Мандельштам 1967–1981, 1: 84], также [Freidin 1987: 197–198].].
По всей видимости, молодой поэт находится на пороге нового этапа своего литературного становления. Он говорит Касьянову, что его ум освежается под влиянием новых прочитанных книг и что ему «до боли» хочется приступить к работе над своими стихами. Вдобавок он, видимо, чувствует, что развивается не только его собственная поэзия, но и русская поэзия в целом. Свои интуиции и порывы он пытается объяснить довольно сумбурно, но тем не менее это объяснение стоит процитировать:
…чувствую непреодолимое влечение к поэзии О. Мандельштама («Камень») и пр. Так хочется принять на веру его слова, «Есть ценностей незыблемая скала…» и «И думал я: витийствовать не надо…» И я не витийствую. По крайней мере, не хочу витийствовать. Появляется какое-то иное отношение к поэзии, тяготение к глубоким вдумчивым строфам, тяготение к сильному смысловому образу. С другой стороны – томит душу непосредственная бессмысленность существования. Есть страшный искус – дорога к сладостному одиночеству, но это – Клеопатра, которая убивает. Родина, мораль, религия, – современность, – революция, – точно тяжкая громада висят над душой эти гнетущие вопросы. Бессмысленно плакать и жаловаться – быть Надсонами современности, но как-то сами собой выливаются черные строки [Заболоцкий 1972, 2: 230–231].
Молодой Заболоцкий хочет избежать участи Семена Надсона, «гражданского» поэта второй руки, чрезвычайно популярного в конце XIX века (про его стихи Д. Святополк-Мирский пишет, что они «…внушены бессильным желанием сделать мир лучше и жгучим сознанием собственного бессилия» [Святополк-Мирский 2005: 591][60 - Конкретный пример влияния Надсона см. в [Лавров 1994: 174–192].]). Тем не менее он цитирует стихи Мандельштама из сборника «Камень», в котором присутствует (по крайней мере, потенциально) «общественная» тематика: отношения поэта со своим веком и местом в обществе. Первое стихотворение, датированное 1914 годом, из которого часто цитируется строка о «жалком Сумарокове», сфокусировано на прошлом, однако из первой строфы достаточно ясно видно, что основная идея стихотворения универсальна:
Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.
[Мандельштам 1967–1981, 1: 39–40]
Вторая цитата взята из стихотворения Мандельштама «Лютеранин» 1912 года, которое, по-видимому, является ответом сразу на два стихотворения Тютчева: «И гроб опущен уж в могилу» (с описанием протестантского – вероятно, лютеранского – погребения); и «Я лютеран люблю богослуженье». Как и Тютчев, Мандельштам неявно противопоставляет сдержанность и простоту лютеранской заупокойной службы драматизму и сложности православного ритуала, делая предметом рефлексии и надежду, и нищету человеческого состояния. Но если Тютчев остается в области веры как таковой, Мандельштам, завершая стихотворение, обращается к вопросу об уделе поэта. Именно эта сторона привлекла внимание молодого Заболоцкого:
И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.
[Мандельштам 1967–1981, 1: 22–23; Тютчев 1965, 1: 53, 63][61 - См. [Ronen 1983: 159–281].]
Если бы эти стихи были написаны после революции, а не до нее, их, по всей вероятности, истолковали бы как прямое политическое высказывание. И действительно, уже отмечалось, что сознательное отношение Мандельштама к истории делает политическую тематику с самого начала естественной для его стихов[62 - См. [Райс 1967].]. Внимание Заболоцкого к этим стихам (выраженное в тот самый год, когда был расстрелян Гумилев) в ретроспективе как будто зловеще предвещает его собственное непростое отношение к советскому литературному истеблишменту, его требованиям и суждениям.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СИМВОЛИЗМУ
В небесной Севилье
Растворяется рама
И выходит белая лилия,
Звездная Дама…
Заболоцкий. Небесная Севилья
Не свисти, сизый Ибис, с папируса
В переулки извилин моих,
От меня уже не зависят
Золотые мои стихи.
Заболоцкий. Сизифово рождество
Стремление к «иному отношению к поэзии», «тяготение к глубоким вдумчивым строфам» и «сильному смысловому образу», неприятие напоминающего о Клеопатре солипсизма и стремление разрешить висящие над душой «гнетущие вопросы» явно выводили Заболоцкого за рамки шутовской дерзости его первых произведений. Теперь в поисках подходящих выразительных средств он чаще всего обращался к символизму и его производным, иногда в сочетании с элементами акмеизма. Эта комбинация еще сыграет свою роль в будущем, когда онтологические принципы искусства ОБЭРИУ постфактум послужат мостом между символизмом и акмеизмом.
Касьянов сообщает, что они с 16-летним Заболоцким попали под чары символистов, в первую очередь Блока и Белого, еще в 1919 году в Уржуме. К тому времени, как он отмечает, они уже «преодолели» Бальмонта и Северянина, но тем не менее любили «чеканную краткость и эмоциональную насыщенность» Ахматовой [Касьянов 1977: 33]. В Петрограде, судя по всему, на акмеистическую чашу весов была добавлена еще и немалая толика Мандельштама. В письме Касьянову от 11 ноября 1921 года Заболоцкий после цитирования «Возьми на радость из моих ладоней» Мандельштама приводит два отрывка из собственного произведения, над которым работал, предваряя их словами: «После сладкого вина, отведай горького. Вот мои». «Его» стихи в данном случае ближе к Блоку, чем к Мандельштаму, хотя стоит отметить, что и Мандельштам в своем становлении не миновал символизма [Taranovsky 1976: 83][63 - О стихотворении «Возьми на радость из моих ладоней» см. в [Taranovsky 1976: 99–108; Freidin 1987: 197–200].]. В обеих этих ранних работах Заболоцкий указывает на существование «иного мира», столь важного для символистов, и, так же как они, видит ключ к иному миру в слове, а в природе, наполненной духовным смыслом, – посредника.
Первый отрывок, «Промерзшие кочки, бруснига», можно рассматривать как часть диалога с авторским «я» Блока из его цикла о сверхъестественной жизни болот «Пузыри Земли». В этом отрывке переживание осеннего вечера открывает поэту «новую книгу», новый источник смысла, и природа воспринимается с точки зрения религиозной образности: сосны стоят «как желтые свечи на Божьем лесном алтаре»[64 - Относительно темы книги, раскрывающей глубокую правду, см. также стихи Заболоцкого «Все, что было в душе» и «Голубиная книга» (последняя на фольклорную тему) и его «Историю моего заключения» [Заболоцкий 1991].].
…Промерзшие кочки, бруснига,
Смолистые запахи пней.
Мне кажется: новая книга
Раскрыта искателю мне.
Ведь вечер ветвист и клетчат.
Ах, вечер, как сон в Октябре,
И сосны, как желтые свечи
На Божьем лесном алтаре…
[Заболоцкий 1972, 2: 229][65 - «Бруснига» – скорее всего, вариант написания слова «брусника» – ягода, которая, как и клюква, растет на болотах. Вопреки стандартной практике написания, первая буква месяца «октябрь» в стихотворении – прописная. Мог ли тут быть некий политический смысл, и если да, то какой, сказать трудно. Политическая аллегория такого рода обычно Заболоцкому не свойственна.]
В продолжающейся саге об отношениях Заболоцкого с болотами это воспринимается как ответ – возможно, непреднамеренный – на поэму Блока «Полюби эту вечность болот» 1905 года, которая вместе со стихотворениями «Болотный попик», «Болотные чертенятки» и другими образует цикл «Пузыри земли». Блок начинает призывом: «Полюби эту вечность болот» и затем движется к кочкам и пням, к вопросам вечной истины, которые, казалось, предвосхищают трактовку Заболоцким «промерзших кочек», «смолистых запахов пней» и откровений «новой книги» природы:
Эти ржавые кочки и пни
Знают твой отдыхающий плен.
Неизменно предвечны они, —
Ты пред Вечностью полон измен.
[Блок 1960, 2: 17]
Певучесть стихов, сближающая их между собой, достигается за счет трехсложного размера (Заболоцкий использует трехстопный амфибрахиий, а Блок – трехстопный анапест). В концовках стихотворений, однако, лежит глубокое различие. Заболоцкий, молодой «искатель», полон надежды перед лицом божественного, хоть и неясного, откровения природы. Блок, с другой стороны, как все более разочаровывающийся символист, утверждает, что непостоянство человеческой участи не может сравниться с великой неизменностью природы. В заключительной строфе стихотворения Блока поэт полагает, что в безвременье болот снизошла Сама Вечность – но она навеки замкнула уста, вместо того чтобы явить откровение, как Заболоцкому.
Возможно, из-за того, что «Промерзшие кочки, бруснига» – менее бунтарское произведение, чем ранние сочинения Заболоцкого, а также потому, что возросло поэтическое мастерство Заболоцкого, структурные элементы стиха определены более отчетливо. Уже на этом этапе можно увидеть проблески «классического» Заболоцкого. Размер вполне устойчив. Половина рифм – точные (бруснига / книга, Октябре / алтаре), половина – неточные, но вполне благозвучные (пней / мне, клетчат / свечи). Кроме того, структура стихотворения примерно симметрична, его можно разделить на два четверостишия, каждое из которых начинается с описания природной сцены и затем переходит к духовно значимым наблюдениям, которые протагонисту открывает «новая книга» на «Божьем лесном алтаре».
Второй отрывок, включенный в письмо Заболоцкого, начинается со слов «Но день пройдет печален и высок». Фрагменту предшествует римская цифра «V», что дает основания считать отрывок частью большего произведения, – что может как соответствовать реальности, так и быть литературной мистификацией. Этому произведению также присущи многие атрибуты символизма: атмосфера таинственности, тоски и мучений, которая придает стихотворению привкус декаданса; поиск откровения через слово; одухотворенное и персонифицированное изображение природы. Но, в отличие от более раннего стихотворения, в этом отрывке характерные черты символизма сочетаются с признаками реальных трудностей жизни Заболоцкого в Петрограде: его «дуэль» с каждым проходящим днем, в котором он пытается выкроить время для писания, его борьба с голодом, его одиночество. Краткое прозаическое вступление придает стихотворению дух таинственности, осведомляя читателя о том, что действие происходит «у входов “в те края, где тонет жизнь несказанного слова”». Затем следует строфа на тему, скорее всего, совершенно новую для русской поэзии – тему ковбоя. В стихотворении день персонифицирован как некто вроде символистского Клинта Иствуда:
Он, таящийся у входов «в те края, где тонет жизнь несказанного слова»:
…Но день пройдет печален и высок,
Он выйдет вдруг походкой угловатой,
Накинет на меня упругое лассо
И кровь иссушит на заре проклятой.
Борьба и жизнь… Пытает глаз туман…
Тоскует жизнь тоскою расставанья,
И голод – одинокий секундант —
Шаги костяшкой меряет заране…
[Заболоцкий 1972, 2: 229]
Несмотря на своеобразие темы, Заболоцкий использует вполне традиционные поэтические конструкции. Размер – пятистопный ямб, один из основных в русском стихосложении. В третьей строке, с осевым высказыванием «накинет на меня упругое лассо», шесть стоп вместо пяти, но такой метрический сдвиг не нарушает общего впечатления от размера, и к тому же подобное встречалось и в XIX веке. Как и в предыдущем отрывке, здесь чередуются точные и неточные рифмы[66 - Угловатой / проклятой и расставанья / заране работают как точные рифмы; высок / лассо и туман / секундант – неточные.]. Как само это смешение, так и тот факт, что два из рифмующихся слов – очевидно заимствованные (лассо и секундант), выводят стихотворение из соответствия нормам XIX века. Однако структура отдельных рифм все же имитирует структуры, время от времени встречающиеся в более раннем периоде.
Отзвуки символистского мироощущения у Заболоцкого в полной мере выразились во время его участия в литературном кружке «Мастерская слова» в течение 1921/22 учебного года в Педагогическом институте имени Герцена. Название группы, акцентирующее взгляд на литературу как на ремесло, напоминает об акмеистском «Цехе поэтов», или даже о пролетарской «Кузнице». Однако, если судить по тону и содержанию журнала «Мысль», издаваемого литературным объединением, можно заключить, что задачи «Мастерской слова» были эклектичными, с тяготением скорее к символизму, чем к какому-либо иному движению[67 - Журнал вышел всего однажды, в марте 1922 года. См. [Грищинский, Филиппов 1978; Филиппов 1981: 21–23].]. В редколлегию журнала в числе прочих входили Заболоцкий и Николай Браун. Редакторы сообщают читателю, что главная цель журнала – «пробудить дремлющие творческие силы студенчества», а смысл его существования – свободное выявление настроений студентов, шлифовка и заострение их мыслей. В самом журнале публиковались стихи, «лирическая» и «психологическая проза», теоретические трактаты, статьи о студенческой жизни, сатирические и юмористические миниатюры, хроника. Среди произведений студентов преобладала интимная лирика «с налетом декаданса» и с такими названиями, как «В соборе», «Грусть», «Мертвый Брюгге», «Пион», «Сердце-пустырь» [Грищинский, Филиппов 1978: 183][68 - «Мертвый Брюгге» явно имеет отношение к одноименной повести бельгийского символиста Жоржа Роденбаха. Роман был опубликован в 1892 году и имел огромное влияние в свое время. См. [Mosley 1986: i–x]. Благодарю моего коллегу Александра Жолковского за то, что обратил мое внимание на эту информацию.]. Подобный акцент на религию, эмоции и смерть создает впечатление, что это поколение молодых литераторов одной ногой все еще твердо стоит в эпохе символизма.
Возможно, наиболее симптоматичными работами являются публикации самого Заболоцкого: очерк «О сущности символизма» и три стихотворения – «Сердце-пустырь», «Сизифово рождество», «Небесная Севилья». Учитывая его возраст – 19 лет – и еще не завершенное образование, эти работы производят сильное впечатление.
В очерке рассматриваются (хотя и мимолетно) философские проблемы словесного познания, подобные тем, которые изучали П. Флоренский, С. Франк, Г. Шпет и другие теоретики слова в начале века. Молодой Заболоцкий демонстрирует знакомство со множеством сочинений символистов: цитирует отрывки из «Горных вершин» Бальмонта и из русских переводов «Цветов зла» Бодлера, «Искусства поэзии» Верлена и «Страны грез» Эдгара По[69 - Стихотворение Э. По у Заболоцкого ошибочно названо «Страна слов», вместо «Страна снов» («Dream-Land»).]. Он также упоминает Ницше, Верхарена, Гюисманса, Сологуба, Белого, Брюсова, Мережковского, Александра Добролюбова, Вячеслава Иванова. Блок, что любопытно, отсутствует. В очерке, однако же, символизм трактуется как однородное движение, индивидуальные различия между его приверженцами по большей части проигнорированы. Символизм, широко понимаемый, в очерке оценивается с сочувствием, но не без критики, что дает интересный исходный материал для изучения собственных трудов Заболоцкого, включая более поздний сборник «Столбцы» и авангардную (и до некоторой степени антисимволистскую) Декларацию ОБЭРИУ.
Анализируя мировоззрение символистов, Заболоцкий подчеркивает лежащую в его основе субъективность. Временно принимая то, что он считает символистским взглядом на мир, он пишет:
Вступая в сознание, вещь не приемлется в своем бытии, но содержание ее, присутствующее в познающем субъекте, подвергается воздействию субъективности его познания. Субъективные начала свойственны каждому познанию… Таким образом получается различие не в переживаемом, а в переживании… В поэзии реалист является простым наблюдателем, символист – всегда мыслителем. Наблюдая уличную жизнь, реалист видит отдельные фигуры и переживает их в видимой очевидной простоте.