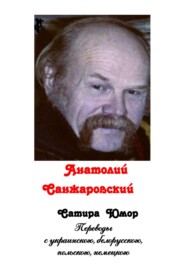скачать книгу бесплатно
Сатира. Юмор (сборник)
Анатолий Никифорович Санжаровский
В одиннадцатый том Собрания сочинений в шестнадцати томах московский писатель Анатолий Санжаровский собрал все свои переводы с украинского, белорусского, польского, немецкого. Раньше эти переводы печатались в «Литературной газете» («Клуб 12 стульев»), в «Литературной России», в «Крокодиле», в «Смене», «Неделе», в «Независимой газете» (приложение «Экслибрис») и в других газетах и журналах.В книге опубликованы рисунки О. Верещагина, К. Зарубы, А. Арутюнянца, А. Разумовой, В. Коваля, В. Чечвянского. Большую помощь в поисках архивных материалов автору переводов оказали главный редактор газеты «Ахтырка» Игорь Кириенко, заведующая библиотекой в селе Грунь Сумской области Татьяна Сокол, заведующая отделом «Украиника» харьковской научной библиотеки имени В. Г. Короленко Надежда Полянская и научная сотрудница харьковского литературного музея Ирина Сальник.
Анатолий Санжаровский
Сатира. Юмор (сборник)
Заговори сегодня воронежский степняк с чистокровным запорожцем – вряд ли поймут в доподлинности друг друга с первых глаз, а вот крючковатые слова, живописно перекрученные судьбой вдали от днепровской сини, непременно расколдуют союзом, уяснят себе тот же час; зато манера слушать, лучезарно светясь и сияя и загодя в искренности радуясь каждому звуку, каждому жесту рассказчика, зато манера говорить, говорить пленительно-певуче, доверительно-мягко, говорить светло-доброжелательно – Боже праведный, да все это духом сполна выкажет родство, хоть и разделенное пропастью веков.
Мне почему-то кажется, всяк говорящий на украинском не горазд на злое, настолько младенчески чист этот язык. Холодный ум скажет – вздор, я перемолчу, я ничего не отвечу, но в мыслях я еще с большим убеждением встану на сторону своих слов, а отчего – я и себе не объясню.
Анатолий Санжаровский
В. М. Чечвянский
Радостная параллель избранное
К 125–летию со дня рождения В. М. Чечвянского (1888–1937).
В «Избранное» вошло все лучшее, что написал «Колумб украинского юмора и сатиры» Василь Михайлович Чечвянский, которого по праву считают украинским Зощенко.
Книга вышла в свет на средства московского писателя и переводчика Анатолия Санжаровского.
Василь Чечвянский, или Зачем Ильф и Петров приезжали в Харьков
Предисловие
Василь Чечвянский и Остап Вишня.
Между ними много общего. У них одна подлинная фамилия – Губенко, – потому что они родные браты. Оба сатирики-юмористы.
Классики украинской литературы.
Василь Михайлович Губенко родился 28 февраля (12 марта по новому стилю) 1888 года на хуторе Чечва (Полтавщина). Отсюда и псевдоним Чечвянский.
Под хутором Чечва
Эту «слабость» он позаимствовал у младшего брата, у Павла Михайловича, первый псевдоним которого был Грунский (по местечку Грунь, близ которого родился в том же хуторке Чечва).
Как писал Вишня, ходило много кривотолков среди родственников о его появлении на свет божий. Одни твердили, что его нашли в капусте, другие авторитетно уверяли, что его принёс трудолюбивый аист, третьи клялись-божились, что его достали из колодца, когда поили корову Оришку. Павлуша подрос, огляделся и храбро выдвинул свою версию о рождении, которой упрямо придерживался всегда. Утром и вечером. До обеда и после. Родился он ночью 13 ноября 1889 года. Вскоре взялся за пастушье учение, поскольку «очень рано начиналась учеба на селе. Первая наука – это гуси. Высший курс – это свиньи».
Несмотря на эти крестьянские университеты, братья росли живыми и любознательными. Помогали родителям по хозяйству, ездили верхом на лошадях, бегали в лес по орехи, летом купались на речке и удили рыбу…
Сыновья крестьянина по образованию военные фельдшера. Учились в одной киевской военно-фельдшерской школе. После ее окончания Василь экстерном сдал в Харькове экзамены за восьмой класс мужской гимназии.
В семье приказчика полтавской помещицы фон Рот, отставного солдата Михаила Кондратьевича Губенко, прослужившего в русской армии 20 лет, было 17 детей.[1 - Дети были одаренные. Олена закончила в Киеве музыкально-драматическую школу композитора Лысенко и стала певицей. Владивостокский музыкальный мир долгие годы наслаждался ее обворожительным, виолончельным пением. Константин, последний ребенок в семье (вверху на отдельном снимке рядом с собой в детстве), играл во Львове, в Национальном академическом драматическом театре им. М. Заньковецкой. Снялся в семи фильмах, в том числе и в комедии «Ни пуха ни пера», сценарий которой был написан по мотивам охотничьих рассказов Остапа Вишни, родного брата. Катерина 35 лет преподавала в школе. Удостоена звания заслуженного учителя Украины.] Жену звали Параска (Прасковья) Александровна. В девичестве носила фамилию Балаш. До замужества жила в соседнем селе Вязовом.
После Остап Вишня вспомнит:
«… родители были ничего себе люди. Подходящие. За двадцать четыре года совместной их жизни послал им Господь всего-то семнадцать детей, ибо умели они молиться милосердному… Появился я на свет вторым. Передо мной был первак, старший брат, опередил меня года на полтора».
Был это Василь. На снимке он с длинными черными волосами, стоит рядом с матерью.
Отец
Мать
Василь Чечвянский в восемнадцать лет начал работать в военных госпиталях, участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году перешел на сторону революционно настроенных солдат.
В гражданскую войну – интендант Первой Конной армии. После возглавлял в Ростове-на-Дону санитарную службу Северо-Кавказского военного округа.
Справка
Первые его сочинения были опубликованы в газете – «Советский Юг» (Ростов-на-Дону). В 1924 году Чечвянский демобилизовался. Вернулся на Украину и занялся литературной работой.
Василь играл на пианино.
Когда его раз спросили, где он научился играть, ответил, смеясь:
– Так я ж вырос при дворе.
– Каком? Царском?
– Колхозном!
Василь был очень популярен и красив. И это не прошло бесследно. Ему плеснула в лицо кислотой одна безответно влюбленная в него шизофреничка. Этот несчастный случай стоил ему дорого. Глаза. Пришлось постоянно носить черную повязку.
– После ареста Остапа Вишни в декабре 1933 года, – рассказывал мне Виктор Васильевич Губенко, сын Василя Михайловича, – отца перестали печатать. Семья начала бедствовать. Отцу не давали работать. Он даже не мог под своим именем опубликовать хоть строчку. Все написанное отдавал друзьям, и те, напечатав его фельетон или статью за своей подписью, гонорары отдавали отцу. За отцом установилась постоянная слежка. Отец даже в шутку говорил маме: «Теперь я никогда не потеряюсь! Выглянь, шпик токует под окнами. Всегда провожает на работу, встречает с работы. Теперь я и под машину не могу угодить. Я всегда под надежной опекой!»
И в это время…
Тут нельзя не привести строки из книги Натальи Шубенко «Неизвестный Харьков»:
«К середине 30-х романы Ильфа и Петрова были переведены на множество языков – редкий случай популярности при жизни. Среди них есть и столь экзотические, как румынский, хорватский, македонский и даже хинди. Отсутствовал, как ни парадоксально, перевод… на украинский. Пытаясь решить эту проблему, Ильф и Петров в 1936 г. вновь приезжают в Харьков на встречу с писателем Василем Чечвянским. Увы, работе не суждено было осуществиться: через несколько месяцев украинского писателя арестовали и расстреляли как «врага народа». Впрочем, и сам Ильф держал наготове сумку с двумя сменами белья.
А первому изданию ильфо-петровского романа на украинском языке суждено было появиться на свет лишь спустя 35 лет после этой встречи».
«Опекунство» органов длилось до 2 ноября 1936 года, когда Чечвянского арестовали.
Во время следствия жена Надежда Михайловна как-то исхитрилась добиться свидания с Василем Михайловичем. Его вид напугал ее. Был он в синяках, изможденный. У нее с болью вырвалось:
– Вася! За что они тебя так?
– Мне, Надя, шьют литературные ошибки… Бьют каждый день…
Но литературные ошибки – это всего-то лишь туманный фон. На самом же деле из него выколачивали признан в причастности к какой-то украинской контрреволюционной националистической фашистско-террористической организации.
Под побоями человек ломался и начинал «признаваться», наговаривать на себя и на близких.
14 июля 1937 года писателю был вынесен смертный приговор.
В протоколе закрытого судебного заседания выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР в тот же день записано:
«Подсудимый ответил, что виновным себя не признает. От своих показаний на предыдущем следствии отказывается, поскольку дал их под нажимом следствия… Подсудимый заявил, что показания не соответствуют действительности… В последнем слове ничего сказать не пожелал…».
На следующий день, 15 июля, Василя Михайловича расстреляли в Киеве. И лишь в октябре 1938-го семье сообщили о его смерти… от болезни сердца. (!)
15 августа 1937 года появляется оперативный приказ № 00486 наркома внутренних дел СССР:
«С получением настоящего приказа приступить к репрессированию жен изменников родины: имеющие грудных детей немедленно отправляются в лагерь без завоза в тюрьму вместе с детьми, откуда дети при достижении 1–1,5 лет передаются в детские дома НКВД.
Арестованные дети комплектуются по группам так, чтобы в один и тот же детдом НКВД не попали дети, связанные между собой родством или знакомством.
При аресте жен их дети старше 1–1,5 лет изымаются. На каждого ребенка старше 15 лет заводится следственное дело, и дети направляются в детские приемники отделов трудовых колоний НКВД.
Имущество арестованных жен конфискуется, квартиры опечатываются. Операцию закончить до 25 октября 1937 года».
Жену Надежду Михайловну – она служила медсестрой еще в Первой Конной армии у Буденного – «уложили» в срок. Ее арестовали 3 октября 1937-го как члена семьи врага народа, а детей, двух малолетних сыновей Павла и Виктора, упекли в детприемник при тюрьме, где она сидела, ожидая суда.
В квартиру же Чечвянских со всем их имуществом барином въехал мозолистый чмырь из НКВД.
А Павла и Виктора упрятали в мелекесский детдом НКВД на Волге.
Надежда Михайловна получила восемь лет «отдаленных лагерей». И когда ее везли товарняком по этапу в сибирскую глушь, она оторвала от простыни кусок и химическим карандашом написала на нем письмо. На одной станции она кинула в толпу на платформе эту завязанную в узелок тряпочку с адресом сестры Лидии Михайловны, жила в Ростове-на-Дону.
Добрая душа отправила это тряпичное письмо Лидии Михайловне уже в обычном конверте.
В письме была одна мольба: «Сеструшка! Спасай моих сыновей! Забери сынков из каторжного детдома к себе».
Лидия Михайловна была знакома с женою Максима Горького. В Москву и подалась Лидия Михайловна. И Екатерина Пешкова разузнала, где находятся Павел и Виктор. Помогла Лидии Михайловне забрать племянников из Мелекесса.
Павел и Виктор стали жить у нее. Началась война. Павел – он был старший – ушел на фронт. Матери он так и не увидел. А Виктор, ставший потом водителем, дожил у тети, пока не вернулась из тюрьмы мать.
Я первый, кому удалось собрать в одну эту книжку еще не известные русскому читателю рассказы и юморески двух родных незаконно репрессированных братьев-погодков – Василя Чечвянского и Остапа Вишни.
Сама же Лидия Михайловна позже сгибла в лагерях неизвестно где…
Павел храбро сражался.
Молодым погиб в бою за родной Харьков.
В 1957 году Василия Михайловича и Надежду Михайловну полностью реабилитировали. Надежда Михайловна жила в Харькове, умерла от туберкулеза.
Остап Вишня был в двадцатые годы самый популярный на Украине писатель. «Гоголь Октябрьской революции» – так называли его тогда.
Однако на него сфабриковали дело. Обвинили в причастности к несуществующей контрреволюционной украинской военной организации и в подготовке покушения на жизнь высокопоставленного партработника, секретаря ЦК КП(б)У П. Постышева. И целые десять лет, с 1933-го по 1943-й, провел Вишня в печорских лагерях.
По словам внучки Марьяны Евтушенко, «повод для ареста был, мягко говоря, странный – терроризм. Якобы юморист с товарищами готовил покушение на известного партийного деятеля Павла Постышева. Обвинение было настолько нелепым, что на допросах в НКВД писатель не смог удержаться от шутки: «Почему бы вам не обвинить меня и в изнасиловании Клары Цеткин?» По иронии судьбы, через несколько лет сам Постышев был объявлен врагом народа и приговорен к высшей мере наказания. И, по семейной легенде, Вишня вновь не удержался от иронии, дескать, я же первый хотел его расстрелять! Но это было через несколько лет, а в начале срока юмориста едва самого не поставили к стенке. По рассказам очевидцев, а может, просто байка такая, писателя спас псевдоним. Приказали ликвидировать Остапа Вишню, а заключенный по документам был под настоящей фамилией и именем – Павел Михайлович Губенко. Впрочем, родные скептически относятся к этой версии и рассказывают историю о том, что деда спасли морозы, которые сковали реку Печору. Пароход с арестантами долго не мог пробиться к порту назначения. И пока арестанты шли по этапу, начальника лагеря успели снять с должности и расстрелять, а приказ о расстреле Вишни счастливо потерялся».
Писатель был реабилитирован.
А до этого…
В январе 1927 года в Харькове начал издаваться первый на Украине журнал политической сатиры «Червоний перець». Среди его основателей и сотрудников оба брата. Василь много писал. Свои юморески сам и иллюстрировал. За год журнал завоевал широкую популярность. Наивысшим моментом празднования годовщины было торжественное надевание штанишек юбиляру. Дескать, подрос младенец, пора и штанишки носить.
Карикатурист дружески представил читателям этот момент. Тут мы видим и братьев. Они рядом.
О них сказано:
«Остап Вишня. Редактор «Червоного перця». Женат. Бывший блондин. Охотник. Недавно с ним произошло чрезвычайное происшествие: застрелил зайца. Ей-богу! Но это злодеяние никак не подействовало на его (не зайца, а Вишни) мировоззрение. Чувствует себя бодро даже тогда, когда к нему приходят представители всех украинских газет и журналов и говорят: «Дядя, дайте фельетон! Ну хотя бы вот такусенький. Дайте же!»
Юморист, но в последнее время начал прятаться. Причина – «Дайте же!»
Василь Чечвянский. Шахматист и юморист. Талантливый шахматист среди юмористов и талантливый юморист среди шахматистов.
Секретарь редакции, но еще не битый. Любимые выражения: «Не пойдет!», «Пойдет», «Товарищ, зайдите завтра». Пишет много. Самое выдающееся его произведение такое: «Выписывайте «Червоний перець». Подписная плата на месяц – 30 копеек, на шесть месяцев – полтора рубля и на год-три».
В годовщину пятилетия журнал снова представил читателям своих сотрудников:
«Уважаемый читатель, насколько «Червоний перець» его изучил, прочитав заголовок фельетона, сразу опускает глаза на подпись. Кого бить? А подпись редко бывает членораздельной.
Всегда она складывается из двух-трех букв: «М. Б.», «Бона», «О. В.». Так дальше нельзя. Читатель должен знать, кто его враг, извините, автор, и я ему покажу. День пятилетнего юбилея я отмечаю полной ликвидацией обезлички.
Подписи: Вас. Грунский, Чечь, Вас. Ч., В. Ч., Чиче, Чiче, Чечь, Чечвянский-Колумб, Василь Чечвянский-Колюмб, Чiче-Рон и др. скрывают известного юмориста Василя Чечвянского. Этот автор прячется за псевдонимами с одной целью – утаить от жены подлинную сумму литгонорара.
«О. В.», «В.» – подписи тоже известного юмориста.
В восстановительный период этот известный юморист имел псевдоним Остап Вишня, но в пору реконструкции отказался от него и приобрел себе реконструктивный псевдоним «О. В.».
Веселым, острым, злым своим словом братья служили народу, боролись за его идеалы.
Незадолго до кончины Вишня записал в свой дневник:
«И если мне за всю мою работу, за все то тяжкое, что пережил я, посчастливилось хоть разочек, хоть на минутку, на миг разгладить морщинки на челе народа моего, весело заискрить его глаза – никакого больше гонорара мне не надо.
Я – слуга народный!
Я горд этим, я счастлив этим!»
Какие отношения были между братьями?
Как Вишня смотрел на Василя Чечвянского?
По словам Ю. Мартича, Остап Вишня не только любил его как брата, но и высоко ценил как соратника по жанру.
– У моего Василя только один глаз, – говорил он. – Но видит он тем глазом остро.
За короткую творческую жизнь Василь Чечвянский выпустил семнадцать книг. Его книги тоже были наказаны. Долгие годы они отбывали свою Колыму в библиотечных спецхранах. Для перевода страшно мне было в Российской государственной библиотеке брать в руки книгу с черным туполобым квадратным спецхрановским штампиком. И еще страшней сознавать, что ее более полувека никто не открывал: поверху листы не разрезаны.