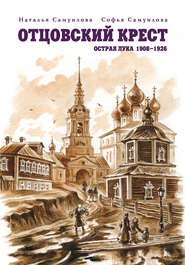скачать книгу бесплатно
В мирном, неторопливом течении тогдашней жизни телеграмма была редким явлением; она всегда говорила о чрезвычайном событии, почти всегда неприятном. Последняя телеграмма, которую больше года тому назад держала в руках Еничка, извещала о смерти Евгения Егоровича. Неудивительно, что у нее дрожали руки, пока она срывала облатку.
«Как Костя? Если плохо, вызывайте, приеду. Сергей». Сверху значилось: «Ответ оплачен 15 слов». Но отец Сергий не дождался этого ответа, который в селе, далеко отстоящем от телеграфа, мог быть получен не раньше, как на третьи сутки. На следующий день он явился сам. Приехавший в Острую Луку погостить к родным священник согласился на некоторое время заменить его, а потом начался осенний съезд, давший возможность прожить в Самаре до тех пор, пока опасность миновала.
Лето, проведенное в Самаре, не прошло для Евгении Викторовны бесполезно. Пользуясь тем временем, когда Косте было лучше и его можно было оставлять с нянькой под верховным надзором бабушки, она окончила школу рукоделия и вернулась домой с дипломом сапожника, с полным набором сапожных инструментов и в туфлях собственной работы. «Семья увеличивается, – рассуждала она, детям то и дело придется покупать обувь, так лучше чинить и шить ее самим».
Действительно, с этого времени обувь шилась дома. Отец Сергий присмотрелся к работе жены и отобрал у нее часть, требующую большей силы и уменья обращаться с молотком и гвоздями, – натягивание на колодку и подбивку подошв, предоставив ей шить заготовки. Ботиночки получались несколько грубее магазинных, но лучше, чем могли сделать деревенские сапожники, и, главное, прочнее. И все-таки ни одна пара не дождалась того времени, когда их обладатель вырастет из них. «Обувь у них горит, как на огне, словно они не по земле ходят, а по раскаленной плите, – повторяла Евгения Викторовна общую жалобу всех матерей, – особенно у Миши, он изнашивает вдвое больше ботинок, чем Костя». (Это было уже тогда, когда, к некоторой Сониной досаде, про них перестали говорить: «КРАСНЫЕ детки». Впрочем, она утешалась рассуждением, что теперь у них будет два мальчика и одна девочка и, следовательно, мама будет ее любить больше.) Особенно мучили носочки обуви. Евгения Викторовна делала на них фасонные, словно для украшения, накладки, меняла их по мере того, как они снашивались, но, стоило только немного недоглядеть, как носочки опять белели и в дырки проглядывали заштопанные чулки. Евгении Викторовне много приходилось воевать с подраставшей Соней, чтобы заставить ее держать в порядке чулки и вечно продырявливавшиеся локти. Зато ботинки Соня чинила с удовольствием – все равно, нужно ли было поставить заплатку сбоку ботинка, накладку на носок, подбить подметки или заменить стоптанный до основания каблук. «Ее заплатки за квартал видно», – полусмеясь, полуужасаясь, говорила Евгения Викторовна мужу, но не мешала дочери: пусть приучается, в жизни все пригодится.
Глава 3
Костя капризничает
1909 г.
Костя капризничает. За время болезни он привык, чтобы, укладывая его спать, с ним ходили по комнате, и, поправившись, требовал того же тем настойчивее, чем больше силы появлялось в его легких. Мало того, он становился все требовательнее, ночью он спал только на ходу – стоило положить его в постельку, как он просыпался и снова подымал крик. Сколько раз Еничка пыталась не обращать на него внимания, но безуспешно. Крик становился все громче, она наконец не выдерживала характера и поднималась.
– Так нельзя, – говорил отец Сергий жене, когда она выходила к чаю осунувшаяся, с красными глазами и вяло, без аппетита жевала завтрак. – Ты изведешься, днем тебе ни за что не дадут отдохнуть как следует. И носить его подолгу тебе теперь нельзя, он уже тяжелый. Да и вообще, нельзя давать ребенку с этих пор брать верх над собой. Если он поймет силу своего крика, с ним вообще сладу не будет.
– Он еще маленький, не понимает, – возражала Евгения Викторовна.
– Не беспокойся, это-то они быстро начинают понимать. Дай, я повожусь с ним несколько дней. Не бойся, справлюсь. Ведь справлялся же я с Соней, когда ее отнимали от груди. У нее тогда были более серьезные причины для слез и все-таки поплакала и перестала, привыкла. А то появится еще малыш, что ты будешь делать с двоими, если вовремя не призвать этого героя к порядку.
Последнее соображение было, кажется, самым веским. Вечером Костину кроватку придвинули к отцовской. «Герой», плотно накормленный и не подозревавший о состоявшемся заговоре, поспал немного с вечера, потом завозился и закряхтел. Отец Сергий осторожно освидетельствовал пеленки, проверил мимоходом, правильно ли лежит на подушке головка ребенка и не сбилось ли одеяльце, и опять убрал руку. Костя заплакал громче – никакого результата. Он пустил еще один длинный вопль, на минуту приостановился, чтобы набрать воздуха и прислушаться, – ничего. Тогда пронзительные вопли последовали один за другим почти беспрерывно, все усиливаясь, – до того, что от них в ушах звенело и дребезжало. Некогда было больше останавливаться и прислушиваться. Костя только торопливо, захлебываясь, глотал воздух и снова кричал, закрыв глаза, напрягаясь всем тельцем. Конечно, он не мог слышать легких шагов подошедшей матери и тихого голоса отца, говорившего: «Иди, Еничка, ляг и не волнуйся, с ним ничего не случится, устанет кричать и уснет. Жалко? И мне жалко, но, если сейчас поддаться, следующий раз придется начинать все сначала, и он будет кричать еще дольше и отчаяннее, чем сегодня».
Костя бушевал с перерывами чуть не всю ночь. Он то засыпал, то опять просыпался и поднимал громкий плач, хотя уже не такой, как вначале. Только под утро он заснул по-настоящему и проспал гораздо дольше, чем обыкновенно. На следующую ночь концерт повторился, но был уже значительно короче. На третью ночь мальчик снова было заплакал и вдруг, как будто что-то вспомнив, замолчал. Еще раз он потребовал было поставить на своем, когда через несколько дней его кроватка снова перекочевала к кровати матери, однако и эта попытка оказалась безуспешной, и он покорился.
Глава 4
Змей
1910 г.
Был чудный весенний день. Ясное солнце ласковым светом манило к себе все живое: завалинки домов и старые пни на солнечной стороне, словно большими пятнами крови, были покрыты массой красных козявок – «казаков», на улицах стон стоял от ребячьего крика, а в холодке у домов сидели на травке женщины, вязали чулки, сучили шерсть и судачили, наслаждаясь краткой передышкой в тяжелых весенних работах. Синее-синее небо с белыми барашками облаков безмятежно раскинулось над изумрудной муравой площади, еще не испорченной размятым навозом и свежесделанными кизяками, которые скоро займут добрую четверть ее. Вдоль плетня, примыкавшего к церковной ограде сада, лежали кучки бревен, а около них стояли рядом сразу двое козел. Мужики, попарно – один внизу, другой наверху на лежащем на козлах бревне – неторопливыми, размеренными движениями дергали то вверх, то вниз большую пилу, и она со своеобразным шорохом вгрызалась в дерево. Этот шорох и легкий смолистый аромат только что распиленного дерева, казалось, еще подчеркивали царящую кругом дремотную тишину.
И все-таки и наверху, и внизу было неспокойно. Целая толпа детворы – от маленьких подружек Сони до тринадцати-четырнадцатилетних старших школьников – окружала батюшку, стоявшего посреди площади. И все они стояли, подняв головы, и смотрели вверх, где в яркой синеве неба трепетало и кувыркалось что-то белое и откуда доносился ровный шум, напоминающий щелканье трещоток, которыми гоняют птиц в садах. Туда же смотрели, оторвавшись от работы, женщины, и даже стоящие на бревнах мужики тоже на некоторое время приостановились, наблюдая за небом.
Вышла ко двору погреться на солнышко баушка Параня, самая древняя из остролукских старух. Нет, впрочем, не самая древняя: ее сестра, баушка Шима, была еще старше; обе они остались в селе, как живые образцы далекого прошлого. Даже имена их были необычны: их звали так, как они сами называли друг друга и как не звали никого больше в селе. Обыкновенно старух уважительно называли полным именем: баушка Анна, баушка Матрена, баушка Соломонида, и только к очень близким допускалось обращаться с сокращением имени: баушка Маша, баушка Лиза, да и сокращения были самые употребительные – так же звали и молодых женщин и девушек. А родную внучку баушки Шимы, окрещенную в ее честь Евфимией, называли все-таки Фимой, а не Шимой, и все Прасковий в селе именовались Пашами. Была, правда, одна «странная» (не здешняя) старуха не из древних, называвшаяся Проса-баба, так это звучало как прозвище и, кто его знает, может быть, даже обидное. Но ни Шимы, ни Парани больше не было ни в Острой Луке, ни в соседних селах. Недаром молодежь, с каким-то особенным чувством, как к разговору выходцев из другого мира, прислушивалась к коротким словам, которыми обменивались сестры, встретившись в воскресенье около церкви.
– Это ты, Паранька?
– Я, я, Шимарка!
– Ну, как живешь?
– Ничего, живу, Шимарка!
– Ну, иди, иди, Паранька!
Была у баушки Парани почти детская слабость: любила старуха сладенькое. Когда матушке случалось принести в церковь кутью, украшенную разноцветными леденцами, баушка Параня чуть не все их собирала в рот да в платочек, приговаривая: «Это внучку». Матушка уже знала это и брала с собой запас леденцов, чтобы всем поминальщикам хватило.
Вот эта-то баушка Параня заинтересовалась толпой среди площади. Добрела потихоньку, опираясь на палочку, посмотрела вверх, на батюшку, опять вверх – и сказала:
– А ведь это, батюшка, не иначе, как оказия[4 - Оказия на местном наречии означает необыкновенное явление, граничащее с чудесным.].
– Оказия, баушка, оказия! – весело откликнулся батюшка. – А вот мы ей сейчас письмо пошлем.
Он надорвал посредине услужливо поданный кем-то из ребят клочок газеты, надел его на бечевку, и подхваченная ветром бумажка взлетела по бечевке вверх, к самому змею, который, гудя трещоткой и помахивая длинным мочальным хвостом с кисточкой из разноцветных тряпок, парил в высоте.
– Козырнул, козырнул, получил письмо, кланяется, – кричали старшие дети, когда змей, подхваченный порывом ветра, резко метнулся было вниз и опять выровнялся, направляемый умелой рукой, дергавшей веревку. Малыши смотрели на батюшку так, что, предложи он сейчас привязать к веревке и послать наверх любого из них, они не усомнились бы, что он сможет это сделать.
Из дома вышла Евгения Викторовна и подошла к мужу.
– Сережа, неудобно, люди смотрят, – тихо сказала она.
– Ну и пусть смотрят, ничего тут нет неудобного, – отозвался отец Сергий, отбрасывая назад длинные светло-русые волосы.
* * *
Несмотря на то, что Еничка до одиннадцати лет жила в селе, а отец Сергий и родился в городе, у нее было больше городских привычек, чем у него. Может быть, это объяснялось тем, что она с переселения в Самару до назначения учительницей в Васильевку почти не выезжала из города, тогда как Сережа с тех пор, как начал себя помнить, каждое лето проводил в селе, сначала у бабушки Натальи Александровны, а потом у дяди Серапиона Егоровича. Дети обоих братьев, Евгения Егоровича и Серапиона Егоровича, были почти ровесниками, и, как только старшие из них достигли десятилетнего возраста, в семьях установился удобный для всех порядок: зимой учащиеся дети Серапиона Егоровича жили в Самаре у Евгения Егоровича, а в летние каникулы, даже, при возможности, на Рождество и Пасху, вся орава отправлялась в Яблонку к отцу Серапиону.
После того как отец Серапион овдовел, а Сережа женился, вся молодежь, а иногда и старики, летом стали ездить к нему. Но состав гостей с каждым годом менялся. С самого начала к ним присоединились К-вы, Юлия Гурьевна с троими младшими детьми. Потом умер Евгений Егорович, вышли замуж младшая сестра отца Сергия, Сима, и две двоюродные сестры, отец Серапион заленился ездить за сто с лишком верст. Филарет С-в, Санечка и Миша К-вы разъехались учиться по разным городам, приезжали в Острую Луку не в одно время и не всегда встречались.
Но кто бы ни приезжал, в доме всегда слышался смех и пение; по вечерам, когда сваливала жара, мужчины играли на площади в клек (городки), в чижик, причем отец Сергий не отставал от других. Позднее выходили женщины, подходили учителя с женами, псаломщик с женой и свояченицей, сторож Арефий; покончив с делами, выходили кухарка и няньки, еще кто-нибудь из соседней молодежи. Играли в горелки, в кошки-мышки, в «макара» и расходились тогда, когда сторож шел звонить полночь.
И везде отец Сергий присутствовал, хотя и не принимал прямого участия; устраивал круг; чтобы он был больше, приносил вожжи, и тогда часть играющих стояла, поддерживая веревку, а не держась за руки; сам стоял с ними, и никому это не казалось странным. А теперь, пока гостей еще не было, он решил повеселить ребят, пускал змея и считал это еще более невинным занятием.
Но змея все-таки пришлось спустить. К отцу Сергию подошел один из его молодых помощников, Григорий Яшагин, и сказал озабоченно:
– Батюшка, пойдем сейчас к Кошигиным, мы их там маленько растравили. Сама тетка Ненила за Петром Ивановичем пошла, а я сюда.
Григорий Яшагин и другие молодые мужики – Николай Собашников, Никита Амелин, Сергей Прохоров – сблизились с отцом Сергием во время спевок, которые он зимой устраивал в своей квартире. На спевках занимались тем, на что регенты не обращали должного внимания – гласовым пением, тем, которое называют простым и которое гораздо красивее и молитвеннее многочисленных нотных переложений. При этом отец Сергий, который не мог руководить пением во время службы, добивался, чтобы певчие сразу принимали тон, в котором делался тот или другой возглас, и запевали, не дожидаясь камертона, без досадных «до-ми-соль-до», так искажающих службу и разрушающих создавшееся настроение.
– Батюшка возглас дает, им бы подхватить, а они докают да микают, камертон разогревают, не дождешься, когда запоют, – жаловались на подобные хоры прихожане.
Отцу Сергию со своими не особенно грамотными певчими удалось достичь того, что недоступно многим городским хорам, следующим за камертоном регента «как телок за коркой». Конечно, не обходилось без промахов, случалось, меняя тон или напев, хор разбредался кто в лес, кто по дрова, даже совсем останавливался, но исключения только подтверждают правила.
Многих привлекали на спевку скрипки и фисгармония отца Сергия, возможность после официальной части послушать еще что-нибудь, не обязательно духовное. Но постепенно там начали говорить и не только о пении. После очередного приезда миссионеров молодежь заинтересовалась беседами со старообрядцами, и отец Сергий предложил занятия на эту тему. Изучали историю раскола, разбирали его основные положения и возражения раскольников на беседах, учились говорить и брать инициативу в свои руки. «Нападать всегда легче, чем защищаться, – учил отец Сергий. – Когда вас засыпают вопросами, старайтесь ответить на них ясно, но покороче, а потом переходите в наступление, сами задавайте вопросы, добивайтесь, чтобы на них отвечали и не увиливали». Отец Сергий приводил один-два примера из своей практики и продолжал: «Старообрядцы, да и сектанты тоже, любят задать вопрос из одной темы, потом из другой, из третьей, так что их собеседник разбрасывается на мелочи и ничего цельного не получается. А если им зададут трудный вопрос, стараются ответить на него мельком, не по существу и перескочить на другое. Не допускайте этого, повторяйте вопрос, на который они не ответили, покажите слушателям, что ответ недостаточен, не давайте уклоняться от начатой темы».
Через некоторое время молодые люди сначала робко, а потом все увереннее начали пробовать свои силы в разговорах с соседями. Такие разговоры отец Сергий ценил чуть ли не больше настоящих, официальных бесед. Он считал, что последние слишком задевают самолюбие сторон и трудно надеяться убедить людей только этими беседами. Зато они пробуждают интерес к поднятым на них вопросам, после них начинаются разговоры в более спокойной, домашней обстановке, и тут-то можно довести людей до сознания своей неправоты. Такие разговоры часто возникали стихийно (может быть и не совсем, а после нескольких наводящих вопросов), когда отец Сергий заходил к кому-нибудь по своим делам – купить дров, заказать новую плетюшку на рыдван и т. п. У его новых помощников, «застрельщиков», как он шутя называл их, было больше возможностей для таких встреч. Говорили летом по пути на сенокос; осенью, когда делили землю; зимой, шагая около дровней с хворостом. Если дела не было, его изобретали и, заведя нужный разговор, спорили до тех пор, пока одна из сторон не оказывалась в затруднении. Тогда решали пригласить батюшку и начетчика[5 - Начетчик – человек много читавший, и, обыкновенно, умеющий поговорить «от Писания».] того толка, к которому принадлежали хозяева. И очень редко были случаи, чтобы батюшка не пошел, потому что ему некогда, – это дело он считал одним из важнейших.
– О чем говорили? Какие книги брать? – спрашивал отец Сергий, сматывая веревочку змея. – Ну, шпингалеты, – обратился он к малышам, – марш по домам. В другой раз еще запустим.
– Да разные разговоры были, – ответил Григорий, рассеянно следя за быстро мелькающей в руках батюшки палочкой, превращающейся в продолговатый клубок. – Книг пока не надо. Понадобится, так добежим.
Когда отец Сергий со своим спутником подходил к назначенному дому, туда уже набились любители послушать споров о божественном. Соседи давно заметили, что к Кошигиным зашел Григорий, и, когда он, выйдя, зашагал не в сторону дома, а в обратную, по направлению к церкви, а Ненила Кошигина, на ходу поправляя головной платок, заторопилась вдоль по улице, все поняли: будет беседа. Обыкновенно они затевались зимой, в свободные от полевых работ длинные вечера; сегодня был исключительный случай, и тем больше нашлось желающих послушать.
Беседы со старообрядцами носят своеобразный характер. Если молокане, баптисты и подобные им основывают свои доказательства исключительно на Библии и спорят о почитании святых, об иконах, о том, можно ли участвовать в войнах, то раскольники говорят об исправлении книг при Никоне и об обрядах: на пяти или семи просфорах совершать литургию, двумя или тремя перстами креститься и т. д. Православные признают и те, и другие обряды, требуя только подчинения церковной власти, но спорить приходится, приходится доказывать, что опасна не разница обрядов, а отсутствие духовной дисциплины. В связи с этим выдвигается самая серьезная тема – о Церкви. Оправдывая себя за невыполнение многого, что сами считают обязательным, старообрядцы объясняют это тем, что истинная Церковь повреждена антихристом и потому теперь «все порушено».
Свои положения они подтверждают ссылками на различные книги. Библию старообрядцы почти не читают, существует даже мнение, что, прочитав ее «от корки до корки», можно сойти с ума, «зачитаться». Зато они наизусть, с указанием страниц, цитируют Книгу о Вере, Книгу Никона Черногорца, Великий Катехизис, Кормчую и другие книги, и непременно по старым, неисправленным изданиям. Противораскольничьему миссионеру нужно иметь большую начитанность и находчивость, чтобы не дать запутать себя случайными, без связи выдернутыми фразами, иногда – неправильно истолкованными просто по недостаточному знакомству со славянским языком.
– Нет, Петр Иванович, ошибаешься, говорил в самый разгар спора отец Сергий, – не может быть такого времени, чтобы истинная Церковь Христова, хотя бы при малом числе людей, не сохранилась на земле во всей чистоте со всеми таинствами и со священным чином. Ведь Сам Христос сказал об этом: «Врата адовы не одолеют ее».
– Врата адовы не одолеют, а еретики одолели, – возражал Петр Иванович, – как же написано: «Многим же еретикам и гонителям одоле Церковь».
Отец Сергий в первый раз слышал этот текст и, утомленный предшествовавшим разговором, не сразу нашел, что ответить. Следуя общей в таких случаях тактике – прочитать цитируемое место и понять основную мысль, он переспросил: «Где, где говоришь, это написано?» – и обратился к помощникам:
– Григорий, Николай, сходите к матушке, принесите эту книгу, да и другие заодно захватите, может быть, понадобятся.
Пока поджидали посланных, говорили кое о чем, напряжение ослабело, спорщики отдыхали. Но отец Сергий не переставал думать о затруднивших его словах. И вдруг его осенило. Догадка оказалась настолько проста, что он чуть не вскрикнул вслух: «ЧТО же это я, славянский язык забыл?» – но сдержался и сказал другое.
– Как, по-твоему, Петр Иванович, какая разница в словах «повеле» и «повелеша»?
– Очень просто, ответил Петр Иванович, немного удивленный вопросом, – «повеле» – это когда один, а «повелеша» – много.
– Ну вот, вот, – подхватил отец Сергий, – так и тут, где ты сказал, говорится про одну, про Церковь, а не про многих. Если бы говорилось про еретиков, то было бы сказано: «ОДОЛЕША». А написано «одоле», значит не еретики одолели Церковь, а она их одолела. Принесли? – обратился он к вошедшим, раскрасневшимся от быстрой ходьбы и тяжелой ноши помощникам.
Книги были солидных размеров, в толстых деревянных, обтянутых кожей переплетах с медными застежками.
– Ну и хорошо, еще не раз в них заглянем. А сейчас и без них разобрались. Ведь правильно? – повернулся он к слушателям.
Правильно, правильно, раздались голоса. Завзятые сторонники Петра Ивановича молчали.
Глава 5
«Голуби вы, голуби!»
1910 г.
Долго же в этот вечер пришлось матушке ожидать мужа! Она покормила и уложила детей, а сама села было шить новую рубашечку Коле, потом отложила ее и взялась за книгу, но ни чтение, ни шитье не ладились. Время от времени она выходила в неосвещенную залу, приподнимала занавеску у окна и напряженно и безрезультатно всматривалась в темноту. Когда наконец послышались знакомые шаги, матушка вышла навстречу недовольная, но отец Сергий, торопливо глотая остывший суп, оживленно рассказывал разные эпизоды беседы, и Евгения Викторовна тоже оживилась и заинтересовалась. Старательно размешивая гречневую кашу, в которой никак не хотело таять масло, она расспрашивала о подробностях, радовалась удачным ответам, волновалась и трепетала, когда отец Сергий рассказывал, как он чуть было не осрамился. Может быть, они одни только не спали в селе в такое позднее время.
Нет, не только они. Неожиданно на улице против их окон раздалось пение. Своеобразный, тягучий напев духовного стиха, который поют бродячие нищие.
Голуби вы, голуби,
Голуби вы сизый!
А куда вы, голуби, летали?
А мы летали во Святый Град.
Певцы пели с чуть заметной гнусавинкой, с легким дребезжанием в голосе, но чувствовалось, что голоса молодые, сильные и что певцы владеют ими гораздо лучше, чем это нужно слепым нищим.
– Наши! Миша и Филарет!
Евгения Викторовна вскочила, чтобы бежать отпирать дверь.
– И еще кто-то с ними, – добавил отец Сергий.
– Подожди, я через коридор пущу, здесь ближе.
Через полминуты в коридоре загремел тяжелый засов и раздался веселый голос отца Сергия:
– Проходите, проходите, по ночам не подаем! Еничка, посмотри, ворвались какие-то хулиганы, и не выгонишь!
Конечно, это были Филарет и Миша и их товарищ Сашка Архангельский. Но отец Сергий был прав, назвав их хулиганами. В лаптях с неумело намотанными онучами, в косоворотках и деревенских пиджаках, наброшенных на одно плечо, в картузах, лихо заломленных на затылок, а у Филарета сдвинутом чуть не на самые глаза, с растрепанными волосами, котомками за плечами и увесистыми палками в руках, они действительно имели такой вид, что одинокий прохожий, встретившись с ними среди поля, мог почувствовать себя очень неуютно.
– Что это вы так нарядились? – рассмеялась и Евгения Викторовна.
Молодые люди наперебой рассказывали, что они решили пешком пройти по всему уезду, побывать в Высоком, у отца Евгения, брата отца Сергия, и у других, более дальних родственников и знакомых.
Эта прогулка, на которую они смотрели как на оригинальное развлечение, едва не причинила им неприятности. Когда они проходили через большое волостное село верстах в двенадцати от Высокого, их задержал урядник, заподозривший в них агитаторов. Им едва удалось добиться, чтобы их показали местному священнику, который бывал у отца Евгения и знал их всех. Под его поручительство молодых людей отпустили, но дальше они путешествовали уже в своем виде.
Притихший дом оживился. Разбудили Агашу. Она, заспанная и веселая, достала из погреба молока и поставила самовар. Наварили яиц и, истребляя импровизированный ужин, говорили, говорили, словно все новости непременно нужно было выложить сегодня. Заботливые хозяйки в соседних домах уже начали просыпаться и посматривать на звезды не проспать бы, не опоздать выгнать овец, – когда гости наконец успокоились на широкой кошме в предбаннике. А на восходе солнца они уже были на ногах: захватили фотоаппарат, хранившиеся на мазанке Мишины удочки (замечательные удочки, с бамбуковыми удилищами и пробковыми поплавками) и отправились на Чагру – купаться и удить.
Соня в это утро тоже поднялась раньше обыкновенного, по крайней мере ей так показалось, потому что мама и Агаша спали. Она не могла понять – во сне или в действительности она слышала голоса дядей. Девочка осторожно оделась, крадучись вышла из спальни. От этого народа можно ожидать всяких проказ, прежде всего они могут где-нибудь спрятаться и выскочить, когда она не ожидает, или выкинуть еще какую-нибудь штуку. Но теперь у нее есть шансы перехитрить противника: никто не подозревает, что она встала, а она тут как тут.
Сначала ей как будто повезло: в уголке прихожей стояли пыльные котомки. «Большие, а не догадались мешки спрятать», – про себя посмеивалась Соня, уверенная, что гости прячутся от нее, и продолжала поиски. Она обошла все сараи, заглянула в каретник и на погребицу постояла около конюшни, прислушиваясь, не раздастся ли с сеновала приглушенный смех, и вернулась разочарованная. Гости успели-таки исчезнуть.
Они явились только к чаю, да и то с опозданием. Вернулись голодные, без рыбы, но довольные прогулкой. Едва позавтракав, Филарет с Астраханским забрали из стола отца Сергия фотореактивы и лампочку с красным стеклом и, посмеиваясь, отправились в темный чулан проявлять сделанные снимки. Через некоторое время Филарет торжественно показал еще влажный негатив.
– Рекомендую вашему вниманию знаменитого рыболова!
На негативе струилась неширокая река, поднимался сажени на две обрывистый берег, сверху поросший тальником. Песчаная площадка около самой воды привлекла бы внимание любого удильщика. Он и был там: в воду закинуто несколько удочек, рядом стоит маленькое ведерко для рыбы, а сам Миша мирно спит, свернувшись калачиком и прикрывшись фуражкой от бьющих в глаза солнечных лучей.
Глава 6
Пешком
1910 г.
С увеличением семьи молодые супруги начали задумываться о будущем. Острая Лука – село небольшое, к тому же на третью часть зараженное расколом, одно из тех сел, в которых священнику для поддержания сносного существования давался двойной земельный надел, но и этого было мало. Правда, пока доходов хватало, но вот дети подрастут, будут учиться, нужно будет одевать их, платить за обучение, за книги, чаще ездить в город, – тогда будет трудно, нужно к тому времени найти дополнительные средства к жизни. И отец Сергий снова вспомнил про пчел. Вернее, он не забывал их никогда, в его огороде, как раньше в Царевщине, каждый год стояли один-два улья, но это было занятие между делом, а теперь следовало поставить все на более широкую ногу – обзавестись медогонкой, разным недостающим инвентарем, ульями и рамками в достаточном количестве, постепенно увеличить пасеку и добиться того, чтобы она стала доходной. Весной 1909 года, когда Косте было полгода, а еще через полгода ожидался Миша, отец Сергий довел пасеку до 25 ульев. Целая куча липовых колод, в течение нескольких лет медленно превращавшихся в труху в углу двора, показывала, сколько трудов и затрат требовалось для этого.
Отец Сергий покупал в соседних селах пчел в колодных ульях, перегонял их в рамочные, соединял, чтобы были сильнее, по две-три семьи в одну, подкармливал сахаром, выписывал с Кавказа породистых маток.
Когда с лугов сошла вода и попросохли дороги, он договорился со стариком-пчеловодом Евдокимом Лукьянычем, и они вместе вывезли своих пчел версты за четыре от села, в займище, где буйно цвел терн и что ни дальше, то сильнее расцветали травы. Пчельник разместили на полянке недалеко от маленького озерца, питаемого родничком, а небольшая караулка с плетеными стенами прижалась около самых зарослей терновника, напоминавших сказочную Сиреневую рощу: как там, так и тут невозможно было удержаться и не сорвать цветущей ветки, а когда она была сорвана, рядом оказывалась другая, еще пышнее и красивее, дальше – третья и т. д., до тех пор пока в руках не оказывался громадный ворох цветов, платье было порвано, а лицо исцарапано. Конечно, пропасть совсем, как в Сиреневой роще, здесь было невозможно, но все-таки человек, не привыкший ориентироваться в лесу, мог сбиться с дороги и попасть в довольно неприятное положение. Поэтому Евгения Викторовна, когда они всей семьей приезжали на пчельник, не отпускала от себя Соню и сама старалась держаться поближе к полянке. Так было и весной, и летом, когда кусты были осыпаны кислыми, вяжущими, но тем не менее привлекательными ягодами. Матушка с Соней и приезжими из Самары гостями гуляли, рвали цветы, пили чай с терном и только что вынутым медом и возвращались, вполне довольные прогулкой. Сам отец Сергий бывал на пчельнике гораздо чаще, чаще пешком, чем на лошади, и оставался подолгу, выполняя необходимые работы и приучая к ним компаньона.
– Ведь он как ведет пчеловодное хозяйство, – говорил отец Сергий. – Конечно, не как при Адаме, а как при Ное. Когда, после потопа, Ной посадил виноградник, там у него, конечно, были и пчелы, и знал он о них немного больше, чем Адам. Вот и Евдоким Лукьяныч хозяйничает, как Ной.
И все-таки на этого «Ноя» пришлось бросить пасеку надолго и в самый ответственный момент. Когда болезнь Кости раньше времени погнала отца Сергия в Самару, он надеялся, что вернется достаточно рано и успеет подготовить пчел к зиме. Но епархиальный съезд, на который он выбирался бессменным депутатом в течение нескольких лет, в этом году затянулся, и вернулся отец Сергий только тогда, когда ульи стояли в зимовке. Это оказалось роковым. Его неопытный заместитель немного пожадничал, отбирая осенью мед, оставил на зиму слишком маленький запас, и в результате весной отцу Сергию из двадцати пяти ульев едва удалось собрать три жизнеспособных – остальные погибли от голода.
Три улья были поставлены на огороде, куда выходили окна кухни, покупка и перегонка пчел из колод возобновилась, а караулку в лесу забросили. Только в половине лета отец Сергий, вспомнив, что там остались необходимые ему теперь пчеловодные ножи и еще кое-что из мелкого инвентаря, решил сходить за ними. И тут-то вступила пятилетняя Соня и предъявила свои требования:
– Папа, возьми меня с собой!
– Куда ты, я пешком пойду.
– Все равно, возьми!
* * *
Отец Сергий горячо любил детей и, едва они начали подрастать, таскал их с собой везде, где было можно. Если он ехал куда-нибудь в поле, из-за бортов его брички непременно выглядывало несколько детских головенок – свои дети и их приятели.