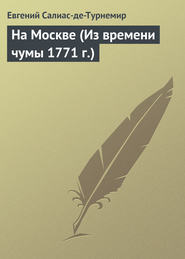скачать книгу бесплатно
На фабрике было грязно, душно. Несколько сотен народу фабричного совсем не походили на крестьян его села. Ивашку, воспитанного в доме Воробушкиных на барскую ногу, отталкивала грубость фабричных и постоянное пьянство, драки, ссоры. Даже пища их была ему не по нутру.
Не прошло недели, как Барабин сделал его приказчиком. Ивашка быстро все усвоил, понял свою обязанность и исполнял ее добросовестно. Но в то же время он уже мечтал о том, как бы переменить место.
Единственно, что удерживало его на Суконном дворе, была возможность всякий день отправляться с докладом к Барабину и видать, хоть одним глазком, вскользь, красавицу барыню, которая так околдовала его в церкви. Часто случалось, что Ивашка уходил, не видавши Павлы Мироновны, и вечером, засыпая, утешался надеждой, что завтра непременно увидит ее.
Но главное, что смущало Ивашку и казалось ему удивительным и страшным, – это его скверный глаз на людей.
Как на прежних местах, так и теперь на Суконном дворе, Ивашка видел вкруг себя все заболевающих и умирающих.
Однажды, встретив на улице подьячего Мартыныча в добром здоровье, он даже удивился. Он был убежден, что подьячий давно на том свете. На расспросы Мартыныча, почему он ушел, и на приглашение снова поступить к себе Ивашка снова отказался. На этот раз он привел в пример и в подтверждение своих опасений именно то обстоятельство, что на Суконном дворе точно так же продолжает он сглаживать людей.
– Так и мрут, – прибавил он, – всякий Божий день кто ни на есть заболеет. Дня два проваляется и помрет. Одно мне остается – либо топиться, либо в Киев идти… в пещерники, грех свой замаливать.
Честный и добрый малый Ивашка давно уже объяснил Барабину и Кузьмичу, что его следует отпустить, что он – причина заболевания и смерти фабричных. Но Барабин и Кузьмич только вдоволь, до слез, нахохотались над парнем.
– Ладно, смертоносный, – шутил Барабин, – живи небось да делай свое дело.
Ивашка особенно не настаивал, так как, лишившись места на фабрике, он лишился бы возможности видать Павлу Мироновну.
Однажды, дня через три после его объяснения с Мартынычем, за ним прибежала женщина из дома Барабина и потребовала его к барыне.
– Хозяин наш из Москвы отлучился, – сказала она, – а то нешто при нем посмела бы она тебя звать.
Провожая Ивашку до дому, женщина сказала несколько слов, которые как ножом ударили Ивашку.
– А что, паренек, ведь приглянулся ты нашей хозяюшке… ей-Богу. Всякий день спрашивает о тебе – что, как, да хорошо ли живется, да не ругает ли тебя хозяин. Вот и ноне, только тот со двора – за тобой послала.
Ивашка, конечно, не смел и мечтать о том, чтобы такая важная барыня-красавица могла думать о нем, простом мужике. Он, конечно, не поверил болтовне бабы, но слова ее все-таки глубоко запали ему в душу.
Когда он вошел в дом Барабина, то чувствовал особенное смущение и с каким-то странным страхом ожидал свидания с глазу на глаз с барыней, о которой мечтал нескончаемо и день, и ночь.
Через несколько минут другая женщина позвала Ивашку из кухни наверх.
Павла сидела на том же самом стуле у окна, на котором видел ее Ивашка в первый день. И снова, так же как и в первый раз, Ивашку пронизали насквозь ее чудные, удивительные глаза. Он поклонился в пояс и стал, невольно отведи глаза в сторону и не имея сил глядеть ей в лицо.
– Ну, что? как тебе живется, хорошо ли?
– Ничего-с.
– Доволен?
– Доволен-с, ничего-с.
– Хозяин тобой доволен. Говорит, что если Кузьмич захворает, то тебя на его место поставит. Хозяин сказывает, что ты очень понятлив, трезвый, да потом, говорит, – совсем на мужика не похож. Рад бы ты на место Кузьмича попасть?
Ивашка не знал, что ответить.
– Что же молчишь?
– Возьмите меня к себе в дом, – выговорил Ивашка.
– Куда?
– К себе… в услужение… здесь, стало быть, в дом… – Ивашка едва-едва шевелил губами, будто сознавался в чем-то ужасном.
Не просьба его, а причина тайная этой просьбы смущала его. Лицо его, шепот, а вся поза так ясно говорили о том, что он силился скрыть, что всякая женщина почуяла бы, почему смущается и шепчет парень.
Павла пристально вгляделась в лицо Ивашки и вдруг произнесла тихо:
– Поверни глаза… Посмотри на меня.
Ивашка через силу исполнял приказание, но только на мгновение пересилил себя и снова опустил взгляд.
Наступило молчание. Павла в этих глазах поняла все и вдруг, среди тишины горницы, Ивашка расслышал ее тихий, сдержанный вздох.
– Ах, глупый ты, глупый, – выговорила она тихо, будто самой себе. – Не знаешь ты своего хозяина… померещится ему что-нибудь, и он убьет зря. Ты вот что, Иван, выбрось всякий вздор из головы… думай о деле. Вишь ведь какой? Мужик из деревни, а что на уме…
Наступило снова молчание.
Ивашка продолжал стоить, опустив голову и опустив глаза в землю.
– Обещаешься ты мне обо мне не думать? Я ведь замужняя, да тебе и не пара. Совсем глупо выходит… Мне бы хотелось видать тебя, знать, что ты заделываешь, а если ты этак… Этакое глупое на уме будешь иметь, мне тебя нельзя к себе и звать. Выходит нехорошо… Знала бы я это, и сегодня не воззвала бы.
Ивашка ничего не отвечал в стоял как истукан.
– Ну, что у вас делается? Правда ли, что все хворают люди?
– Точно так. Просил уж я хозяина меня отпустить – смеется…
– Да как же не смеяться? Нешто может человек сглаживать народ насмерть? Ведь вот жил у вас целый день, а спасибо, никого не сглазил, никто у вас не захворал в не помер.
– Это точно… вот я оттого в просился опять к вам.
– Не лги… совсем не оттого. Ты просишься затем, чтобы поближе ко мне быть. Ведь так? Погляди-ка на меня!
Но Ивашка на этот раз не поднял опущенных глаз и только слегка вспыхнул.
– Глупый ты!.. Возьми я тебя сюда… ну, а коли заприметит хозяин мой да узнает то, что я узнала? что тогда будет с тобой? Задаром пропадешь.
– Хозяина я не боюсь… – прошептал Ивашка чуть слышно.
– Что, что?
– Хозяина, говорю, не боюсь. Хоть сто смертей пройду…
– Полно… – строго выговорила Павла другим голосом. – Не смей никогда и впредь таких речей со мною держать. Ты, глупый, не понимаешь, что мне, первостатейной, столичной купчихе, только обида, если простой парень, мужик, будет мне такие слова говорить.
И опять наступило молчание.
Ивашке хотелось уже, чтобы гордая красавица барыня отпустила его. Ему было в стыдно, и тяжело стоять перед ней, не смея поднять головы и взглянуть на нее.
– Скажи-ка лучше, – заговорила снова Павла, – как это народ все хворает? и почему? Ты думаешь, все одной хворостью?
– Точно так, все на один лад… Потрясет человека, погорит в огне, потеряет мысли, значит, лежит чурбаном или мечется, а там чернеть качнет… А там затихнет, будто заснул, а смотришь – тащи его на двор, хорони.
– Да разве вы во дворе хороните?
– Во дворе.
– Как же так?
– Не знаю, так указано.
– За батюшкой посылаете?
– Нет-с, не приказано. Приказано от хозяина: как помер – на дворе яму выкопать и хоронить. За дровами, значит, недалеча оттуда, где лужа такая большая.
– Отчего же так? – с изумлением выговорила Павла.
– А земля мягче, копать слободнее.
– Что? да я не про то. Отчего за батюшкой не посылают? Ведь это все грех. Знает ли отец про эти порядки? Когда был у вас Мирон Дмитрич?
– Давненько не был. На второй день, как я поступил, – они заезжали, да так, у ворот только постояли, о чем-то поговорили и уехали.
– А в самый двор не входил?
– Нет-с.
– Много ли у вас померло?
– Да кто их знает. Десятка два, а то и более, а то и полсотни.
– Что же Кузьмич говорит?
– Говорит – помирают.
– Ну да. Да отчего помирают?
– Да так, говорит, помирают. Известно, человек жив – а там помер. Я говорю – от моего глаза, а он говорит – ты дурак.
Павла невольно усмехнулась.
– Ну, ступай к себе. В другой раз, можно будет, пошлю за тобой. Только помни, Иван… мысли эти из головы выкинь, а то и грех, и обида. И посылать я за тобой не стану. Обещаешься?
– Обещаюсь… – пролепетал Ивашка и, по знаку красавицы, вышел из горницы.
Павла, по уходе молодого парня, красивого не столько лицом, сколько выражением этого лица с большими серыми, кроткими и ясными глазами, долго просидела неподвижно, склонив голову на руки и глубоко задумавшись.
Она сказала ему сейчас, что ей, первостатейной купчихе столичной, обида слушать такие речи от простого парня деревенского. А чем же был ее отец, когда пришел босоногий в Москву? Чем был ее муж, когда поступил к отцу в услужение на тот же Суконный двор? И Артамонов, и Барабин, и Ивашка все те же мужики. Павла, через несколько минут глубокого раздумья, поймала себя самою на мысли – что если бы Ивашка поступил на фабрику несколько лет тому назад, то выслужился бы, вероятно, точно так же, как и Барабин. Точно так же видался бы с ней, и, быть может, кончилось бы все тем, что молодой парень точно так же полюбился бы ей и сделался бы ее мужем.
И вдруг Павла бессознательно поставила рядом в своем воображении Барабина и Ивашку. Страстного, крутого, тяжелого, черного как смоль Барабина и ласкового, с светлым лицом и с светлыми глазами Ивашку. Она примеривала одного к другому и кончила тем, что тяжело и глубоко вздохнула. Ей показалось, что она была бы вполне счастлива, совсем другая женщина, если бы судьбе захотелось распорядиться несколько иначе и вместо приказчика Барабина послать ей, несколько лет ранее, – приказчика Ивашку.
«Если такие мысли, – подумала она, – будут мне в голову лезть, так лучше за этим парнем более не посылать. Это все с тоски… с одиночества… Пойти-ка лучше прогуляться к батюшке да шепнуть Мите словечко о Суконном дворе».
XXXII
Через несколько минут Павла, надев богатую шубу, завязавшись пунцовым платком, направилась по улице к дому своего отца.
Не сразу отперли ворота и уняли собак. Дом Артамонова, первого богача, в этом отношении походил на острог, в который пробраться было довольно мудрено.
Павла нашла отца на его обыкновенном месте под образами, в покойном кресле, обитом какой-то бурой толстой кожей. По спинке, на ручках и ножках и вдоль сиденья были утыканы сотни маленьких гвоздиков, которые блистали узорами со всех сторон.
Седой как лунь Артамонов, с длинной седой бородой и длинными по плечам седыми и густыми локонами, был удивительно похож лицом на образа угодников в том же киоте, под которым он сидел. Перед ним на скамеечке сидел мальчуган, любимец Митя, и внимательно слушал что-то, что рассказывал ему отец, держа книгу на коленях.
И старик, и мальчуган равно рады были всегда появлению Павлы. Митя бросился к сестре на шею, а старик протянул обе руки, взял дочь за голову, притянул к себе и поцеловал несколько раз в щеки и лоб.
– Ну что, твой как поживает? – выговорил Артамонов. Это был всегдашний вопрос. «Твой» – был не муж, а ребенок. Про зятя Артамонов никогда не спрашивал. Когда же случалось говорить о зяте, Артамонов называл его по имени и отчеству – Тит Ильич.
Павла, приходя к отцу, большей частью молча сидела около него около часу и возвращалась домой. Говорить им было не о чем, нового и интересного не могло быть ничего.
О делах своих Артамонов не любил говорить, да с дочерью, т. е. с женщиной, считал подобного рода разговор неуместным.
О своих семейных делах Павла никогда не говорила. Она сама выдала себя замуж и если была несчастлива, то считала унизительным печалиться и жаловаться.
Каждый раз после молчаливого свидания старик снова брал дочь за голову, снова целовал ее так же, и только глубокий вздох, провожавший ее домой, ясно говорил о том, как тяжело старику положение его дочери. Часто после ухода Павлы старик бросал Четью-Минею[25 - Четья-Минея – «чтения ежемесячные», сборник житий святых, составленный по месяцам в соответствии с днями чествования православной церковью памяти каждого святого.] или иную священную книгу и долго сидел, опустив свою снежно-белую голову на грудь. И часто умному старику приходило на ум рассуждение, становился перед ним вопрос – зачем было богатеть, зачем было наживать целые кучи золота? Чтобы иметь много детей, всех почти потерять и иметь теперь двух сыновей болванов, «миндалей», и единственную дочь, несчастную в браке. И что же оставалось? Один мальчуган Митя.
И старик мысленно каждый раз привязывался еще более к этому мальчугану, хватался за него как за соломинку. В его будущем искал он спасенья своего душевного одиночества, в нем одном надеялся наконец увидеть смысл всего своего существования.
За последнее время все больше и чаще читал Артамонов Книгу Иова[26 - …книга Иова – одна из частей Ветхого завета.]. Как удивились бы москвичи, узнав, что гордый на вид, грубый и суровый старик смирялся духом в тиши своей горницы и готов был отдать все своя кучи золота, свою спесь, свое презрение к московским сановникам, свое знание людей и дел, – все отдать, даже своих двух «миндалей», лишь бы отдали ему счастье Павлы и пообещали бы, что мальчуган Митя будет так умен, как обещает.
Часто приходило на ум старику то, что слышал он однажды от какого-то сенатора, что в заморских землях существует развод, что на Руси, например, у донских казаков, исстари водился обычай разводить мужа с женой, и оба делались свободны и могли вступать снова в брак.
И Артамонову не казалось это грехом. Он всячески обдумывал этот вопрос и поневоле видел разумность в этом обычае.
На этот раз Артамонову показалось, что дочь его особенно грустна. В действительности Павла была на вид несколько печальнее обыкновенного под влиянием тех мыслей, которые возникли в ней после ее беседы с влюбленным парнем.
Артамонов, видевший дочь насквозь, подумал, что Барабин, перед отъездом из Москвы, снова имел с женой крупную ссору. Подозрение Артамонова еще более усилилось, когда Павла, простившись, сказала с притворным равнодушием в голосе своему брату, чтобы он проводил ее домой.
«Что она ему скажет? – подумал старик. – О своих ссорах с мужем говорить мальчугану непристойно… и она этого не сделает. Стало быть, что-нибудь особенное… что и мальчугану сказать можно».
Между тем Павла говорила брату, когда они были на улице:
– Приходил бы ко мне чай пить, Митя! Ты у меня редко стал бывать. Кабы знал ты, как мне тошно и скучно, то чаще бы забегал. Знаешь ли ты, Митя, что мне иной раз все золотые иконы в образах кажут черными… зажжешь много свечей, зажжешь три лампады, а в горнице будто темнота… А на душе, Митя, так черно… как не дай Бог никому. Ну, да что об этом толковать. Я тебя недаром позвала.
Когда они были дома, в маленькой горнице Павлы, она передала Мите, вечному посреднику между ней и отцом, о том, что творилось в Суконном дворе.
– Ты, Митя, скажи батюшке, там что-то нехорошо. Ты пойми – там хворость завелась, народ мрет, а от начальства скрывают. Я слышала, что за священником не посылают, хоронят тихонько в дровах. Ведь за это все под суд пойдут, и батюшка под суд пойдет.