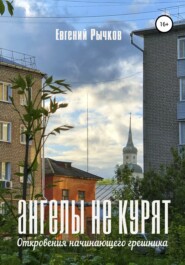скачать книгу бесплатно
Было у меня еще одно бабушкино послушание. Я получил его, как только в школе научился писать. С определенной периодичностью бабушка Рая подзывала меня в свою комнату, и мы писали письма моим дорогим иногородним двоюродным братьям и их родителям. Бабушка по причине слабого зрения и неграмотности шариковую ручку в руки брала всего один раз в месяц, когда расписывалась в ведомости за получение пенсии. Все остальное время в течение многих лет ее штатным писарем был я. Это ничуть меня не утомляло. Мне даже нравилось писать под бабушкину диктовку. В эти моменты я как будто сам вживую общался с родней, представляя, как они будут читать мое послание. Наши письма начинались всегда одинаково, например, так: «Здравствуйте, дорогие мои детеныши Витя, Таня, внуки Алеша и Надя! Как вы там поживаете, что у вас нового? Не болеете ли…». Бабушка почему-то ласково всех нас называла словом «детеныши». Заканчивались письма тоже однотипно, что-то вроде: «…оставайтесь с Богом. Мама и папа».
Ее лексикон – это вообще находка для диалектолога. Мы часто с братьями посмеивались над бабушкиными словечками. Свои больные колени она называла «колинями», ступени и лестницы – «сходнями», автобус – «антобусом», сухую погоду – «вёдро» и так далее. Перед «ф» она почему-то всегда произносила звук «х». Так, свою сноху называла «Хфаина». Много было у бабушки разных чудных словечек. Спустя много лет в институте на этом материале я с успехом защитил прекрасную курсовую работу по лингвистике на тему «Диалекты вятского севера». Спасибо тебе, бабушка Рая. Жаль, ты не почитала этой работы.
Как штатный бабушкин писарь я знал больше, чем другие внуки. Бабушка любила не только диктовать, но и просто рассказывать о своем детстве и жизни. К десяти годам я знал всю родословную семьи с именами участников генеалогического древа по отцовской линии, названия починков, деревень, сел и населенных пунктов, по которым помотала судьба моих предков. Однажды заговорила бабушка и про ту самую икону. Оказывается, она проехала с ними по всем местам вынужденного проживания. Во время раскулачивания образ Спаса Нерукотворного первым делом положили в небольшой узелок личных вещей, которые дозволялось взять с собой в ссылку. Спасала она моих пращуров в землянке и заводском бараке. Словом, всю жизнь они молились Богу перед Его иконой Нерукотворного Образа.
Поскольку мы, к своему «несчастью», жили вместе с бабушкой, то и назидала нас она больше других внуков. Хоть я и пропускал наставления о Боге мимо ушей, но четко запомнил ее слова: «Никогда не отрекайся от Бога. Если будет трудно или страшно, повторяй: «Господи, помилуй! Спаси и сохрани!»
Став старше, я все еще сомневался в бабушкиной правоте, но когда становилось невмоготу, нет-нет, да и прибегал к ее совету. И чем старше я становился, тем чаще повторял эти слова. Еще бабушка через палку как-то заставила меня выучить наизусть молитву «Отче наш». Руководствуясь принципом дипломатии, что быстрее отвяжется, если я выучу, чем спорить и убеждать, так-таки зазубрил в свое время. Бабушка моего подвоха не поняла, но была счастлива и успокоилась.
Помню, в детстве на новом отцовом «Москвиче», купленном, наверное, в том числе и на «нетрудовые доходы» с корзинок, всей семьей, с бабушкой и дедом, поехали мы на родину предков. Нет уже давно разработанного Василием Андреевичем починка, заросли лесом и травами здешние некогда плодородные поля. Дальняя родня радушно встречала нас на краю жизни в небольшом поселке, за которым начиналась безлюдная тайга. На другой день меня как старшего брата все же взяли в экспедицию по поиску прадедовского дома. Нашли. Во всяком случае, так сказала бабушка. Помню лишь лес на краю заросшего поля и какие-то камни. Бабушка заплакала, упала на свои больные колени перед валунами и, обняв, долго целовала их. Спустя годы, уже много лет после смерти бабушки Раисы, став взрослыми людьми, мы с отцом и братом попытались повторить экспедицию, которая увенчалась еще меньшим успехом. Жизнь отступила от нашего починка еще на тридцать километров, и теперь уже не только поля, но и дороги заросли непроходимым лесом.
Зато мы побывали в селе Николаево, где еще проживало несколько семей. В нем сохранились останки церкви Успения Пресвятой Богородицы. Скажу вам, огромный по сельским меркам храм с колокольней и дивной архитектуры! Штукатурка со стен давно осыпалась, но даже своим красным кирпичом он представлял собой произведение искусства. Сбоку центральной части варварским способом прорублены большие ворота. Скорее всего, церковь постигла участь многих сельских храмов, и она была переоборудована под машинно-тракторную станцию или склад. Но на колокольне еще сохранился деревянный купол.
Методом исключения я сделал вывод, что это та самая церковь, с которой была связана вся юношеская жизнь моей бабушки. Другой в окрестных местах больше попросту не было. Скорее всего, именно здесь, в этом Успенском храме, крестили младенца Раису, сюда со своими родителями по воскресеньям на лошади она ездила на литургию, здесь венчалась с дедом Толей, и та самая икона Спаса Нерукотворного была ими куплена тоже здесь. Случайно или нет, но родилась моя бабушка аккурат на Успение Пресвятой Богородицы. Стоя в центре ее храма, я словно вновь встретил ее. Большая бабушкина жизнь в один миг пролетела в моей голове, наполнив сердце радостью встречи. И теперь уже я целовал эти камни.
Вернувшись из экспедиции, я робко намекнул своей тетушке, у которой хранилась бабушкина икона, дескать, берегите святыню, чтоб спустя годы она не исчезла в неизвестном направлении. Мол, прошу меня считать после Вас первым наследником. Я был максимально деликатен, потому как понимал: икона тоже дорога ей, поскольку это последнее, что осталось у нее от матери. К моему удивлению, тетка, не раздумывая, выразила готовность передать мне Спаса. Образ, конечно, дорог ей. Но она, рассказав притчу, что если кто-то просит у тебя в дар икону, нужно, не колеблясь, отдать, передала мне бесценный дар. Я, перекрестившись, приложился к образу и принял с великой благодарностью. Уже дома на обороте обнаружил бумажку, чисто написанную теткиным почерком и столь же аккуратно прикрепленную к задней стороне доски. Это были названия городов и весей, а также адреса, по которым путешествовала икона в течение своей жизни. Я, следуя семейной традиции, столь же аккуратно написал два своих. Теперь она стоит у меня в доме так же незаметно в красном углу за комнатной дверью.
Несмотря на бытовое благополучие, моя бабушка до конца дней оставалась антисоветчицей. Она не любила советскую власть и не могла ей простить отобранного при раскулачивании сундука с девичьими нарядами, разоренного отчего дома, погубленного отца и своей ссылки. Неграмотная деревенская женщина, побитая жизнью, она не была диссидентом, не устраивала протестов и демаршей, не писала обличающих власть мемуаров. Она просто не любила советскую власть.
– Я-то не доживу, а вы, детеныши, обязательно увидите, как выкинут из мавзолея плешатую голову, – часто приговаривала бабушка Рая, имея в виду вождя мирового пролетариата. В силу малого образования все свои лишения и пережитое горе она справедливо ассоциировала с ним, Лениным.
Я учился в пятом классе, когда к руководству страной пришел М. С. Горбачев. Он с первых дней стал любимым бабушкиным героем. Уже старенькая, в своих больших очках она могла подолгу сидеть перед самым кинескопом телевизора на маленьком детском стульчике и слушать выступления лидера страны. Конечно, после кремлевских старцев, выступающих по бумажке, Михаил Сергеевич, думаю, имел успех у многих советских бабушек. Но моя-то была особенная, она не любила советскую власть. А тут, на тебе! Ударилась в политику на старости лет. Уверен, что из льющегося на нее словоблудия она не понимала ни бельмеса, но всегда внимательно слушала и хвалила Горбачева. Уже тогда мне виделась очевидная нестыковка. О бабушкиной нелюбви к Ленину я знал с малых лет. Горбачев – очередной руководитель компартии после ее создателя, и вдруг он оказался не просто амнистирован кулацкой дочкой, но еще и угодил в любимчики. Где логика? Бабушка старенькая, что с нее взять, махнул я тогда свой пионерской рукой.
Об этом противоречии я вспомнил, спустя 22 года, на встрече с Владыкой Хрисанфом. По благословению Святейшего Патриарха и Святейшего Синода он был назначен на кировскую кафедру еще в 1978 году, которая тогда называлась «Кировская и Слободская». На Вятке очень любили своего правящего архиерея, отдавшего служению здесь более тридцати лет. Во время встречи мы говорили с ним о возрождении православия на вятской земле, о его второй кафедре, о духовенстве, возрождении Великорецкого крестного хода и многом другом. Владыка, помню, разоткровенничался и признался, что самым большим чудом в своей жизни считает падение коммунистического режима и советской власти. По словам митрополита, это была мощнейшая идеологическая машина, разрушающая православие. С годами она становилась все сильнее и сильнее. Архипастырь, по его признанию, не сомневался в ее неминуемом крахе, но никак не надеялся увидеть это чудо на своем веку. И вот в одночасье железный занавес рухнул. Людям разрешили ходить в церковь, в стране в 1988 году широко отметили 1000-летие крещения Руси, начали возвращать прихожанам храмы. Во время этого рассказа глаза митрополита Хрисанфа наполнялись радостью и счастьем.
Я тут же вспомнил свою бабушку, сидящую перед телевизором и внимательно слушающую бредни Михаила Сергеевича. Конечно, она ничего не понимала из его пространных речей. Но всю жизнь верив, в 1985 году почувствовала то, что выпускник Московской духовной академии митрополит Хрисанф назвал словом «чудо».