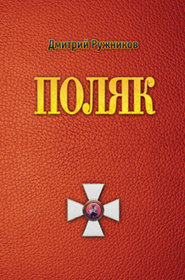скачать книгу бесплатно
– Хлопова ранило в ногу, унесли, – сказал Глеб.
– А Семен Иванович цел и невредим, ни одной царапины. Смеется: заговоренный, мол, с японской, там всю кровь оставил.
– Ты видел, что эти трусы-то устроили? Сволочи! Пока стрелять не начали – поубивали бы всех пленных.
– А у трусов, по-видимому, всегда так: убей того, кто тебя трусом сделал или кто видел, что ты трус. Позорище! Подожди, увидишь – наградят. За трусость и зверство.
– А как без этого. Первая победа.
– Дай бог, чтобы не последняя.
– Миша, я видел, ты в этих солдат стрелял.
– Да. И не жалею. Это уже не солдаты, не русские солдаты, это обезумевшая от страха и злобы толпа.
– И все же они русские. Как легко оказалось, что русские могут убивать друг друга.
– Брось Глеб. Это война. И это армия. Пойдем, пойдем, пора смыть с себя всю эту кровь.
Два офицера шли, и усталость от боя еще не пришла в их молодые тела, и их сердца быстро успокоились и уже спокойно стучали, и они разговаривали как-то обыденно, как будто шли с полевых учений где-нибудь в России и увиденное, страшное, может, и тронуло душу, но сразу забылось – сами-то живы!
– Архип, – на ходу, засмеявшись, крикнул Тухачевский идущему сзади денщику, – приготовь помыться и поесть.
– И выпить не забудь! – так же весело добавил Глеб. – Ты, Михаил, где этого дурня нашел?
– Неужели не помнишь? На станции под Брестом пьяный с расквашенной мордой плясал, а потом напросился в денщики?
– А-а, это тот, что с оторванными пальцами? Ох и намаешься ты с ним.
– А я его предупредил: чуть что – отправлю в атаку, первым!
– По-моему, он, если ты ему такое прикажешь, быстрей убежит от тебя… Впрочем, у меня не лучше: лентяй, каких свет не видел.
Повезло в этом бою еще одному офицеру, немецкому майору, командиру полка Оскару Гинденбургу. Его даже не ранило. Он, когда спускался с поезда, ногу подвернул, и его отвезли в госпиталь, а его полк почти весь погиб от русских штыков. Майор, узнав, свечку поставил Богу и попросился в штабные офицеры. Макензен не возражал – хватит переживать: «убьют – не убьют?» Ему уже не нужен был сыночек великого Гинденбурга, он сам становился велик и перевел Оскара подальше от смерти – в штаб корпуса.
Главным героем боя под Таранавками стал Николай Ермолаевич Эверт – награды посыпались…
Любят их императорские величества армию, а лейб-гвардию особо – сами в ней полковниками состоят. Приказом Верховного главнокомандующего за проявленную храбрость в боях в Галиции Михаила Тухачевского представили к «Станиславу» 2-й степени с мечами и бантом, а Глеб Смирнитский получил «Анну» четвертой, и у него, как и у Тухачевского, появилась шашка с орденом на эфесе, красным темляком и надписью «За храбрость». Молодых офицеров, произвели в поручики и назначили на должности старших ротных заместителей – благо вакансии появились: гвардия шла в бой в первых рядах и погибала тоже первой. И отпуск предоставили на десять дней. Во время войны! Заслужили!
– Поедем, Глеб, со мной в Москву. Ты, я помню, не бывал в Москве. Да и договаривались же, – кричал радостно, узнав об отпуске, Тухачевский. – Поедем, Глеб?! – и стал обнимать друга, шепча на ухо: – В Москве сейчас так хорошо…
– Поедем, поедем, – ответил не менее радостный Глеб.
– Вот и отлично. И Москву посмотришь, и я тебя с родными познакомлю. Они тебя очень хотят увидеть – я им отписал, как ты мне жизнь спас.
– Полно, Михаил, как ты можешь? Мы же с тобой военные – люди присяги. Но только заедем к моим, в Варшаву. Ждут.
– Обязательно заедем. А потом сразу в Москву. Невесту тебе найдем! Не возражай!
– Москва! – мечтательно сказал Глеб. – Поехали, Михаил!
XVIII
В Варшаве слезы радости: Мария, тетка – плачет; Владислав, дядька – слезы утирает; девочки, Ядвига и Златка, вокруг панов офицеров скачут, таких красивых, таких мужественных, с орденами на необыкновенно красивой гвардейской форме.
Сентябрьские вечера в Польше теплые; сидели на веранде, чай с вареньем и наливочкой пили, а вопрос все крутился, да не задавался. Но на второй день, перед отъездом, Владислав Смирнитский с духом собрался и, улучив момент, когда женщины ушли в дом, спросил, заикаясь:
– Неужели… Варшаву отдадут?
– Вы о чем, дядюшка? – удивился Глеб.
– О Варшаве, племянник.
– Почему так грустно, пан Владислав? – тоже удивился Тухачевский. – Галиция наша, австрияки бегут, немец на два фронта долго воевать не сможет – выдохнется, да мы со своей стороны его придавим, и войне конец.
– Ну и дай-то Бог. А то все мои знакомые готовятся к приходу немцев. А я боюсь – что будет с моей семьей, если немцы придут?
– Не придут. Скорее, дядюшка, мы будем в Берлине… – успокаивал Глеб.
Михаилу Тухачевскому не сиделось, уже рвался домой, к родным, да и Глебу передалось это желание друга – очень хотелось побывать в Москве, в древней русской столице, в которой он раньше не бывал, хотя и родина его матери. Да и когда еще выпадет такая удача, и выпадет ли? Война.
– Скажи, Глеб, – тихо спросил племянника перед отъездом Владислав Смирнитский, – ты хочешь навестить своих родственников в Москве? Я тебе дам адрес.
– Нет, – прозвучал короткий ответ. – У меня нет родных в Москве. Все мои родные живут здесь, в этом доме.
Дядя Владислав всплакнул на плече у Глеба. Дядюшка становился старым, и его очень пугала война и связанная с ней неизвестность. Поляки знали о страшных поражениях русских в первый месяц войны и готовились к приходу немцев, которых ненавидели. Владислав Смирнитский боялся вдвойне – его племянник был русским офицером.
Ехали, смотрели в окно и удивлялись – всего-то два месяца войны прошло, а какая разительная перемена: да, еще орали, пили и плясали на полустанках, но как-то невесело, с оглядкой, с опаской – что там ждет впереди? По деревянным настилам станций уже катались на деревянных ящичках с колесами безногие инвалиды, звеня одинокими медалями, размазывая пьяные слезы по грязным опухшим лицам и прося, как подаяния, на водку. А в глазах дикая боль и злость: «За что?» И бросалось, бросалось в глаза: страх на лицах людей появился!
В Москве на вокзале бравурная музыка, шум большого города, люди, снующие туда-сюда, и никаких нищих и инвалидов. А сам город – как в праздник: желтый и багряный лист на деревьях, маковки многочисленных церквей золотым огнем играют, мягкость говора, красота русских женщин, выпирающее богатство, восхищенные взгляды прохожих.
Как и в семье Глеба, у Михаила встречать сбежалась вся многочисленная родня: родители, братья, сестра. Стол был накрыт по-русски, по-московски: трещал от наливок и закусок. В магазинах старой столицы было все. Да и Михаил свои офицерские деньги почти все отправлял родителям. А ведь в лейб-гвардии служил, где расходы офицеров превышали денежное довольствие в несколько раз. Война! Не до праздников, да и на фронте платили больше, да новое звание, да награды… А здесь, в тылу, деньги ой как нужны. По Москве было видно, по магазинам и ценам…
Пришла Нина – невысокая, стройная, красивая девушка с толстой русой косой. Подала руку Глебу:
– Нина Гриневич.
Из-под длинных ресниц на Глеба посмотрели необыкновенной красоты большие зеленые глаза. Глеб залился краской. Нина рассказала, как она после лекций в университете помогает вместе с подругами в госпитале. Расплакалась:
– Раненых очень много. Много удаляется рук и ног. Так их жалко, этих простых солдат. Им прямо в палатах медали и кресты вручают и отправляют домой. А они, как начальство уходит, ревут в голос, ругаются, просят пристрелить – куда они без рук, без ног, какой дом, как семью кормить? Потом напиваются. И где водку берут? И опять ревут и ругаются. Страшно все!.. Из госпиталя до вокзала их везут в закрытой машине и сразу несут в вагоны, чтобы глаза своим калечеством не мозолили и граждан не пугали. Потому-то на улицах их не встретишь – всех по деревням раскидали.
Молодые люди с орденами на мундирах как-то сникли – торжество встречи потускнело.
Мать Михаила Тухачевского Мавра Петровна встала из-за стола, рюмку подняла и сказала:
– Прекратите здесь страхи рассказывать и слезы лить. В моем доме радость – сын пусть ненадолго, но с войны вернулся, и это для меня праздник. И он – военный не в первом поколении, и все мы – жены и матери русских офицеров – будем всегда ждать их с войны и надеяться… и слышишь, будущая невестка… будем верить, что они никогда не изменят данной ими присяге служить царю и отечеству и вернутся целыми и невредимыми домой. С возвращением домой, Миша и Глеб! – Мавра Петровна залпом выпила рюмку и бросила ее на пол. Рюмка не разбилась. Мавра Петровна ударила по рюмке ногой – та рассыпалась на кусочки – Вот так! – крикнула. – Давайте веселиться!
Праздновали хорошо, как и полагается в русской офицерской семье…
Потом целыми днями гуляли по городу. А Москва такая красивая! В один из дней зашли вечером за Ниной в госпиталь, увидели сотни раненых солдат, почувствовали нестерпимый запах карболки, нашатыря и гноя, и сразу как-то и красота, и праздник уличный померкли. Молодым людям захотелось туда, на фронт, к своим солдатам, в бой.
Походили еще по Москве, полюбовались Кремлем, осенними бульварами, ломящимися от еды магазинами, заходили в рестораны, где посетители вставали и кричали «Ура!» при виде красавцев-офицеров с боевыми наградами на необычайно красивых лейб-гвардейских парадных мундирах. Особо нравилось входить под руку с боевыми офицерами Нине; она чувствовала, с какой завистью и даже ненавистью смотрят на нее женщины в ресторанах, и это ее не забавляло, она этому радовалась. Глеб все восхищался красотой московских девушек. Михаил отводил глаза – Нина, не скрываясь, ревновала.
Вот так же они пришли в последний день отпуска в ресторан недалеко от дома. Им выделили лучший столик, прислуживать прибежал сам директор ресторана, который все заискивающе лепетал: «Что угодно героям войны? Ах, какая у нас красивая армия. Вы гвардейцы? Да-да, о чем я говорю: ваша форма, погоны, ордена – сразу видно, что вы гвардейцы». Конечно, было приятно от этого всеобщего внимания.
А в дальнем, темном углу сидел седоватый мужчина в офицерском кителе без погон, с одиноким орденом Святого Станислава на груди. Мужчина пил водку и закусывал каким-то салатом; официанты старались его не замечать и пробегали мимо: столько господ офицеров с орденами и, главное, деньгами было в ресторане, а этого инвалида с трясущейся головой пускали из жалости – все-таки офицер, пусть даже бывший, но пострадал на войне. Мужчина пил и наливался злобой и, напившись, поднялся, пошатнулся – водка выплеснулась из рюмки – и стал кричать:
– Давайте выпьем за победителей над германцами под Гумбинненом! Кто выпьет с бывшим штабс-капитаном русской армии? Брезгуете? Ну тогда я один выпью! – выпил, упал на стул и заплакал. – Где она армия? Она там, в общих могилах лежит! А здесь кто? Выскочки, карьеристы, говенные штабники… Что вытаращились? Может, предложите стреляться? С удовольствием. Только ни одна сука не захочет получить от меня пулю в лоб. Дайте мне пистолет, я вас всех перестреляю!..
Пьяного сопротивляющегося мужчину в офицерском кителе без погон вывели из ресторана. Какой-то толстый, с золотой цепью на брюхе буржуа крикнул:
– Какого черта всю эту пьянь в приличные заведения пускают? Ну ранили на фронте, так что – мы виноваты?
– Заткнись! – зло крикнул Михаил Тухачевский. – А то точно получишь пулю в лоб!
Праздник был испорчен. Из ресторана уходили расстроенные, и уже больше ничего не хотелось здесь, в Москве, а хотелось туда, на фронт, к своим боевым товарищам.
На прощание семья Тухачевских подарила Глебу красивый кожаный офицерский баул – подарок за спасенную жизнь сына. Отказываться было неудобно. Четыре дня пролетели, и молодые люди в сопровождении плачущих родителей Тухачевского и Нины поехали на вокзал.
А на вокзале, в тупике, подальше от людских глаз, выгружали из вагонов новые окровавленные обрубки русских солдат…
XIX
На фронте наступило затишье – немцы молотили французов, австрияки и русские зализывали раны поражений. Семеновский полк после Галиции вместе с армией генерала Эверта отошел, как считалось, на отдых. Командир гвардейского полка Эттер отдыхал – похаживал по тайным увеселительным мероприятиям. Отдыхал сменивший Самсонова после смерти новый командующий 2-й армией генерал от кавалерии Сергей Михайлович Шейдеман; отдыхал и новый командующий Северо-Западным фронтом генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский, награжденный царем за взятие Львова сразу аж двумя «Георгиями» и назначенный главнокомандующим фронтом вместо Жилинского! Ну хоть кого-то царь любил! Рузский по привычке, как улитка, в скорлупку завернулся: не трогайте, все хорошо, немец свое получил, австрияк получил, зачем наступать… Галиция всех расслабила. Забылся разгром 1-й и 2-й армий. Забылись десятки тысяч погибших. А раненые, что были отправлены в тыл и, возможно, там умерли, аж это уже не боевые потери! Русские бабы еще народят! Правда, страх перед немцами появился – и у солдат, и у офицеров, и у командующих армиями и фронтами, и у Верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича Романова… Немец спесь-то со многих посбивал! Виновного в поражениях нашли: главнокомандующего фронтом Жилинского отправили… в советники в том же звании и с тем же жалованьем.
И в это сонное время за каменными стенами небольшого дома в Барановичах, в Ставке, вдруг стали поругиваться главнокомандующий Северо-Западным фронтом Николай Владимирович Рузский с таким же главнокомандующим, только Юго-Западным фронтом, Николаем Иудовичем Ивановым. И слов не выбирали, да таких, что Верховный, великий князь Николай Романов, сам большой любитель «прямоты» в своей речи, только голову поворачивал от одного к другому – даже рот приоткрыл в удивлении. В Ставке находились в этот момент сразу три генерала – единственные, кто был награжден тремя «Георгиями», и все Николаи. Хоть загадывай! Так что каждый считал себя лучшим. Особенно Рузский… за особую любовь к нему императора.
Сейчас они ругались из-за Варшавы. Рузский всегда был трусом, причем трусом наглым, и во всех своих трусливых просчетах и ошибках он находил виновных. Всегда! Наверное, тем и нравился императору?
– Зачем нам Варшава? – кричал Рузский. – Да пусть ее немец забирает. Или поляки пусть сами ее и защищают.
– Ваше высочество, что такое говорит Николай Владимирович? Он что, не понимает: если мы отдадим Варшаву немцам, мы фактически проиграли войну? Да и как мы сможем наступать в Галиции, если Варшавы не будет? – возражал Иванов.
– Варшава – не Петроград и не Москва. Пусть Гинденбург увязнет в Варшаве, а мы со стороны Ивангорода и Новогеоргиевска потом ударим ему во фланги, – продолжал настаивать Рузский.
– Какие фланги? Варшава – крупнейший в Европе железнодорожный узел. Да если немец ее возьмет – мы до Петрограда раком пятиться будем, – кричал Иванов.
Иванов был и посмелее, и поумнее Рузского, не зря же поговаривали, что он был сыном то ли кантониста, то ли ссыльнокаторжного. Иванова поддержал и его начальник штаба фронта Михаил Алексеев:
– Ваше величество, если Варшаву сдать, мы из-за возможного удара немцами нам в фланг покатимся и сдадим австрийцам всю Галицию. И если только Галицию!..
– Тогда, ваше высочество, я умываю руки. Если так угодно, то пусть Николай Иудович и берет на себя всю ответственность за операцию по защите Варшавы, – выдал уже заготовленный ответ Рузский. Ему этого и надо было. Он всегда находил виноватых. Талант у него был такой.
Великий князь задумался, но ненадолго. Голова у Верховного была.
– Варшава – это не просто столица Царства Польского, это форпост нашей империи. Отдать Варшаву – проиграть войну! – проговорил Романов. – Я согласен с Николаем Иудовичем и назначаю его ответственным за защиту Варшавы. Но прошу, Николай Иудович, отдайте вторую и пятую армии Николаю Владимировичу. Как же он будет воевать без армий? У вас все-таки армия генерала Эверта остается.
Коля Лукавый был русским офицером и не трусом и за место Верховного не держался – он любил правду говорить: что думал, то и говорил. Лучше бы прежде думал.
Рузский своего добился – виновный, если что, найден. Решение было принято, и на фронте опять наступила тишина. Генерал Эверт же не знал, что его армия стала ответственной за Варшаву. Он спал!
Не отдыхал только уже генерал-полковник и уже командующий Восточным фронтом Пауль фон Гинденбург.
– Эрих, – сказал он своему начальнику штаба Людендорфу, – Русские считают, что у нас ничья? Они и в битве при Бородине считали, что Наполеон не выиграл, а сами потеряли половину армии и сдали Москву. Так что давай-ка поставим им шах и мат! Поехал я в генштаб.
Его авторитет был уже непререкаем, и он, договорившись в Германском полевом генштабе, забрал корпуса с Западного фронта, создал новую армию под командованием все того же Августа Макензена и ударил в стык русских фронтов по армии спящего генерала Эверта. И этого удара никто не ожидал и об этой армии никто в русской Ставке не ведал! И побежала армия к Варшаве. Немец с такой дисциплиной и с такой яростью ударил по русским дивизиям, что в считанные дни оказался перед мостами через Вислу. Армия русская, не научившись воевать, научилась бегать, особенно ее командующие.
Рузский кричал в Ставке:
– Я говорил, я предупреждал! Во всем виноваты командующий Ренненкампф и… этот новый командующий 2-й армией Шейдеман. Еще один немец на нашу русскую голову! Всех их надо выгнать! Если не будет принято мер, я буду жаловаться императору!
И ведь жаловался! Еще как жаловался – Ренненкампфа с Шейдеманом с постов сняли! Да и великий князь Николай Николаевич был известный германофоб. А их императорское величество, как известно, сильным характером никогда не отличался.
Преградой для прорыва немцев в город могли стать Висла и варшавские форты. Когда в Ставке об этом заговорил Верховный, Рузский замахал руками:
– Вы о чем, ваше высочество? Какие форты? Их давно уж нет, разрушились от времени. Да и чем защищать?
– Так вам же, Николай Владимирович, две армии отданы? Вот их и надо бросить в бой.
– Что вы, что вы, ваше высочество, они не готовы… да и бегут, ах, как бегут – удержать невозможно.
– И что же тогда делать?
– А я говорил: надо сдать Варшаву.
– Но… как сдать? Это же Варшава. Понимаете вы или нет – Варшава?!
– Понимаю. Но не я ответственный за Варшаву, а Николай Иудович. Вот пусть он и отвечает.
– Надо будет, отвечу, – сказал Иванов, а сам побледнел. Он в этой ситуации не хотел отвечать.
– Объясните: что все это значит? – спросил Романов. – Вы же говорили, что на варшавском направлении у немцев свежих сил нет. Все на Западном фронте. Откуда тогда это наступление?
– Не знаем! – ответили честно русские генералы.
– И что прикажете делать?
– Сдать Варшаву, – ответил Рузский.
– Остановить бегущих и драться, – ответил Иванов.
– Господи, Гинденбург опять нас провел, – прошептал Верховный главнокомандующий и вдруг зло крикнул: – Ваши высокопревосходительства, пойдите отсюда вон! Запомните: если сдадите Варшаву, я сам, лично, сорву с вас погоны, и пусть после этого государь выгонит меня из армии, но я это сделаю! Клянусь! Даю вам два дня, чтобы остановить бегство армии! Не остановите – можете стреляться, как Самсонов!
Генералы выбежали из кабинета. Рузский шипел: «Сравнил меня с Самсоновым?! Стреляйтесь! Ишь чего захотел, чтобы я отвечал за чужие промахи… Дудки – пусть Иванов с Эвертом и отвечают. А я подожду, что да как получится. Известно же: пришедший на поле боя последним, всегда выигрывает – главный закон войны».
Казалось, варшавские форты существовали всегда, как всегда существовала для Варшавы возможность нападения германцев на этот польский город. И именно по левому берегу Вислы были построены эти форты – прекрасные военные сооружения с толстенными стенами, арочными переходами, пакгаузами, смотровыми площадками и подвалами. Даже для тяжелых орудий этой, технически революционной мировой войны форты оставались сильной крепостью, защищавшей город и мосты через Вислу.
Лучшие погибают первыми! Семеновский полк уже не дробили – слишком велики были потери в полку: за три месяца войны погибла треть состава. Для пополнения наспех отбирали уже не на мобилизационных комиссиях, а в запасных частях: тех, кто отличился храбростью, смекалкой, но и ростом и национальностью подходил; брали только русских. И все равно гвардия гибла.