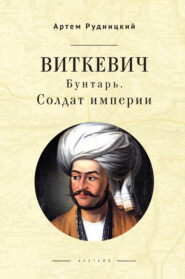скачать книгу бесплатно
В Виленском университете были организованы общества филоматов, филаретов, «лучистых»[43 - Филоматы – любители науки, филареты – любители добродетели (греч.). Члены общества «лучистых» верили в то, что просвещение будет распространяться подобно тому, как солнце распространяет свет и тепло своими лучами.] и множество других патриотических и просветительских объединений. Они проповедовали любовь к науке, добродетели, но также распространяли революционные идеи. В этих обществах, в числе других интеллектуалов и литераторов, состояли Адам Мицкевич и Томаш Зан.
Строки из «Песни филаретов» Мицкевича:
Учились мы, признаться,
Не для того, чтоб гнить,
Но как римляне драться,
Как греки петь и пить.
………………………………..
Где есть в сердцах отвага,
Где циркуль – мысль, масштаб —
Общественное благо,
Там человек не слаб[44 - Сочинения А. Мицкевича. СПб, 1882. С. 206.].
Власти приступили к искоренению «образовательной фронды» после того как з мая 1823 года, в годовщину польской конституции[45 - Имеется в виду конституция Польши з мая 1791 года.], ученик пятого класса Виленской гимназии М. Платтер мелом написал на доске: «Нынче 3 мая». Два других ученика добавили: «О, сладостное воспоминание!», «Да некому помочь» [46 - Вильна 1823–1824. Перекрестки памяти. Иоахим Лелевель. Новосильцев в Вильне. Иван Лобойко. Мои воспоминания. Минск, 2008. С. 22.]. Платтера и его одноклассников отдали в солдаты, всю губернию захлестнула волна арестов.
В сентябре 1823 года филоматы, филареты и «лучистые» были разоблачены и преданы суду. Это был крупнейший студенческий политический процесс в Европе того времени. Двадцать человек приговорили к тюремному заключению или ссылке. Случившееся можно было квалифицировать как «преднамеренное и циничное удушение Виленского университета, центра науки и культуры», «жестокую расправу с лучшими из его студентов»[47 - Ю. Снежко. Рец. на книгу «Перекрестки памяти. Вильна 1823–1824» //http://www.literatura.fif.vu.lt/wp-content/uploads/2011/11/ Lit_50_2_116.pdf.].
Взяли Соболевского, который принадлежал к обществу филоматов. В виленской тюрьме он оказался в компании со своими единомышленниками – Адамом Мицкевичем, Антонием Фриендом, Адольфом Гедройцем, Адамом Сузиным и другими вольнодумцами.
Известие об аресте любимого учителя всколыхнуло учеников крожской гимназии. До той поры они ограничивались чтением запрещенной литературы и стихов «возмутительного содержания», теперь же решили перейти к активным действиям, чтобы растормошить полусонный городишко.
«Крожи, крохотный городок с полутора тысячами жителей, затерялся в медвежьем углу Литвы. Но, тем не менее, гимназисты – все горячие польские патриоты – с неослабным вниманием следили за тем, что происходило в Польше, и были охвачены страстным стремлением к возрождению Речи Посполитой – свободной, сильной, славной…»[48 - М. Гус. Дуэль в Кабуле. С. 8.].
Вдохновителем и главным организатором общества «Черные братья» был Янчевский, прежде учившийся в ковенской гимназии, где преподавал Мицкевич. Ян Виткевич был его ближайшим помощником. Правда, польский историк Генрик Мосцицкий лидерство приписывал именно ему и считал, что «Черные братья» возникли еще до переезда Янчевского в Крожи[49 - W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 19–20.].
У этой организации не было четкой программы, не было устава. Главная задача заключалась в освобождении Соболевского и других заключенных, проходивших по виленскому делу. Подростки сознавали, что им не уйти от кары, но это и было их целью. Наивный расчет заключался в том, что «чем больше будет виноватых, тем меньше будет наказание»[50 - Ibid. S. 19.], чем больше будет узников в тюрьмах, тем сложнее будет правительству продолжать политику подавления инакомыслящих, придется смягчать репрессивные меры, улучшать положение политзаключенных и т. д. Кроме того, гимназический бунт являлся выражением солидарности со старшими товарищами, брошенными в тюрьмы.
Начали с распространения «подрывных» стихотворений, которые сочиняли Янчевский, Зеленович и Виткевич.
Стихотворение Виткевича[51 - Оригинальный польский текст:INiech jednosc miedzy nami scisle dochowanaStanie sie j uz grobowcem podlego tyrana.IIWolnosci ulubiona, drogi niebios darze,Czemuz cie Bogu zlozyc nie mozna w oh arze.IIIDzis sie skonczy wladza i to panowanie,Dzis sie wszystko odmieni, wolny rzad nastanie.]:
I
Пусть крепнет наше единство,
Оно несет смерть подлому тирану.
II
Возлюбим свободу, бесценный дар небес,
Ради этого всем можно пожертвовать.
III
Сегодня все кончится, и рухнет власть,
Все переменится, наступит свобода[52 - W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 19. Перевод с польского автора настоящего исследования.].
Было подготовлено воззвание к гражданам, которое также сочинил Виткевич:
«К свободе, братья, к свободе! Не покоряйтесь варварам, пусть они вам покорятся… В юношестве польском еще отзывается дух свободы, который не погаснет вовеки; в нем играет еще Костюшкина кровь. Крожское юношество! Да возбудится в тебе дух свободы! Пожертвуйте, братья, собою для завоевания свободы, умоляю вас во имя отчизны! Будьте же готовы прийти к нам на помощь, когда ее потребуем, а письма эти распространяйте между лучшими, храня полную тайну. Да здравствует конституция и ее могущественная сила – свобода, единство, независимость! Да живет в веках Польша!»[53 - М. Гус. Дуэль в Кабуле. С. 24.].
Еще одно воззвание Виткевич адресовал непосредственно директору гимназии:
«Высокомыслящий пан директор! Дело, в котором народ ждет от тебя помощи, таково: ты знаешь состояние политических обстоятельств и потому можешь знать, чего требует отечество от своих сынов. От особы твоей мы больше ничего не требуем, как только не препятствовать нам, когда мы употребим в дело несколько десятков вверенных тебе юношей. Не разрывай уз единства, не откажи в своей помощи, почтенный муж, но действуй с осторожностью и в тайне. Народ вопиет из глубины пропасти. Разврат, нега и попрание прав есть гибель его. А деспотизм и неволя – наказание тем, кто не радеет о его свободе. Дело свое мы предпринимаем, руководствуясь правотою совести. Мы не боимся, хотя и знаем, что обнаженное оружие сеет страх и смерть»[54 - Там же. С. 25.].
Утром 28 ноября 1823 года «Черные братья» подбросили письма с призывами к борьбе и соответствующими заявлениями директору, некоторым учителям, одноклассникам и горожанам. Нужно ли удивляться, что эти бумаги сразу оказались в распоряжении властей. Среди тех, кто поспешил сообщить о них «кому надо», были Довят и четверо учеников. Подобная расторопность не осталась незамеченной. 21 января сенатор Новосильцев распорядился наградить директора орденом Святого Владимира IV класса, а доносчиков-учеников – серебряными медалями «За усердие и верность».
Если авторы писем хотели достигнуть своей главной цели, то они этого добились только частично. Их взяли под стражу, доставили в Вильно и предали военному суду под председательством генерала Григория Владимировича Розена, командующего 1 пехотным корпусом. Таким образом, число арестованных было преумножено, но никого из застенков не выпустили, и никакого смягчения наказания не произошло. «Черные братья» испытали это на себе.
«Литовский террор» 1823–1824 годов подробно описал Иоахим Лелевель, знаменитый польский историк, преподававший в Виленском университете и впоследствии сделавшийся героем ноябрьского восстания. «Война с детьми» – так он охарактеризовал эти репрессии[55 - Вильна 1823–1824. Перекрестки памяти. С. 4.]. Следственная комиссия, возглавленная Новосильцевым, «проявила невероятную жестокость в борьбе с подозреваемыми, значительная часть которых не достигла еще и двадцати лет, а многие были гимназистами. Подростков и юношей подвергли аресту, унизительным допросам, иногда с применением пыток»[56 - Там же.].
Даже на фоне расправы со студентами Виленского университета, пишет В. А. Шкерин, приговор гимназистам представлялся чрезмерно суровым[57 - В. А. Шкерин. Ян Виткевич и Оренбургский губернатор Василий Перовский. С. 131.]. Виткевича и Янчевского осудили на смертную казнь[58 - В. А. Шкерин ошибается, указывая, что смертниками были Янчевский и Зеленович.], замененную потом решением цесаревича заточением в Бобруйской крепости и «на работы бессрочно, с заковкой в цепи»[59 - Записки Песляка. С. 577.]. Предполагалось, что это наказание продлится десять лет, после чего арестантов отправят служить солдатами в Оренбургский край. С поражением в правах, естественно.
Но затем Виткевичу, как самому юному среди «преступников», вторично сделали «поблажку», позволив приступить к несению солдатской службы незамедлительно. Его, Песляка, Ивашкевича и Сухотского определили рядовыми без права выслуги в батальоны Отдельного Оренбургского корпуса. Яна зачислили в 5-й линейный батальон в Орской крепости, а товарищей разослали по другим крепостям: Песляка – в Верхнеуральскую, Ивашкевича – в Троицкую, Сухотского – в Звериноголовскую.
Из приговора: «Означенный Виткевич со времени нахождения своего в Крожском училище принадлежал к тайному студенческому обществу под названием “Черных братьев”, имевших предположение возмущать во всех училищах учеников распространением составляемых ими на сей предмет сочинений, и что Виткевич, как один из учредителей того общества, по конфирмации Его императорского высочества цесаревича 26 февраля 1824 года отослан на Оренбургскую линию для определения в тамошний гарнизон без выслуги в рядовые»[60 - ГА РФ. Ф. 109,1829, оп. 53, д. 76, л. 10-1006.].
Власти устроили торжественную и мрачную церемонию, не вечером или ночью, а утром, рассчитывая на массовое присутствие публики. Смысл легко угадывался: в назидание местному обществу показать, что ждет инакомыслящих, даже несовершеннолетних. Чтобы проводить мальчиков, в Вильно приехали родные, друзья, пришли многие горожане, надеясь тем самым оказать молчаливую поддержку несчастным. Многие плакали. С явным намерением усилить страдания арестантов, телеги, на которые их должны были усадить, поставили в полутораста метрах от входа в тюрьму. Мальчикам, еще не привыкшим к кандалам, каждый шаг давался с болью[61 - W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 29–30.].
В полицейском рапорте указывалось: «…в u утра высланы… Виткевич, Песляк, Сухотский и Ивашкевич… провожавших было еще больше, чем несколькими часами ранее, когда отправляли Янчевского и Зеленовича. Высылка осужденных прошла без нарушения порядка, в полном спокойствии. Преступники во время отправления и заковывания в кандалы не проявили ни малейшего возмущения, всецело примирившись с выпавшей на их долю участью. На лицах провожавших читалось сочувствие…»[62 - Janusz Federik. Szalony plan wyzwolenia Polski. S. 22.]
До Москвы осужденных везли на телегах, а оттуда погнали своим ходом, по этапу, заставляя делать от 20 до 40 верст в день. Правда, после каждых двух дней пути полагался день отдыха. В Оренбург они добрались только в октябре.
По-разному сложились их судьбы. Через девять месяцев после вынесения приговора Зеленович, «не вынеся нравственных и физических страданий, сошел с ума и в таком жалком положении умер, не придя в сознание даже перед смертью». Так об этом написал Песляк, единственный из всей «шестерки» оставивший после себя воспоминания[63 - Записки Песляка. С. 584.]. Он же поведал о судьбе Янчевского. Циприана освободили от каторжных работ, и в качестве рядового он принял участие в турецкой кампании 1828–1829 годов. Отличился в боях, за храбрость был произведен в унтер-офицеры. Интересно, что Циприан проявил еще большую доблесть во время подавления польского восстания 1830–1831 годов, и это принесло ему офицерский чин. Такая вот метаморфоза произошла с бывшим «карбонарием». Закончил он свою карьеру предводителем дворянства в Щавельском уезде[64 - Там же. С. 578.].
Трагична судьба Сухотского, который застрелился 29 декабря 1829 года – когда ему отказали в производстве в унтер-офицеры и в переводе в действующую армию.
Ивашкевич и Виткевич выдержали испытание солдатчиной и, в конце концов, получили офицерские чины. Но путь к этому вел очень тяжелый…
События 1823–1824 годов, связанные с делом «Черных братьев», повлияли на всю последующую жизнь Яна. Расплата за юношеское вольнодумство оказалась чудовищной, и он полностью так никогда и не оправился от пережитого потрясения, спровоцировавшего сильнейший психологический надлом. В нем теперь трудно было узнать милого, прекраснодушного, романтически настроенного подростка. В душе Яна пустили ростки ожесточенность, цинизм и безнадежность, исключавшие прежний идеализм и прекраснодушные мечты.
Милосердие подполковника Яновского
Итак, в солдаты навечно, без выслуги, с лишением дворянства… Неужели на этом жизнь кончена? Николаевская эпоха – апогей самодержавия, торжество официальной народности и тотального государственного контроля. «Чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, – писал М. Ю. Лермонтов, – надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надо было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу…».
Беда Виткевича заключалась в том, что в свои ранние годы он эту привычку приобрести не успел. На что теперь мог рассчитывать бесправный солдат?
Благодаря Песляку мы знаем, что пришлось вынести недавним гимназистам. Из комфортной, сытой жизни, с мамами, папами и прочими любящими родственниками – «в неведомую, совершенно дикую по нашим понятиям страну»[65 - Там же. С. 578.]. Для начала пройти по этапу около двух с половиной тысяч километров – шутка ли сказать! «К месту назначения мы следовали закованными в тяжелые пудовые цепи, причинявшие нам в пути жестокие мучения, как от непривычки носить и справляться с ними, так и от чрезмерной для наших слабых сил тяжести, дававшей себя чувствовать во время больших переходов по этапам». Прибыв на место, юноши быстро поняли, что тянуть солдатскую лямку им придется в очень тяжелых условиях. «К нам, по исполнении разных формальностей и по размещении в назначенные батальоны, приставлены для надзора солдаты и унтер-офицеры. В числе других карательных мер последовало запрещение всякой переписки – даже с родными, и вообще иметь с ними какое-либо сношение, а также и знакомиться с кем бы то ни было. Одним словом, можно сказать, что тогдашняя крайне строгая военная дисциплина была применена к нам в полной мере и нас держали под самым строгим надзором»[66 - Там же.].
Еще фрагмент из записок Песляка:
«При исполнении военных служебных обязанностей мне приходилось выстаивать в суточных караулах по з часа, нередко при морозе в тридцать градусов, попеременно с товарищами, после чего я снова посылался в ночной караул, который и выстаивал, прикрывшись одной только солдатской шинелью»[67 - Там же. С. 579.].
Страдания усугублялись издевательствами и преследованиями обычных солдат, не ссыльных. Они называли Песляка «безмозглым полячишкой» и «безмозглым фармазоном». Бывало, когда юноша, проведя «утомительные часы караульной службы и дождавшись очередной смены, утомленный нравственно и физически», буквально падал от изнеможения и истощения и находил себе «приют под лавкою», его сон прерывался «грубым толчком ногою в бок и раздавался грубый и сердитый голос: “Убирайся безмозглый фармазон, я лягу тут!”»[68 - Там же. С. 580.].
Аналогичные издевательства и преследования испытывали другие ссыльные.
Полфёров, хоть и напутавший немало в биографии Виткевича, мучения, выпавшие на его долю, передал весьма образно и близко к истине: «Седой поручик Сеньков, вышедший из рядовых, свирепо посматривал на своих учеников и искал нового случая “свернуть салазки”, как он выражался про свой излюбленный метод обучения солдат.
– Эй, ты, госпожа Польша, мечтаешь?.. Про родную сторонку изволили вспомнить… Слышь, какой артикул я приказал!..
Этот грубый окрик был адресован молодому солдату, очень стройному, с тонкими чертами лица, не измененными ни сильным загаром, ни толстым слоем пыли. Он машинально слушал команду, машинально проделывал все то, что делал его сосед по фронту. В серых глазах отражалось тяжкое горе, и невольно все солдаты старались выразить ему свое сочувствие, чем еще больше бередили раны товарища».
Он «в грязной солдатской рубахе, в тяжелых сапогах марширует по пыльному плацу далекой степи, выслушивая грубые окрики поручика. Хорошо еще, что в отношении его положен известный предел в оскорблении: “словесно, кроме матерных слов, можешь журить, но лица касаться не смей”, – гласил приказ коменданта крепости.
…– Эх… так бы и свернул салазки этому полячишке, – не раз злобно ворчал поручик, видя, как Виткевич путал команду и “портил фронт”»[69 - Я. Я. Полфёров. Предатель. С. 498.].
А «полячишке» только минуло 16 лет. Подросток, с неокрепшей психикой, по которой словно кувалдой молотили жуткие стрессы: арест, суд, издевательства, переход по этапу в Сибирь, изнуряющие батальонные будни… Вдобавок пришло трагическое известие из дома – умер отец. Разумеется, никто солдатика на похороны и не думал отпускать. Много чести заговорщику…
Бух уверял, что в Оренбургском крае Ян «всегда жил беззаботно и ни в чем себе не отказывал», что родители его, имея «хорошие средства», всем его обеспечивали[70 - К. А. Бух. Воспоминания, л. 12.]. Насколько это соответствовало действительности? Виткевич не был лишен родительской поддержки, но ее размеры варьировались в зависимости от конкретной ситуации и характера отношений «государственного преступника» с семьей, весьма, надо сказать, изменчивых. Оптимистичное и, пожалуй, некоторым образом завистливое утверждение Буха далеко не во всем подтверждается документальными свидетельствами.
Константин Андреевич не был свидетелем того, что пришлось пережить его другу сразу после прибытия в Орск. Тогда Яну отчаянно хотелось хоть у кого-то найти поддержку, защиту, услышать доброе слово. Наверное, поэтому он с таким доверием отнесся к командиру Орского батальона подполковнику Александру Андреевичу Яновскому, который вроде бы сжалился над пареньком и взялся облегчить его участь.
Ян донельзя обрадовался тому, что старший офицер (да еще какой, самый главный в Орске!) проникся его проблемами, проявил сострадание. Но вскоре выяснилось, что надежды зряшные. Расположение Яновского обернулось для Виткевича еще одним тяжелым испытанием.
Обыкновенно историки и литераторы если и вспоминают о Яновском, то как об исключительно порядочном человеке, который помог ссыльному вынести тяготы солдатского существования. Примерно так рассказывает в «Дипломатическом агенте» Юлиан Семенов – мол, благородный, добрый и интеллигентный наставник, да еще сочувствовавший «борцам за свободу». Встречались же такие среди царских держиморд!
Батальонный командир приветил юношу, поселил у себя в доме, вел с ним умные беседы, в том числе на французском и английском языках. Более того, как уверял писатель, подполковник способствовал тайной переписке Яна с другими вольнодумцами, с декабристами, а еще прикрывал его побег! Будто бы Виткевич бежал в Бухару, где уже тогда (то есть не позднее 1829 года, к концу которого Яновскому пришлось покинуть Орск) он столкнулся с английским разведчиком и путешественником Александром Бернсом. Будто бы Яновский обманывал прибывшего из Тобольска жандармского полковника Маслова, говорил, что понадобившийся ему солдат заболел холерой и находится на излечении в лазарете. Поэтому, когда Ян вернулся (в Бухаре все как-то не задалось), то смог без проблем возобновить службу в батальоне. И так они после этого сдружились с Яновским, что при расставании чуть ли не рыдали.
Вся эта история – плод воображения литератора. Виткевич о побеге в те годы, если и помышлял (какой ссыльный или заключенный о нем не помышляет), то по-настоящему к нему не готовился, возможности для этого у него появятся позже. Вдобавок юноша был безумно влюблен в супругу подполковника, Анну Яновскую, и для него это являлось серьезное причиной не покидать Орск.
В Бухаре Виткевич впервые оказался только через несколько лет, и нет никаких доказательств тому, что виделся там с Бернсом. Теоретически такое могло случиться (англичанин наведался в Бухару в 1832 году), однако еще раз повторим: ничем не подтверждается, что тогда же там появился Ян. Документально необоснованны и предположения о том, что подполковник Яновский преступал закон, выгораживал своего солдата, помогал его сношениям с декабристами и пр.
С романиста какой спрос – он имеет право на вымысел, но не следует воспринимать придуманное им как нечто имевшее место в действительности. Однако такое случается, особенно если романист талантлив. Вот и Евсевицкий, попав под влияние умелой прозы, расхваливал Яновского[71 - W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 52, 56–57.], хотя имел доступ к архивным материалам, говорившим не в пользу этого офицера.
В двух случаях Семенов не погрешил против истины.
Во-первых, описывая нежное чувство, которое сблизило юного солдата и двадцатилетнюю Анну Михайловну Яновскую. Отмечаем это с такой уверенностью, поскольку сохранились свидетельства современников о любовной интриге Виткевича. Зан упоминал сей факт в одном из писем Мицкевичу, а Бух – в своих воспоминаниях[72 - К. А. Бух. Воспоминания, л. 55.].
Константин Андреевич писал, что Виткевич, обладая привлекательной наружностью, приглянулся молодой жене командира батальона, стал частым гостем в доме Яновских и вскоре снял там комнату. «Достаточный и очень красивый при том мальчик понравился молодой жене батальонного командира, и она приютила его у себя в доме, находя, вероятно, небезвыгодно иметь такого постояльца»[73 - Там же, л. 12.].
На то, что Ян был хорош собой, обращали внимание многие из тех, кто его знал, не только русские, но и персы и афганцы. С некоторыми высказываниями на этот счет мы еще познакомимся. Не удивительно, что женщинам Виткевич нравился, и Анна Яновская, по всей видимости, стала его первым романтическим увлечением. Впрочем, омраченным мало приятными «привходящими обстоятельствами».
Бух приехал в Оренбургский край в 1833 году, когда сердечная привязанность Виткевича стала уже делом прошлого, но, подчеркнем, недавнего прошлого, причем достаточно скандального. Слухи о разыгравшихся в Орске событиях в 1828–1829 годах гуляли по всему Оренбуржью, охочие до сплетен провинциалы с наслаждением перемывали косточки участникам этих событий, и вряд ли за несколько лет все быльем поросло. Наверняка Бух многого наслушался от любителей посудачить. Да и Виткевич мог с ним кое-чем поделиться.
Во-вторых, Семенов не выдумывал, когда писал, что Яновский был мил с Виткевичем. Верно, мил. Но не только по доброте душевной.
Обратим внимание на то, как Бух охарактеризовал Виткевича: «достаточный и очень красивый при том мальчик».
Ключевое слово здесь «достаточный», то есть с достатком, состоятельный, и на это могли обратить внимание оба супруга Яновские. Деньги Виткевичу присылали по местным меркам немалые, отчего было этим не воспользоваться? Паренек юный, неопытный в житейских делах, и обвести его вокруг пальца было не так-то сложно.
В 1828 году III Отделение собственной его императорского величества канцелярии сформировало следственное дело, озаглавленное следующим образом: «О поступках рядового Орского гарнизонного батальона Виткевича и командира оного батальона подполковника Яновского, подозреваемых в стачке между собой для того, чтобы выманить деньги у матери Виткевича»[74 - ГА РФ, ф. 109,1829, оп. 53, д. 76.]. В «стачке», то есть в сговоре. Из документов этого дела, которое хранится в ГА РФ, явствует, что Александр Андреевич альтруистом не был и руководствовался корыстолюбивыми интересами.
Скорее всего, он изначально намеревался, воспользовавшись наивностью юноши, поживиться за его счет. Выяснил, что тот принадлежал к семье пусть не особенно богатой, но с достатком и имел право на некоторую недвижимость и денежные средства. Отец отписал детям половину всего своего имущества, на часть которого мог претендовать Ян. А по завещанию бабушки он становился обладателем солидного капитала в 30 тысяч рублей золотом.
Ничего удивительного в том, что Виткевич нуждался в деньгах – чтобы покупать нормальную еду, платить за жилье и вообще, скрасить свое убогое существование. Но деньги шли не только на это…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: