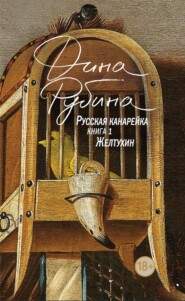скачать книгу бесплатно
По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры в бельэтаже трубный рев Большого Этингера:
– Вступай на «раз и два и»! Не тяни! Это ж уму нерастяжимо! Виолончель в твоих руках – как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. – И далее – мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.
* * *
Но, между прочим, недурной вышел ансамбль – «Дуэт-Этингер»: что ни говорите – отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы…
Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещенье пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу – Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, – заслужив аплодисменты искушенных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.
Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертировали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал, каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии – когда приключилась эта беда.
Никто из тех, кто знавал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста, – никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.
А Яша переменился внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глузду зъихав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылкую ахинею о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная кокотка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.
– Кого?! – кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. – Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!
Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого респектабельного борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»
Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво бренчало фортепьяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:
В Одессу морем я плыла на пароходе раз…
Или:
Меня мужчины очень лю-у-убят,
Забыла я победам счет,
Меня ласкают и голу-у-бят,
В блаженстве жизнь моя течет…
Заблуждению по поводу Яшиных отлучек поддалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.
– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»
Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:
Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-у-ра позволяет…
Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!
Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Стешей именовалась «жаждой социальной справедливости» – во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».
Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров – в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» – наведался пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.
Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Полюбуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу – столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибился к босо?те и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!
– Вообразите, на Молдаванке, на Виноградной, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!
– На… на манекенах?
– Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился вытащить портмоне, не зазвенев, – получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович…
Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как на анархистов имеется предписание, а служебный долг – он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оскарович…
Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретение), ублажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что…
Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).
Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.
И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовой рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.
Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна:
– Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!
Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша – ни пуха, ни праха! – бесшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Стешка!), из денег прихватив только семейную реликвию – «белый червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли на серебро 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мицву.
В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищъ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами “Вольной коммуны”», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».
Словом, «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».
Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы пригождаются нелепые излияния вашего непутевого сына.
Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..
И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное – тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.
Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?
А ведь и правда: спустя всего несколько лет охотников поживиться имуществом «буржуев» Этингеров встречала на пороге рослая Стеша с льняной косой вкруг головы и, подбоченившись, выставив перед собой пресловутый листок с уже известной фамилией, зычным, шершавым, не своим голосом покрикивала: «А ну, кто тут посмелей – грабануть дом Якова Михайлова?»
Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.
В доме воцарилась угрюмая тишина, в которой тягучие, взахлеб, рыдания Доры (Яша был ее любимцем) причудливо вторили разбитному треньканью и вечерним призывам «девочки, в залу!», кружили по двору над деревянной галереей, над цистерной для дождевой воды, гулко аукались под низкой сводчатой подворотней и сквозь вензеля чугунной решетки ворот уносились прочь – на улицу, чтоб безнадежно угасать там, в кроне старой акации.
2
«Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-жиу-вжик!» – сумасшедшие хрущи прошивали воздух вспышками бронзовых крыльев.
Уже заполнялись дачи Большого, Малого и Среднего Фонтанов, уже двинулись туда поездами парового трамвая (в народе прозванного «Ванька Головатый») и вагонами конки толпы гуляющих; уже в павильонах Куяльницкого и Хаджибейского лиманов приезжие и местные курортники погружали в «грязевыя и рапныя ванны» свои обширные зады, обтянутые полосатыми купальными костюмами.
Уже расцвели огромными медными лютиками вынесенные на террасы граммофоны, изливая где рулады Карузо, где страстный вой цыганского романса, а где забубенный тенорок популярного куплетиста. Уже варили в огромных тазах варенье по садам; веселые и праздные дачники уже репетировали домашние спектакли, а над купальнями витал задорный женский визг да скабрезно похохатывали ломкие голоса гимназистов.
В фиолетовых тенях под платанами шла непрерывная кутерьма узорчатых солнечных зайцев. Девочки во дворах мастерили куколок-мальвинок: три бутона – голова и руки, а распустившийся цветок мальвы – колокол розовой юбки.
Но Эська давно забросила дворовые детские глупости.
Прошло два года с той ночи, как Яша сиганул в окно и совершенно пропал из виду семьи. Все это время девочка неустанно заливала тоску и тревогу родителей кипящими пассажами этюдов и упражнений, недетским чутьем понимая, что отныне миссия ее – не утешение (вялая ласка утешений еще никого не вернула к жизни), тут другое нужно: полный и сокрушительный реванш!
И вот, мимо лепных тугощеких ангелов на фасаде, меж бронзовых дев, озарявших фонарями подножие широкой лестницы вестибюля гостиницы «Бристоль» – самого роскошного, как писали газеты, отеля России, – Гаврила Оскарович Этингер сопровождал дочь на аудиенцию к известной австрийской пианистке Марии Винарской. В третий раз та гастролировала в Одессе, и Гаврила Оскарович через антрепренера театра договорился о прослушивании.
– Папа, – шепотом спросила Эська, глазея на позолоту невесомых чугунных листьев парадной лестницы, на сахарные груди скульптурных дев в округлых нишах, на сияющий атлас зеленых гардин, богемские каскады ослепительных люстр в высоких потолках, на малахитовые столешницы и раскоряченные ножки миниатюрных столиков в стиле ампир, – разве там, в номере, есть фортепиано, папа?
– Рояль! – отрывисто бросил вполголоса Гаврила Оскарович. – Она возит его с собой.
– Рояль – с собой? В багаже? Как панталоны?! – Девочка прыснула так, что на нее оглянулся мальчишка-рассыльный.
– Ничего смешного. Марии ведь нужно репетировать. Сама знаешь, как важен свой инструмент.
Большой Этингер волновался, сможет ли его застенчивая дочь показать себя во всей полноте таланта. Высокий кок надо лбом, сильно осеребренный анархистскими похождениями Яши, сейчас казался еще белее из-за темной крови, прилившей ко лбу и вискам.
На самом деле это только называлось «аудиенция у Марии Винарской». Все знали, что знаменитую пианистку во всех ее турне сопровождает супруг, профессор Венской консерватории, а точнее, Королевской Академии музыки и исполнительского искусства (Akademie fu?r Musik und darstellende Kunst), артистический ее директор и член попечительского совета Марк Винарский. И вот к нему-то, профессору Винарскому, автору книги по фортепианной постановке рук, выдающемуся интерпретатору Шопена и создателю специальных этюдов для развития «шопеновской техники» – да, именно к нему, гениальному Марку Винарскому, Гаврила Оскарович привел на погляд свою тринадцатилетнюю Эську.
Та по-прежнему оставалась миниатюрной, так и не подросла за всю последующую жизнь: метр пятьдесят, и ножка – тридцать третий золушкин размер в придачу к вечной головной боли – где такие туфельки разыскать. Прежде заказывали у «Брохиса съ сыновьями» («во вс?хъ лучшихъ магазинахъ обуви европейской и азiятской Россiи»), потом остался «Детский мир», где вам выносили инфантильные бантики и пуговки или тупоносые мальчуковые ботинки с коричневыми солдатскими шнурками.
Однако при своем малом росте сия отроковица уже соразмерно оформилась, убирала кудри во «взрослый» узел на затылке, обнажавший фарфоровый стебель шейки, и по-взрослому умно и вежливо глядела на собеседника блестящими черными глазами, ужасно стесняясь лишь одного: предательски «вдруг вскочивших» круглых и тесных грудей.
И можно только вообразить, какое впечатление производила эта малышка, шпарившая Четырнадцатый этюд Шопена на беспощадной бриллиантовой скорости.
Ее маленькие руки обладали поразительной растяжкой и небывалой для девочки отчаянной силой. Иногда, доставая носком туфельки педаль, она чуть не соскальзывала с рояльного, обитого кожей, табурета (высоту которого, прежде чем дочь села за инструмент, Гаврила Оскарович долго придирчиво устанавливал, подкручивая регулировочные маховики); подпрыгивала, как мяч, выплеснув на клавиатуру пену очередного кружевного пассажа; мечтательно замирала, выпустив из рук угасающий аккорд. Ее точеная головка с собранными на затылке в узел черными кудрями, мелко-кольчатыми, как бороды ассирийских царей, строгий профиль, который она рывком оборачивала то к одному, то к другому краю клавиатуры, чуть ли не ухом и щекой приникая к клавишам на пианиссимо, а на фортиссимо швыряя аккорды куда-то под рояль; ее блестящие глаза, то сощуренные в щелочки, то расширенные как бы в ужасе на громовых каскадах, округлый детский лоб, покрытый испариной, и бешеная погоня по клавишам ее недетских, суховато-мускулистых кистей, – все излучало подлинность таланта. Гаврила Оскарович в паузах лишь глубоко переводил дух, мысленно посылая дочери утишающую сдержанную силу и молясь, чтобы ничто не помешало ей отыграть до конца приготовленную программу.
После первых двух минут ее игры из спальни вышла сама Мария: некрасивая, угрюмо-лобастая, как щенок, громоздкая женщина с тяжелым подбородком и маленькими, близко поставленными глазами такой ликующей синевы, что вся ее внешность тушевалась, оставляя только этот властный свет. Она вышла и молча простояла за спиной девочки до конца исполнения.
Завершив пьесу, Эська сняла руки с клавиатуры, оглянулась и нашла глазами отца. Папа сидел в кресле чуть поодаль, сцепив на колене кисти рук, даже пальцы побелели, а сам был очень, очень красен. И красив! Он улыбнулся ей и чуть заметно кивнул. Так у них было условлено: сигнал к продолжению.
Она отерла вспотевшие ладони о коленки и, выпрямив спину («перед началом всегда глубоко вдохни»), заиграла Тридцать вторую сонату Бетховена, сложнейшую…
И когда после раскаленного до минора первой части вылетела на вторую, с разреженным воздухом ее альпийских вершин, накрытых снежными ризами, с ее умиротворенно истаивающим «Lebewohl!» – «Прощай!» – последних вариаций, все бури и потрясения первой части, все земные обиды и оскорбления, и месть – Яшкин побег, безумие внезапных Дориных истерик, отцова печаль – все осталось в прошлом, а душа растворилась в беспамятной неге, в синих тенях, скользящих по склону горы, облитому ледовым блеском.
И сливочным блеском сияла клавиатура, и черным плавником огромной акулы вздымалась поднятая крышка концертного рояля.
Высокая стеклянная дверь балкона была распахнута в кроны цветущих акаций; хрустальную вазу в углу распирал букет влажной рыхлой сирени такой пышности, что столик под ним казался робким, как олененок. В воздухе этой с роскошью обставленной залы чудесно слились морской солоноватый бриз, духовитая волна от цветущей акации за балконом, тонкий аромат цветов и терпкая горечь духов стоявшей за спиной у Эськи молчаливой грузной женщины. Ее безмолвное одобрение, волнение отца, его подрагивающие, сцепленные на колене пальцы, ручьи, водовороты и водопады пассажей, изливавшиеся у девочки из-под рук, – все обещало недюжинное будущее: вихрь сирени на иных бульварах, переполненные залы, черные фраки оркестрантов, акульи плавники лучших в мире концертных роялей, рукоплескания публики.
Где-то внизу, в порту, в синеве моря и неба длинным и тощим голосом заныл пароход. И словно в поддержку ему, яростно жужжа, с улицы влетел сумасшедший изумрудный хрущ и, басовито и торжественно вторя финалу сонаты, проник в самую гущу сиреневого букета.
Мария подошла и положила на плечи девочке свои прекрасные тяжелые руки. И все задвигались, вздохнули, заулыбались и разом заговорили на трех языках. Профессор достал из кармана большой синий платок и, смешно двигая косматыми бровями, затрубил в него на ре-диез – он прослезился во время Эськиной игры.
Вдруг, явно волнуясь, заговорил на языке, похожем на немецкий… ах да, это идиш, поняла Эська, – секретный язык, на который переходит с мамой дедушка Моисей, если хочет, чтобы его не поняли внуки; и напрасно – понятно все до копейки, и все неинтересно! Оказывается, папа тоже может на нем говорить – да так быстро, перебивая профессора и тоже волнуясь.
Высморкавшись, профессор заявил, что на своем веку впервые после Марии (не правда ли, херцлихь? – и супруги переглянулись) услышал пианистку столь даровитую, с таким воздушным и в то же время властным туше; что он был бы счастлив учить эту талантливую «мейдэле» по месту, что называется, назначения, а именно, в Вене. Юный возраст не помеха в зачислении на курс в академию; как известно, и Моцарт, и Бетховен… да что там говорить!
Оказалось, что знаменитый Марк Винарский не всегда состоял артистическим директором и членом попечительского совета Венской Академии музыки, а когда-то был шестым ребенком в бедной еврейской семье в местечке Жосли Виленской губернии; что после скоропостижной смерти отца мать покинула местечко и отправилась на заработки в Вильно, раздав детей по состоятельным семьям. Маленький Марк попал в семью местного врача – доброго бездетного человека, большого любителя музыки. Все это профессор Винарский пробубнил, то и дело сморкаясь, смущенно вставляя в свой немецкий – для Эськи, наверное, – колченогие русские словечки: «исполнятель пахает, что вол!»
…тут, одурев от сирени, изумрудный хрущ поднялся в воздух и полетел в сторону порта, откуда потерянными гудками тянули в терцию – на ля– и на до-диез – свою песнь корабли пароходства «Австрийский Ллойд».
Эська рассеянно улыбалась, кивала, что-то отвечала на вопросы взрослых. После Бетховена она всегда чувствовала изнеможение, как после долгой болезни с высокой температурой. Она, конечно, была ужасно рада, что аудиенция удалась; но одновременно ей не терпелось скользнуть с табурета, схватить отца за руку и поскорее утащить. Дело в том, что папа обещал повести ее в кондиторскую Фанкони, угостить мороженым со сливками. Эти двое, обожатели друг друга и оба преступные обожатели сливок, частенько захаживали к Фанкони, где заказывали мороженое со сливками, пирожное со сливками, кофе со сливками и – специальным заказом – большую чашку сливок. Это был ритуал: когда дочь, блаженно жмурясь, отхлебывала из чашки мелкими глотками, отец, патетически воздев руки и потрясая ими, всплескивал тенором, так что официанты с улыбкой оглядывались на их столик:
– «Сердце полно жаждой мщенья! Мщенье и гибель всем врагам!»
Эська глядела на отца сияющими глазами. Она его очень любила. У папы были чудесные, серые в крапинку глаза в густых ресницах, победного рисунка брови, очень выразительный «таранный» взгляд: прежде чем он начинал говорить, уже было ясно, о чем он думает.
В тот миг, когда, устремившись с кресла вперед, точно собираясь прыгнуть с помоста купальни, сцепив перед собой сильные кисти (а выразительные большие пальцы нервно перекручивали невидимое веретено), он горячо втолковывал профессору что-то о «накопленном репертуаре» дочери, Эська припомнила некий синий с холодным румянцем день ранней весны, когда классная дама Рыгалина по кличке Влюбленная Вошь вела группу гимназисток на Дерибасовскую, в дом Сепича – запечатлеться в «Первоклассной фотографии Я. Блоцерковского, придворнаго фотографа Его Величества Короля Румынскаго».
От снега, что выпал на рассвете, но к десятому часу уже раскис, пахло фиалками; холодный ветер с моря перебирал звенящие струны голых деревьев, попутно сгоняя с крыш тяжелые квадриги радужных голубей и посылая вслед им гроздья алмазных брызг; лошади волокли под пролетками гремучий цокот копыт по мостовой, и все звуки города ссыпа?лись на бульвар, точно орехи на медный поддон.
Вдруг на другой стороне улицы Эська увидела отца: он выходил из чужого подъезда под руку с элегантной, высокой – под стать ему – дамой в чудесной шляпке с густой вуалью. Но Эська мгновенно даму узнала – по осанке: дочь антрепренера театра, Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер. Когда папа в детстве брал девочку на репетиции, она раза три оказывалась в ложе с этой изящной холодноватой дамой. И вот отец шел, прижимая к себе ее локоть, слегка наклоняя к ней голову, улыбался, горячился – в своем распахнутом сером пальто с бархатным черным воротником, в белом шелковом кашне, с кларнетным футляром в руке, молодой, слегка растрепанный и безумно любимый. Все в груди у Эськи радостно, по-детски вскипело, предвосхищая возглас «Папа!» – но уже в следующий миг она торопливо отвернулась, громко задала какой-то дурацкий вопрос Влюбленной Воши, уводя внимание от красиво слитной пары впереди (отец мог и случайно встретить знакомую даму, не правда ли?), – и впервые в жизни подумала совершенно папиной присказкой, с папиной же интонацией: «Какая в том беда Дому Этингера!»
И молчок: ни слова – ни самому отцу, ни Яшке, ни Стеше, ни тем более матери.
Тихо улыбаясь, она покручивалась на рояльном табурете, не встревая в разговор взрослых. Знала, что отец подхватит, ответит, объяснит или возразит. Глядела на него с гордым обожанием, предвкушая пиршество под бело-зелеными полосатыми тентами на террасе Фанкони: мороженое со сливками, пирожное со сливками и отдельным заказом – полную чашку сливок.
Вдруг ее ужалила мысль: а не от чрезмерного ли обжорства сластями так внезапно и больно выскочили эти противные сливочные сиськи?
* * *
Это был триумф Дома Этингера!
Яшина анархистская эпопея, омытая слезами и отчаянием Доры (вот уж кто готов был рассечь свою закованную в латы грудь и вырванным сердцем осветить возвращение блудного сына!), ее затворничество и мигрени, от которых по три дня раскалывался затылок, ее неприбранный вид и заброшенная «грудка» – все вмиг отошло на второй план. Все сбережения, накопленные тяжким трудом ее мужа-оркестранта, с абсолютным безрассудством были поставлены на кон. С болью в сердце была продана даже Яшина итальянская виолончель.
Старый картежник Моисей Маранц тоже рвался «финансировать заграничное обучение» любимой внучки, но его сомнительные предложения зять обошел вежливым молчанием. До осени, когда начинались занятия в консерватории, оставались считаные месяцы, и за это время надо было подготовить девочку к новой жизни, обшить с ног до головы в изысканном европейском стиле, сочинить и создать гардероб, который не посрамит и тамошнюю Кертнерштрассе с великолепием ее дорогих магазинов и разодетых модниц.
Немедленно с запиской к Полине Эрнестовне (ряд восклицательных знаков занимал целую строку) был послан дворничий сын Сергей.
Поскольку работа предполагалась срочная и ответственная, над меню просидели чуть не до полудня. На другой день с утра и до обеда, не отпуская извозчика, ездили по модным лавкам на Ланжероновскую и Дерибасовскую, в пассаж, в конфексион братьев Пуриц, а также в гранд-конфексион Максимаджи и Гуровича: отбирали материю, пуговицы, крючки-застежки, кружева и тесьму, дымку на вуали…
И уже после обеда великая портниха приступила к священнодействию.
Тут надо бы отметить, что лохматая людоедка обожала дочь Доры Моисеевны. С ее точки зрения, та являлась идеальной моделью: шить на девочку было сплошным удовольствием и чистым вдохновением. С ней не требовалось никаких хитроумных обманок зрения, дополнительных складок для впечатления и надставных плечиков для сокрытия. Эськина фигурка говорила сама за себя. Ее хотелось поднять на ладони к свету и любоваться пропорциями и линиями – собственно, тем, что в искусстве моделирования боготворила старая портниха. Вымеряя полураздетую, в одних панталончиках, девочку, Полина Эрнестовна таращила черные, как греческие маслины, глаза, приговаривая:
– Так бы и съела ее на завтрек!
(При этих словах Дора поеживалась и притягивала дочь к себе поближе.)
Набычив голову со знаменитой бородавкой во лбу – единорог перед решающим сражением, – Полина Эрнестовна рисовала на листках все новые головокружительные модели, вычеркивала те или другие детали, переносила с одного листка на другой рукав-реглан, отрезной лиф или воротник-хомут. Она колдовала, бормотала, фыркала и отбрасывала листки. Вновь приступала к работе, составляя списки на все случаи жизни: дорожные платья, деловой костюм, концертное платье, вечернее платье…
Повторим: она не знала выкроек и не употребляла профессиональных понятий, вроде «косой крой», «прямой силуэт» или «заниженная талия».
– Ото так… – бормотала она, – отсюда и вниз до жопки, а талию повыше… а грудку ослобонить… Шейку объять кружевцами, плечико – в фонарик… а юбку – вихрем…
Этот «венский гардероб» – единственное, что осталось девочке от европейских мечтаний, – служил ей всю долгую, долгую жизнь, ибо Эсфирь Гавриловна и в старости оставалась такой же хрупкой дюймовочкой, не поправившись ни на фунт.