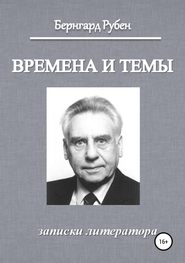скачать книгу бесплатно
Времена и темы. Записки литератора
Бернгард Савельевич Рубен
В книге автор рассказывает о длительном процессе познания и осмысления прожитой им жизни. Эти записки – повествование о сложном и противоречивом взаимодействии глубинной сущности человека с действительностью, приводящем к личным победам и трагическим ошибкам.
…толькокажется,чточеловечествозанятоторговлей,договорами,войнами,искусствами;одноделотолько для него важно,и одно только дело оно делает – оноуясняет себете нравственные законы, которымионоживет.Нравственныезаконыужеесть,человечествотолькоуясняетихсебе,иуяснениеэтокажетсяневажныминезаметнымдлятого,кому ненуженнравственныйзакон,ктонехочетжить им.Ноэтоуяснение нравственного законаестьне только главное,ноединственное дело всегочеловечества.
ЛевТолстой.
Такчтоже нам делать?
Глава первая. Долгое прозрение
1. Путы времени
В дни похорон Сталина я, старший лейтенант, служивший в гвардейской столичной дивизии, находился в воинском оцеплении у здания Дома союзов и смог беспрепятственно пройти внутрь, в знаменитый Колонный зал, где был установлен гроб с телом Вождя. С тех пор – уже более полувека – у меня сохраняются одиннадцать блокнотных листков, заполненных мелким почерком, на которые, отстранившись от удивления, я смотрю как на документ времени, эпохи, и в этом качестве привожу их здесь, в своих нынешних записках.
10 марта 1953 г., Москва
Только сейчас, вечером 10 марта, пришел домой впервые за эти пять дней.
Как скорбно медленно они тянулись – эти траурные дни – и как беспощадно и неумолимо быстро они пронеслись…
И вот мы уже проводили в последний путь Иосифа Виссариоовича Сталина, и откровенная действительность заставляет привыкать каждого к совершенно невозможной для нас мысли, что Сталина нет с нами.
Я родился, когда вся забота о народе, и в том числе обо мне, легла на плечи товарища Сталина. И все 27 лет своей жизни я связывал имя Сталина со всеми делами, которые происходили в стране. Сталинские пятилетки, Сталинская Конституция, Великая Отечественная война – речь Сталина 3 июля, битва под Москвой, Сталинград, Курск, Десять Сталинских ударов, разгром Японии, – послевоенный план восстановления и развития страны, стройки коммунизма, борьба с засухой, полезащитные лесонасаждения, борьба за мир во всем мире…
Везде, всюду – рука, ум, воля, любовь Сталина.
В жизни своей я испытал два великих потрясения – Великая Отечественная война и смерть товарища Сталина. Первое потрясение я перенес с полной внутренней уверенностью в нашей победе. Я с самого начала войны, через самые тяжелые дни 1941—1942 годов пронес, может быть, еще наивную, но безусловную веру в победу, ибо знал, что руководит всем и отвечает за все – Сталин. Перенести смерть товарища Сталина помогает мне сейчас сознание того, что есть партия, партия Ленина – Сталина.
Сталин умер, но дело его живет. Дело Сталина непобедимо, ибо оно – правое дело. И вооруженные теорией, практикой, которые дал нам Сталин, его личным примером, мы пойдем по пути, указанному вождем, и дойдем до победы – до коммунизма. Но в эти дни вместе с уверенностью в нашей победе все мы ощущаем себя осиротевшими, потерявшими любимого и дорогого отца.
Сталин и смерть – это несовместимые понятия.
Утром 6 марта в 7 часов я услышал по радио сообщение о смерти тов. Сталина. Я знал, что его положение безнадежно. За эти дни – 3, 4, 5 марта – я научился ненавидеть такие слова, как «кислородная недостаточность»,
«аритмия», «сопорозное (глубокое бессознательное) состояние». Но мы все ждали чуда. И никто не мог допустить мысли, что Сталин умрет. Я услышал по радио скорбный голос диктора, и до меня не сразу дошло, что говорится о смерти Сталина. Я услышал рыдания мамы на диване – и тоже до меня со всей силой еще не дошло, что Сталин умер: я не мог просто ни морально, ни умственно до конца воспринять эту весть. 27 лет я, живой и здоровый, жил вместе со Сталиным, читал Сталина, слушал, что скажет Сталин, был спокоен, потому что Сталин в Кремле…
Я просто не мог переломить ни ум, ни сердце – как это так: я жив, жизнь идет, а Сталин мертв… Мысли остановились, и я понял, что в этот момент ни о чем не думаю, – самое страшное состояние – в голове пустота. Но вот пустота эта чем-то еще неясным для сознания стала наполняться.
Я вышел на улицу и увидал траурные флаги. В этот миг я представил себе портрет Сталина и ужаснулся – невозможно было в сознании соединить портрет Сталина с траурными лентами вокруг. Но первое, что я увидел, придя в полк, – портрет Сталина в траурных лентах. Портрет этот висел и вчера, и позавчера на большом щите, где вывешивались бюллетени o его здоровье. Теперь все было снято. Один портрет в траурном обрамлении.
А в голове у меня, где-то в глубине, сначала тихо, потом шире и сильнее что-то звучало, звучало, и звуки становились отчетливее, скорбные звуки похоронного марша… Весь день потом – что бы ни делал – я чувствовал и слышал звуки скорби и печали – похоронный марш Шопена.
У нас в полку было много работы в те дни – полк должен был проходить по Красной площади в день похорон.
8 марта я был в Колонном зале. 7 часов вечера. Пользуясь своей военной формой и тем, что в оцеплениях и на постах стояли наши солдаты, я подошел к Колонному залу. Вся Москва была в те дни и ночи у дверей Дома союзов. Длинный, бесконечный живой поток двигался от Курского вокзала по Садовому кольцу до улицы Чехова. Оттуда по Пушкинской улице к Колонному залу. Люди по 12 часов стояли, шли и шли, чтобы прийти в Колонный зал.
Весь Дом союзов – в венках. Венки снаружи, всё в венках внутри. Иду по лестнице вверх, на второй этаж. Красный шелк тяжелыми темными складками свешивается с потолка, протянут вместе с черным крепом от люстр к углам.
Еще из двери я увидал гроб с телом Сталина. Неподвижное лицо, седые волосы, руки сложены. У гроба на шелковых подушках – маршальская звезда, ордена, медали. Гроб наклонен, и мертвое лицо Сталина хорошо видно. Вот в этот момент, когда между мной, живым и здоровым, и лежащим в гробу товарищем Сталиным возникла таинственная сверхъестественная грань, за которую не может проникнуть мысль живого человека и с которой не может примириться его чувство, – в этот момент я впервые понял (не умом, а всем существом, душой), что Сталин умер, что случилось это совершенно невозможное трагическое событие.
Я оглянулся вокруг и увидел людей, которые, очевидно, долгое время уже находились у гроба. То остроболезненное ощущение и скорбное внимание, которое выражалось на наших лицах, тех, кто какие-то две минуты проходил мимо гроба, у них отсутствовало, ушло.
Я увидел кинорежиссера Герасимова. Он стоял в стороне и смотрел куда-то в сторону от гроба. Кто-то подошел к нему, и он повернулся, перемолвился с ним. И тут я опять с новой силой, во второй раз и уже окончательно поверил, что Сталин умер.
Они, живые, стоявшие у гроба и около, продолжали жить, чувствовать, двигаться, они были способны на действия. И хотя все их соображения и чувства, взгляды и движения были направлены на то место, где стоял гроб, были связаны с этим местом, меня вдруг поразила мысль, что все они уже не ждут никакого движения, никакого действия от мертвого неподвижного тела. Я вдруг подумал, что если бы Сталин был сейчас жив, то не было бы ни этого шествия, ни музыки, ни Колонного зала; что если бы он был сейчас жив, – все вокруг смотрели бы на него и ждали бы, что он сделает, что он скажет, куда он двинется. И никто не подошел бы к Герасимову, и Герасимов бы не смотрел в этот миг в сторону. Если бы Сталин сейчас был жив – все делалось бы по его воле, а не по воле тех, кто стоял у гроба и вокруг и исполнял свои обязанности, обязанности живых по отношению к мертвому…
Неумолима смерть. И даже гений не в силах побороть ее. Человек умирает. И тогда продолжают жить его дела, его мысли, его сердце, его пример.
Венки, венки… Я бросаю последний, прощальный взгляд на гроб с телом Сталина. Мартовские сумерки на улице. Тихо. Ни гудков автомобилей, ни разговоров. Только люди, чуть ссутулившиеся от смерти близкого родного человека, идут по улицам. Смерть Сталина – горе каждой семьи, горе всех трудящихся, мое личное горе, личная утрата. И в тишине я снова слышу траурный марш, звучащий в моем мозгу, музыку, которой живые соединяются со смертью…
9 марта я был на Красной площади. На бронетранспортерах мы проехали мимо Мавзолея, отдавая последние воинские почести своему Генералиссимусу.
В 12 часов, после пятиминутного молчания всей страны, мы завели моторы и стали подниматься по знаменитому подъему между Историческим музеем и музеем В. И. Ленина. Сколько раз я ходил на парад – каждый май и каждый ноябрь! Сколько раз я видел на трибуне товарища Сталина. Он стоял всегда в центре Мавзолея, на котором красными буквами было написано ЛЕНИН. Теперь я поднимался на Красную площадь и знал, что Сталина нет на Мавзолее, что ждать его нечего. Я увидел Молотова в черном пальто и черной шапке, Булганина, Маленкова. На Мавзолее надпись:
ЛЕНИН
СТАЛИН
На постаменте – гроб, на крышке гроба – фуражка генералиссимуса. С тяжелым чувством я проезжал мимо Мавзолея. Сегодня 11 марта. И с каждым днем все больше и больше чувствуешь, как мы осиротели, каким беззаветным другом трудящихся, каким великим человеком был Сталин и как мы все считали, что все, что он делает, что он говорит, все его качества – друга, учителя, вождя, полководца – все это так и должно было быть у него, и никто еще не думал, какие это ценные, редкие качества, какое счастье всем нам выпало жить и работать под его руководством.
Да, перед смертью все равны, но разница в том, что Сталин не умер, ибо живет в нас, дело его бессмертно, и в этом его величие.
Все это писал человек, родившийся в литературной семье (мой отец был киносценаристом и драматургом) и воспитывавшийся подле солидной домашней библиотеки, активное освоение которой началось у него еще в отрочестве, когда чтение стало страстной потребностью души. К двенадцати годам были читаны-перечитаны мушкетерские романы Дюма («Три мушкетера» я мог пересказывать наизусть почти с любой открытой наугад страницы), Вальтер Скотт, Жюль Верн (любимый герой – капитан Немо). Затем проглочен принятый в то время юношеский набор книг Марка Твена, Гюго, Диккенса, Джека Лондона, а также, конечно, «Робинзон Крузо», «Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена». Потом, тоже еще в отрочестве, в тринадцать лет была прочитана толстовская эпопея «Война и мир», а перед нею
– его «Севастопольские рассказы», ставшие для меня откровением. Помню, всю жизнь помню, с каким потрясением прочел я, двенадцатилетний, заключительные полстраницы во втором из этих рассказов («Севастополь в мае»):
Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.
Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.
Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme)[1 - Храбростью дворянина (фр.).] и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест – ребенок без твердых убеждений и правил не могут быть ни злодеями, ни героями повести.
Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.
Я сидел тогда на кушетке, облокотившись о ковровый валик, на своем обычном месте для чтения. И – задохнулся, пораженный этими словами: они пронзили мою душу, отворили, отверзли ее своим волшебным ключом. Я замер, щеки мои раскраснелись от возбуждения, пальцы были холодны, сердце гулко стучало – мне казалось, что я не прочел эти слова только что в книге, а что они всегда были во мне самом и вот теперь явились из недр моей собственной души, что это – и мое чувство, моя мысль, только я не умел ее так замечательно сформулировать, но жил именно с этим чувством, с этой мыслью всегда. И какое это счастье, что, оказывается, именно так и надо думать и жить, как хорошо, что Толстой утверждает именно это, и как замечательно, что теперь я сам все это так ясно осознал… Так совершился у меня момент восприятия и открытия самой главной истины всей моей жизни. Восприятия от Толстого и открытия ее в самом себе.
Еще одно открытие – рассказы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки», «Двадцать четыре часа из жизни женщины», «Амок»… Начался процесс познания внутреннего мира человека. Тогда же были прочитаны взахлеб «Милый друг» Мопассана и его рассказы, а также «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, «Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня» Фейхтвангера, «Генрих IV» Генриха Манна, «Декамерон» Боккаччьо (так писалась эта фамилия на академическом двухтомнике). Плюс, конечно, все, что полагалось по школьной программе до восьмого класса включительно – и Фонвизин, и Пушкин, и Грибоедов… Война застала меня на лермонтовском «Герое нашего времени», ставшем главной книгой моей юности. Но я успел еще прочесть вышедший в тот момент впервые в СССР сборник рассказов Хемингуэя.
А за год до смерти Сталина я окончил – заочно – филологический факультет Московского университета, отделение русской литературы и языка. Причем, занимаясь в московской группе студентов, имел и, конечно, использовал возможность по субботам и воскресеньям слушать лекции и проходить семинары у знаменитых тогдашних профессоров и преподавателей.
Таким образом, я был приобщен к массиву мировой литературы, который основывался на общечеловеческой нравственности и воспитывал, утверждал в людях вечные ценности. И в личных взаимоотношениях, в быту мы старались непременно следовать этим нормам поведения. Добавлю еще, что приведенные выше записи с похорон Сталина принадлежали молодому человеку двадцати семи лет, в семье которого был, так сказать, прописан юмор. Мой отец обладал легким характером, был остроумен, знал толк в розыгрыше, экспромте и даже в тяжкие для него времена не расставался с шуткой и иронией. Слыша, например, по радио о том, что товарищ Сталин – лучший друг шахтеров, металлургов или физкультурников, он мгновенно добавлял к ним еще сапожников, ассенизаторов и еще кого-нибудь в этом роде (чем в очередной раз повергал в испуг мою мать). Именно от отца услышал я первый после смерти Сталина анекдот о нем, когда из ГУЛАГа потянулись вскоре первыми ласточками отпущенные зэки, в том числе и давний друг отца: «Все мы с ужасом думали: «Что будет, что будет, если Он…» А теперь с ужасом шепчем: «Что было бы!..» Однако вот, переживал я и мыслил о Сталине так, как записал.
Как же могла образоваться у меня в сознании подобная смесь? Безусловно, вторая составляющая ее продуцировалась тотальной идеологизацией всей нашей советской жизни. Приведу эпизод из моего детства. Когда мне было года три-четыре, родители привезли меня на несколько месяцев из Ленинграда, где я родился, в Нижний Новгород к дедушке и бабушке. Моя пятидесятилетняя бабка взяла себе в помощь старую женщину, добрую и покладистую, которая относилась ко мне со всей душевностью. Так что мне представлялось, что у меня две бабушки – молодая и старая. (Действительно, моя бабка до преклонных лет была всегда подтянута, аккуратно одета, ходила в туфлях на каблуках и вела себя с достоинством и по-хозяйски.) А я был энергичный, живой мальчишка, выдумщик и организатор. И конечно, весьма восприимчивый к тому, что видел вокруг. В Ленинграде отец брал меня с собой на праздничные массовые демонстрации, которые проводились дважды в год – на 1 Мая, День солидарности трудящихся всего мира, и на 7 Ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И я затеял тут игру «в демонстрацию». Потребовал красной материи для флага, построил бабку, деда и няньку в колонну, сам встал во главе и зашагал с флагом в руке и с песней. Пел, полагаю, что-нибудь вроде «Вихри враждебные веют над нами…» или «Смело мы в бой пойдем за власть Советов…». За мной шла нянька и бормотала совсем иные слова, честила, должно быть, большевиков и их порядки и за то еще, что втемяшили в детскую голову свою бесовщину. Я же сразу это ухватил и недовольно воскликнул: «Старая бабушка, ты не то поёшь!» Об этом мне, взрослому, рассказала как-то моя бабка. Да, мы с детства уже знали, что надо петь…
Я был человеком (как и множество моих сверстников), который еще в детские годы, воспитываясь на русских народных сказках, сказках Пушкина, баснях Крылова, в то же самое время впитывал в себя революционные понятия и тематику, носил звездочку октябренка, затем, в отрочестве, стал юным пионером и ходил в школу и общественные места в красном галстуке, жил осененный словами провозглашаемой признательности: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» и, конечно, прекрасно знал имя замечательной девочки-узбечки, которую товарищ Сталин на многочисленных фотографиях, картинах, плакатах
держал на руках. В эти же тридцатые годы по радио и с эстрадных подмостков детские и юношеские голоса с чувством скандировали такой лозунг дня: «Пять – в четыре, пять – в четыре, пять – в четыре, а не в пять!». Это о том, что объявленные пятилетние планы строительства социализма в нашей стране должны и несомненно будут выполняться в четыре года. Пятилетки, как и Конституция и все замечательные свершения, были, конечно, «сталинскими». Как и лучшие люди: герои-летчики – «сталинские соколы».
Когда началась Великая Отечественная война, я вступил тем же летом в комсомол – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, а после войны, будучи офицером, – в партию. Тогда так и говорилось: «вступил в партию», и не надо было добавлять, что в ВКП(б) – во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков; партия была в стране одна, и это мы считали совершенно естественным: если она ведет нас в светлое будущее – зачем нам нужны еще какие-то партии…
Итак, с раннего детства в наше сознание внедрялась идеология, которая пронизывала затем и школьное, и среднее профессиональное, и вузовское образование.
У меня сохранился мой школьный учебник истории СССР для младших и средних классов, первый учебник истории в жизни советского ребенка. Издан он был в 1937 году. Во «Введении» к нему, в краткой полуторастраничной главке «Наша родина» было сказано:
СССР – страна социализма. На земном шаре есть только одна социалистическая страна. Это наша родина. Она самая большая страна во всем мире. <…>
По природным богатствам наша страна самая богатая в мире. Все, что нужно для жизни, имеется в нашей стране.
С каждым годом у нас больше хлеба и других товаров.
С каждым годом у нас больше фабрик, заводов, школ, театров, кино. <…>
Ни в одной стране мира нет такой дружбы народов, как в СССР… В СССР нет паразитовкапиталистов и помещиков, как в других странах. В СССР нет эксплуатации человека человеком. <…>
Из отсталой страны наша родина стала самой передовой и могучей.
Вот почему мы так любим, так гордимся нашим СССР – страной социализма. <…> Путь к социализму указала нам великая партия коммунистовбольшевиков…
Понятно, что такой учебник, помимо сообщения учащимся исторических сведений (тоже в определенной трактовке), имел своей целью воспитание советского человека, для которого все остальное человечество за пределами его родины было чуждым, если не враждебным. А далее последовали обязательные основы марксизма-ленинизма, диамат, истмат, политэкономия социализма, научный коммунизм, которые составляли наше понимание исторического процесса, выстраивали наш взгляд на развитие человечества и смену общественных формаций, на экономику. Этот идеологический фон постоянно присутствовал также во всей последующей трудовой деятельности. И в своем поведении в общественной сфере жизни, начиная с пионерских лагерей, с их торжественными линейками и собраниями отрядов, до собраний партийных и профсоюзных, мы строго придерживались установленных на каждом уровне ритуальных правил. Испытания, драмы, трагедии начинались тогда, когда эти правила входили в противоречие, сталкивались с общечеловеческими нормами нравственности, которых люди старались придерживаться в своем повседневном бытии.
Этих личных драм и трагедий было множество, но по большей части они проходили скрытно, без огласки. Чтобы уцелеть после ареста близких людей, дети должны были в какой-то форме отрекаться от «врагов»– родителей, жёны – от мужей, вчерашние друзья – друг от друга. Однако в ходу были и публичные поношения, осуждения своих бывших товарищей по работе, на которых налагалось то или иное обвинительное клеймо идеологического свойства. Меня такие испытания миновали. Но в моем довоенном детстве совсем рядом происходили события, которые мои родители тщательно от меня скрывали. Исчезновение одной из близких приятельниц мамы вместе с ее сыном по имени Рид, моим тогдашним товарищем (названным в честь американского журналиста Джона Рида, автора знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции в России), мне объяснили их отъездом в длительную командировку. Судя по времени ареста, ее обвинили в троцкизме. О других подобных случаях я и вовсе узнавал спустя годы…
Подложность нашей жизни заключалась в том, что коммунистическая идеология очень долго сочеталась в нашем сознании с общечеловеческой нравственностью. Постулаты этой идеологии убедительно, как нам казалось, вбирали в себя идеалы справедливости, добра и правды, призывали к борьбе со злом, к защите угнетенных, несчастных, униженных и оскорбленных – о чем всегда страдала художественная литература, прежде всего великая русская классика, и серьезное искусство вообще. А властители, державшие в руках это идеологическое знамя, в своей практической деятельности умело лицемерили и запутывали людей. Так, в разгар репрессий и вызванных ими семейнных трагедий Сталин провозгласил: «Сын за отца не ответчик», что было двойной ложью, ибо никак не соблюдалось в реальности и с еще большим иезуитством разрушало связи отцов и детей, разделяло их. Потом другой властитель – Хрущев, частично разоблачивший злодеяния Сталина и стремившийся в заданных большевистских рамках быть для народа добродеем, почуяв необходимость укрепить идеологию, предписал советским людям «Моральный кодекс строителя коммунизма», который был подменой христианским заповедям (при советской власти гласно не упоминавшимся).
Мы жили в подмененном мире. Ходили по переименованным улицам, мыслили подмененными понятиями, жили по предписанным советским правилам, объявленными традициями, которые, однако, отметали, заменяли исконные народные обычаи.
В середине 70-х годов моя школьная приятельница с мужем пригласили меня в поездку на их автомашине по древним русским городам (по Золотому кольцу, как с прицелом на иностранных туристов и с купеческим привкусом был объявлен этот маршрут). Мы побывали во многих провинциальных городах Средней России, и уже в начале пути я обратил внимание на наличие там улиц, названных в честь Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Сакко и Ванцетти, Воровского, не говоря уж о центральной – проспекте Ленина. Вскоре стало ясно, что комплект этих названий будет повторяться в каждом следующем пункте: переименование улиц проходило кампанейски по всей Совдепии. Посадили в Америке на электрический стул рабочих-анархистов Сакко и Ванцетти, обвиненных в убийстве, – каждый советский город должен был возмущенно откликнуться на очередное злодеяние империалистов. А перед тем откликались на убийство Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Воровского… Как тут не вспомнить строки из стихотворения Константина Симонова «Улица Сакко и Ванцетти»:
У нас, коммунистов, хорошая память
На все, что творится на свете;
Напрасно убийца надеяться станет
За давностью быть не в ответе…
И сами еще мы здоровия стойкого,
И в школу идут по утрам наши дети
По улице Кирова,
Улице Войкова,
По улице Сакко – Ванцетти.
Но и без этих злободневностей повсеместно после большевистского Октября искоренялись все названия, напоминавшие прежнее бытие. И появлялись улицы Красноармейская, Милицейская, Краснофлотская, Профсоюзная, Комсомольская… Таким образом достигались сразу две цели – идеологическая и историческая, вернее, антиисторическая: люди буквально на каждом шагу погружались в идеологический мир «интернационализма», ненависти к «врагам социализма», к «врагам трудящихся», и у них, тоже на каждом шагу, стиралась историческая память, утрачивалась связь времен, замещаясь одной только советской данностью. Большевики умело манипулировали людской психологией.
Особенно поразительно все это выглядело в Ростове Великом: ни одного старого названия улиц не было в этом древнем русском городе с тысячелетней историей! Зато добавились, сравнительно с предыдущими небольшими пунктами, улицы Карла Маркса, Бебеля, Декабристов и вдруг возникшего Гоголя (возможно, для того, чтобы горько спросить: «На каком свете живете, господа-товарищи?»). И когда мы не обнаружили здесь какого-то одного наименования из утвердившегося набора, я настоял – на спор – поискать еще, не пожалеть времени, и мы, поколесив, нашли-таки и эту, кажется, Профсоюзную, улочку…
Да, дети ходили уже по этим улицам. Но – не только дети. Прежних названий не знали уже и люди среднего возраста. Забыли напрочь и пожилые. Во время упомянутой поездки мне пришлось немало порыскать в том же Ростове Великом, расспрашивая встречных жителей, пока старая женщина, возившаяся в палисаднике, узнав, что меня интересует, пригласила зайти и направила к своему мужу, находившемуся поодаль в беседке. И от него – единственного! – я узнал, что когда-то в этом городе были Покровская улица, Лазаревская, Калмыцкая, Ярославская, Ветровая…
Конечно, за таким познанием, да еще в зрелом возрасте, не надо было ехать по старым русским провинциальным городам. Я родился не в Петербурге и не в Петрограде, а – в Ленинграде. И ходил там не по Невскому, а по проспекту 25 Октября, гулял не по Дворцовой площади, а по площади Урицкого (председатель Петроградской ЧК, убитый в 1918 году), по набережным Жореса и Робеспьера. И в Москве много лет не слышал таких названий, как Знаменка, Воздвиженка, Остоженка, – шагал по улицам Фрунзе, Калинина, Метростроевской. Но в столицах из-за их масштабности, мегаполисности эта историческая вивисекция была несколько сглажена, кое-что из прошлого еще оставалось, а что-то из прежних названий по державным соображениям и возвращалось (как Невский проспект, Дворцовая площадь в Ленинграде). В провинции же, причем именно в старорусской, глубинной, приволжской, произведенное насилие открылось мне в своей вопиющей сущности. То была унизительная смесь беспамятства и убожества, какой-то духовной бездомности, перекатности, люмпенства, обезличенности.
Разумеется, большевистская идеология вторгалась и утверждалась в сознании людей не только «географически». Искоренение, искажение исторической памяти, подмена общечеловеческих и насаждение новых – классовых, «пролетарских» – понятий шло массовым и непрерывным накатом через газеты, радио, плакаты и лозунги, учрежденные советские праздники, обязательный к изучению марксизм-ленинизм, через новоявленные искусство (прежде всего советский кинематограф) и художественную литературу социалистического реализма. Литература, искусство говорили уже не о вечных вопросах бытия, не о душе отдельного человека, о добре и зле в нем самом и стремлении к истине, а о революционной борьбе масс, о боевых и трудовых подвигах новой людской формации, о непримиримости к врагам и приверженности идее коммунизма. (Вспомним повести и романы с характерными названиями – «Железный поток», «Цемент», «Гидроцентраль», «Время, вперед!», «Как закалялась сталь», «Хлеб»… Кстати, почти все они переходили и на киноэкран.)
Но, более того, она, идеология, утверждалась одновременно и за счет самого здравого смысла людей, за счет понимания естественного развития общества. И в том состояла фантасмагория нашей жизни, в которой ненормальность существования становилась нормой: оттесняя, подавляя в человеке здравый смысл, идеология изменяла его взгляд на действительность, на очевидность. Мы понимали и не понимали происходящее вокруг нас. Нам все было ясно теоретически, и в то же время ощущался некий разрыв с окружающей реальностью. Мы обходили эти тупики, считали, что чего-то еще не постигли, не уразумели, но все идет должным образом. Вера и чувство самосохранения вели нас в том мире. Я говорю, конечно, о себе и таких, как я.
Я родился в 1926 году, в то время, когда уже был Советский Союз – СССР, когда Петроград (Санкт– Петербург) два года как назывался Ленинградом (переименовали после смерти Ленина), а победно закончившаяся для большевиков Гражданская война, вызванная ими и необходимая им для окончательного утверждения своего Октябрьского переворота, сделалась одной из главных героических тем советской литературы, кинематографа и популярных песен. И сам переворот назывался уже Великой Октябрьской социалистической революцией («Когда мятеж кончается удачей, он называется иначе»).
Таким образом, шесть с половиной десятилетий мною было прожито в советскую эпоху, и, естественно, я хочу изложить здесь о ней свое представление. Разумеется, отдавая себе отчет в том, что на эту тему написаны, как изящно тогда говорили, «монбланы» книг. Но я не открываю Америк, а только записываю сложившееся у меня понимание и чувство пережитого времени, анализируя свое тогдашнее восприятие окружавшей жизни.
Общеизвестно, что время и место рождения уже сами по себе являются предопределяющими обстоятельствами в формировании первоначального взгляда на мир. Мне не довелось соприкасаться с классическими, по Марксу, эксплуататорами – пресловутыми «помещиками», «фабрикантами и заводчиками», ни лицезреть живых «графьев и князьев», а об «ужасном царском режиме» я узнавал также из советских книг, кинофильмов и школьных учебников. Я знал, что живу в стране, где строится самое справедливое в истории человечества общество, в котором власть принадлежит трудящимся, рабочим и крестьянам. К тому же, моей средой обитания были благополучная по тем временам в материальном отношении семья, замечательный по красоте город и одна из лучших – «образцовых» – ленинградских школ. Но вовсе не следует считать эту мою среду какой-то изысканной, закрытой, элитарной, – мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате, из ко– торой перегородкой был выделен кабинет отца, а во дворе нашего дома, на улице, я с детства общался со сверстниками из проживающих здесь семей – сыновьями дворника-татарина, медсестры-еврейки, русского шофера грузовика и тоже русского плотника… И одеты мы все были в советский ширпотреб, так что никто из нас особенно не выделялся, разве только за счет родительской ухоженности. И в школе, если говорить об одежде, все выглядели аккуратно и весьма скромно, независимо от более широкого спектра профессий своих родителей, нежели в моем дворе (тогда еще не вводили общую школьную форму, как и не разделяли школы или классы на мужские и женские). И вели мы себя, при всей разности характеров, также в должных рамках. Правда, дважды в свои отроческие годы я находился летом в лагере Литфонда, открытого для детей ленинградских писателей, о котором вспоминал впоследствии, как о своем «пушкинском лицее»… В этой действительности я и пребывал вплоть до Великой Отечественной войны.
А то, как на самом деле происходило тогда строительство нашего социализма, я постигал уже гораздо позднее, открывая для себя иную действительность, в которой также жила моя страна – с массовыми репрессиями населения и многомиллионными жертвами. Однако я не раз убеждался, что подобные открытия делались потом множеством людей. Будто у нас было не только две действительности, но и два народа…
Мое прозрение было поистине затяжным, с возникавшими у меня недоумениями, которые, однако, еще долго не выводили из плена представлений о жизни, навязанных идеологией.
Когда с середины 1943 года в Москве стали раздаваться салюты в честь громивших немцев на фронте советских войск и освобождения наших крупных городов, долгожданная Победа начала приобретать явственные очертания. И возникло чаяние, что затем наступит новая светлая жизнь, пусть трудная, скудная, со скорбной памятью, но – человечная, с общей взаимностью между людьми, поддержкой, справедливостью. Ведь столько все вынесли, выстрадали, прошли такой тяжкий путь лишений, горестей, потерь в каждой семье…
Но в августе 1946 года как знак послевоенной политики грянуло грозное постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», вызвавшее у многих людей, причастных прежде всего к литературе и искусству, растерянность, недоумение, страх.
Оно сразу возродило в обществе атмосферу преследования «врагов», столь памятную по довоенным временам. В писательской среде это постановление называли «постановлением по Зощенко и Ахматовой». О Зощенко там говорилось, как о «пошляке и подонке литературы». На него налагался запрет печататься. Такой же запрет налагался и на Ахматову, которая характеризовалась как «типичная представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии».
При чтении этого постановления ошеломляла как сама ниспровергательная критика известных в литературе и почитаемых имен, так, в не меньшей степени, и разносная, растаптывающая, оскорбительная ее форма. Это было жестокое и грубое поношение, на которое ни Зощенко, ни Ахматова заведомо не могли публично ответить: всесильная власть уже поставила на них свое обвинительное клеймо, и они в глазах советских людей превратились в прокаженных…
Вот когда я впервые остро почувствовал возникший тупик – озадачивающее, пугающее противоречие между тем, во что полагалось верить (и во что мы верили), и тем, что происходило под этим знаменем в действительности. Но одновременно мое тогдашнее сознание искало и находило выход из опасного тупика. Прежде всего, постановление «О журналах…» и последующие постановления ЦК ВКП(б) по театру, кино, музыке сразу и прочно связались с именем Жданова, рьяного секретаря ЦК по идеологии, который, не стесняясь в выражениях, делал «разъяснительные» доклады по этим партийным документам перед писателями, композиторами и другими деятелями искусства. И весь тот период окрестили в кругах интеллигенции «ждановщиной» – по аналогии с «ежовщиной» второй половины 30-х годов. Но ведь было известно, чем кончил Ежов – он был сперва перемещен Сталиным со своего поста главы НКВД на второстепенную должность наркома речного флота, а затем и расстрелян, как об этом доверительно шептались после его окончательного исчезновения.
Таким образом, Гениальный Вождь и Отец народов оставался в нашем представлении непогрешимым, виновниками перегибов являлись его сатрапы. Более того, мы даже восхищались его абсолютной принципиальностью и объективностью – ведь под резкую критику попала даже опера Вано Мурадели «Великая дружба» о замечательной дружбе Ленина и Сталина, воспетой причем его соплеменником-грузином. Однако – никакой скидки ни на тему, ни на восторженное ее воплощение, ни на национальность композитора! Напротив: строгое осуждение оперы как формалистического, порочного в идейном отношении произведения. (А в продолжение такой его замечательной принципиальности в этом же постановлении сурово осуждались выдающиеся композиторы Шостакович, Прокофьев, Мясковский, которые, по партийной оценке, упорно придерживались в своем творчестве «формалистического, антинародного направления».)
И главное: во всех постановлениях ЦК основополагающим было требование «высокой идейности». Но «высокую идейность» мы понимали тогда как «народность», как жизненную правду, как великие идеалы социальной справедливости и людского блага. И потому искоренение «бессодержательности», «аполитичности», «формализма», «пошлости», «низкопоклонства перед разлагающейся культурой Запада», к чему призывала наша коммунистическая партия, должно было считаться правильным. А мы, значит, этого недопонимали, недооценивали, не видели дальше своего носа. И большинство людей, кого все это так или иначе затрагивало, не предполагая никакой иной стратегической цели в высочайших решениях, указаниях и развязанных кампаниях, старательно вникали в ошибки раскритикованных журналов, фильмов, опер и пьес. Дабы учесть их в своем творчестве. Я тогда довольно часто бывал вместе с отцом в Доме писателя (впоследствии – ЦДЛ) на разного рода встречах и обсуждениях и помню, что так говорили не только с трибуны, а и в кулуарах между собой. (Конечно, явление это имело свою разностороннюю психологическую подоплеку.)
Но стратегическая цель у Великого и Мудрого Вождя в этом его послевоенном курсе на подавление всяких гуманных надежд – такая стратегическая цель, как я понял гораздо позднее, у него была…
Однако послевоенное мракобесие не ограничилось данными постановлениями, связанными с именем Жданова, умершего от инфаркта в 1948 году, и продолжалось до самой смерти Сталина, перекинувшись на поле науки. Были запрещены генетика и кибернетика, одна из которых поносилась как «продажная девка империализма», другая как «лженаука», а ученые-генетики, все эти «менделисты-морганисты-вейсманисты», подвергались гонениям как буржуазные агенты. А ведь Сталина называли также корифеем всех времен и народов, то есть величайшим деятелем науки и искусства. Этот обскурантизм развернулся во всю мочь параллельно с яростной борьбой во всех областях культуры против «низкопоклонства перед загнивающим Западом», ставшей сразу антисемитской кампанией государственного масштаба с травлей и преследованиями «безродных космополитов». Наконец, была арестована целая группа известных московских врачей, большей частью евреев, обвиненных в умышленном вредоносном лечении умерших ранее вождей, в том числе Жданова. Газеты выходили под разгромными шапками «Убийцы в белых халатах», «Отравители». «Убийц-отравителей» искали и находили везде – от сельских медпунктов до самых крупных областных и столичных клиник. Врачей-евреев увольняли, третировали, арестовывали…
И после всей этой свистопляски, вивисекции, антисемитского угара, страха – такая моя запись с похорон Сталина?! Но, наверное, вполне понять происходившее тогда с людьми может только тот, кто сам жил в то время и дышал тем особого состава воздухом сталинизма.
Прежде всего: авторитет Сталина был абсолютно непререкаем. Это утвердилось еще в тридцатые годы. Было провозглашено, что «Сталин – это Ленин сегодня». Теперь он стал Вождем мирового пролетариата. И под его мудрым руководством происходило строительство социализма в СССР. А победа в Великой Отечественной войне сделала имя Сталина божественным. Он предстал земным Вседержителем, заменил людям Бога, изгнанного большевиками из сознания народа, из общественного бытия.
21 декабря 1949 года на торжественном заседании в Большом театре по случаю семидесятилетия И. В. Сталина было прочитано «Слово советских писателей товарищу Сталину». Стихи были написаны А. Твардовским в соавторстве с М. Исаковским, А. Сурковым и Н. Грибачевым. Вот некоторые строфы из этого «Слова»:
Великий вождь, любимый наш отец,
Нет, не слова обращены к Вам эти,
А та любовь простых людских сердец,