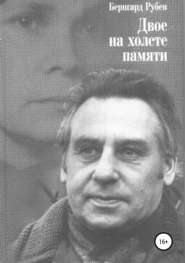скачать книгу бесплатно
Он взялся за обстоятельный ответ и набросал по обыкновению черновик. Потом переписал все письмо начисто:
«Дорогой Андрей Александрович,
должен сказать Вам, отцу Дины, что ближе и дороже ее, моей Дуни, у меня никого в жизни не было. Смерть Дуни самое большое и неизбывное мое горе. Горе это усиливается мучительными мыслями – а все ли я сделал, чтобы спасти ее? Что касается заботы, поддержки, любви, то тут, может быть, упрекать себя не в чем. Но вот относительно нашей передовой медицины терзают сомнения, мне все кажется, что можно было бы, если и не совсем вылечить, то значительно продлить Дуне жизнь, чего добиться я не сумел.
Дуня была для меня всем – и любимой женой, и другом, и моим ребенком, и матерью. Думаю, так же и я был для нее. Души наши были слитны, во всем полное согласие. Я всегда любовался ею, все в ней мне нравилось, все было мило, по мне, по сердцу. А она, помню, на мои нежные слова как-то ответила с улыбкой народной пословицей: «Вот – не по хорошу мил, а по милу хорош…» И была очень довольна этим подтверждением народной мудрости. Теперь у меня исчезла вся основа, не стало стержня в жизни. Вот что она была для меня. Так что слово «опекаемая» к нашей Дине не подходит. Она всегда – даже когда тяжело болела – обладала чувством собственного достоинства, оставалась собою, и заботиться о ней было для меня потребностью, радостью и счастьем. И все друзья относились к ней с большой любовью. А про себя я бы еще сказал, что мне хотелось служить ей, такую нежность я к ней испытывал. Да что говорить… Сейчас куда ни шагнешь, к чему ни прикоснешься, о чем ни подумаешь – везде слышу голосок моей Дунечки, вижу ее образ.
Природа одарила ее светлой и святой душой, добрым, любящим самое жизнь сердцем, тонким умом и стойким, сильным характером, который был в то же время и мягким, терпимым к людям, хотя подлость, нечестность она никогда не могла принять. А я видел в ней еще и чудесную детскость души. Эта детская чистота, непосредственность, бесхитростность остались в ней на всю жизнь. И потому я относился к ней так же, как к любимому ребенку.
Вы очень верно написали о том необыкновенном явлении ее души, в которой не образовывалось ни ущемленности, ни озлобленности, ни даже просто защитной хмурости вследствие той перенесенной в детстве болезни, а – лучезарная доброта к людям, мягкость в обращении с ними. При всем том, что она всегда умела себя поставить, была немногословна, внешне весьма сдержанна. А мне посчастливилось испытать на себе и ее женскую любовь, и я откровенно признаюсь Вам, что ее нежность была равновелика ее доброте.
Жили мы с Дуней хорошо – и весело, и согласно, и интересно, полной жизнью. И болезни никогда не одолевали ее душу, не брали верх над нею. Она стойко их переносила, и как только делалось ей легче, сразу же начинала, вернее, продолжала свойственную ей полноценную жизнь. В этом также сказывались ее характер и душа. Помню, когда ей сделали вторую операцию, она через день после выписки из больницы домой изъявила желание пойти вместе со всею нашей компанией на интересный спектакль, на который были у нас заранее куплены билеты. И в прошлом году, только вышла она после третьей операции, я повез ее подобным же образом на гастролировавший французский балет – как она сама того захотела, и осталась она очень довольна, хотя физически такой поход был ей еще очень нелегок. Она всем нам давала пример человеческого поведения и любви к жизни.
И я могу только быть благодарен Судьбе за то, что у меня в жизни была моя Дуня. Она и останется во мне, со мной навсегда. Да, все это так – когда пишешь письмо, когда забываешься и думаешь о ней, как о живой, и прошлое неразрывно продолжается в настоящее, и в этом совмещении пропадает разрыв жизни, совершенный смертью. Но момент проходит, и душа болит опять, и пусто, тяжело на сердце, и никто, ничто помочь тут не может.
Спасибо за приглашение приехать к Вам. Но, наверное, надо мне сейчас попробовать прийти в себя с помощью работы, самому, в своем доме. А потом, даст Бог, и повидаемся мы с Вами, мне также этого хочется.
Будьте здоровы, берегите себя.
Ваш Кортин.
4 января 1979 г.»
Он перечитал свое длинное письмо. Все, что он написал, было правдой. Но он сознавал, что, не будь на его совести по отношению к Дуне «брачной» царапины, в этом письме к ее отцу он мог бы и обойтись без ряда сведений и подробностей из их с Дуней жизни.
II
В те новогодние дни он ездил в самое престижное писательское издательство, где еще в Старом году должен был, наконец, пойти в набор составлявшийся им сборник воспоминаний о писателе Раткевиче. За это составительство, побочное для него дело, ставшее вдруг главным и поглотившее уйму времени в ущерб собственной работе, он взялся по принятому на себя солдатскому долгу: Раткевич благословлял его первую армейскую повесть.
Тогда, двадцать лет назад, Раткевич был яркой фигурой в литературном мире. Широкую известность он получил вскоре после войны, сквозь самый огонь которой прошел, воюя в пехоте и будучи дважды раненым. Человек на войне – в окопном быту, в постоянном соприкосновении со смертью, подвластный приказу, страху и в то же время со своим нравственным выбором – стал главной темой его повестей, которые, показывая войну как она есть, источали уже не ненависть и жажду мести, но печаль по людям, любовь к ним. Он начал писать эти свои повести сразу по возвращении с войны. Ему совсем не потребовалось времени на формирование, как Хемингуэю или Ремарку после первой мировой войны, – годы литературного ученичества и поисков, этот неизбежный, прослеживаемый Кортиным почти в каждой писательской биографии десятилетний срок, он прожил до войны, а бедствие ее осознал уже взрослым сердцем. И первая же его фронтовая повесть потрясла и знатоков и рядовых читателей: оставаясь свидетельством войны, она была провозвестницей другого, послевоенного мироощущения. Раткевич мгновенно сделался знаменит, о нем много тогда говорили, писали. Он был отмечен премией, носившей имя самого Сталина. На этой подъемной волне он смело двинулся своим путем дальше. Но тут же попал со второй повестью под жестокий удар и разнос, когда обстановка в стране круто изменилась и по велению победившего властителя свободный дух Отечественной войны, без которого невозможно было одолеть нашествие Гитлера, беспощадно сводился на нет. Провозвестие любви не сбылось, народ остался под прессом тирании, невзирая на многие миллионы жизней, оплативших Победу.
Однако позднее по высочайшему указанию Раткевич был вторично у д о с т о е н той именитой премии за роман, посвященный победному окончанию войны и значительно переделанный в рукописи под воздействием испытанной им идеологической проработки. И такое перемеженье стало даже его тактикой – написать более приемлемое, «лакировочное» произведение после сокровенно правдивого, дабы сбросить с себя злобную свору правоверных критиков, уцелеть, сохраниться на плаву в то лютое время и как-то продолжать свою тему. Он верил, что силы и возможности его безграничны и, по-видимому, не задумывался еще о расплате художника за подобные компромиссы.
Уже после смерти Сталина и его разоблачения Хрущевым, в несравненно более благоприятный период «оттепели» поднялась вторая послевоенная волна прозаиков-баталистов, о себе заявили писатели, бывшие на войне совсем молодыми. Они входили в творческую силу на этом новом подъеме общественного духа и, пройдя полагающийся им путь осознания и поисков, обрели известность своим словом правды о войне; а Раткевич, взявшийся за огромное полотно-эпопею, в котором намеревался дать картину жизни страны за целые четверть века советской власти, тем временем заболел и умер от рака желудка, не написав этой своей главной, как он был убежден, книги. И о нем вспоминали все реже – полузабытый писатель, не нужный боле предтеча. Такой представлялась теперь его судьба Кортину.
Этого Раткевича Кортин и считал своим литературным крестным – он был первым значительным авторитетом, одобрившим его повесть, причем живо откликнулся на коротенькое письмо незнакомого ему молодого человека, когда сам уже немало лет находился в центре общественного внимания. Конечно, Кортин обратился к нему, потому что восхищался его повестями. Однако в его выборе имелась и глубоко личная причина: он не хотел идти со своей рукописью к известным писателям, знавшим его покойного отца, тоже писателя, точнее, сценариста и драматурга, чья литературная судьба только обозначилась в довоенные годы в Ленинграде, но не раскрылась, а после войны и вовсе заглохла по трудному для него жизненному раскладу. Кортину было нужно не сочувствие, но беспристрастный приговор. Раткевич же не мог знать его отца – другое поколение, другое время, Москва. Он велел Кортину прислать рукопись, затем пригласил к себе домой, сразу категорически объявил, что ему н а д о п и с а т ь, и тут же, безжалостно цитируя, изругал за нелепые слова и фразы, попадавшиеся в повести, которые до того казались Кортину весьма образными находками. Не ограничившись советами и щедрыми пометками в рукописи, он прочел доработанную повесть еще раз, остался доволен тем, что было сделано, и дал Кортину лестные рекомендательные письма в Военное издательство, где издавался и сам, наказав сообщить, как пойдут дела.
Но близкого знакомства с частым общением между ними не возникло: сказалась разница в возрасте, в положении, да и щепетильность Кортина помешала ему закрепить отношения. Раткевича постоянно окружали люди – и маститые друзья-писатели, и тянувшиеся к нему мастера из других творческих цехов, и многие иные, кто напористо стремились быть его приятелями. А Кортин, в то время строевой офицерик, заверченный службой, только еще искал свой путь. И в личной жизни у него длилась полоса несчастий, начавшаяся со смертью отца. Так что он лишь заинтересованно следил за всем, что публиковал Раткевич и что писалось о нем – его тогда в очередной раз жестоко прорабатывали, причем не за собственные сочинения, а за «очернительную позицию» возглавляемого им литературного альманаха, и происходило это уже в «оттепель», в момент яростного контрнаступления консерваторов, подстегнутых венгерским восстанием. Потом опять и хвалили и ругали – за еще один проходной роман, за новую правдивую повесть, рассказы, которыми он то и дело перебивал работу над своей эпопеей.
Смерть его ошеломила Кортина – Раткевичу еще не исполнилось пятидесяти лет. И все ждали от него нового слова. Кортин присутствовал на его похоронах на Новодевичьем кладбище и впоследствии с горечью отмечал, как в недолгий срок имя Раткевича отошло в тень вопреки проникновенным надгробным речам руководящих писателей, искренним клятвам друзей, многочисленным некрологам, превозносившим его книги, талант и человеческие качества. И вопреки тому, что должно было быть всем очевидно: «вторая послевоенная волна» баталистов взошла не на пустом месте, сюжеты и образы этих новых, добившихся широкого признания писателей с несомненностью свидетельствовали и о том, как точно видели и мастерски воплощали войну в своих произведениях их предшественники и одним из первых – Раткевич.
Кортин успел подарить ему только одну свою книжку – ту первую повесть, которую Раткевич благословил в рукописи. Но навсегда запомнил его помощь «человеку с улицы», каким предстал перед ним тогда. И уже вернувшись в Москву из Заполярья, взялся за составление книги воспоминаний о нем, что, как зарок, тоже объявлялось на похоронах. Кто-то из близких друзей Раткевича начинал было это дело, да бросил – слишком много времени за счет своих книг требовало оно, связанное к тому же с обиванием административных порогов по поводу спорной и отодвигаемой в прошлое фигуры. Не обошлось и без возникших раздоров между вдовой и прежними друзьями-писателями. И дело заглохло, будто ждало столько лет именно его, Кортина.
А на дворе стояла уже иная пора, «оттепель» была задушена. И та печатная литература, которая стремилась быть правдивой, вынуждена была стать намекательно-подтекстовой. Книги теперь ценились главным образом по той мере правды, которую все же несли в себе, а читатели в свою очередь научились ловко выуживать эти зерна правды и были благодарны за них авторам – даже при неизбежной половинчатости и смазанности таких книг. Это было особое состояние допускаемого «подполья» – подполья книг в самих себе и подполья читателей в своем собственном сознании. Но среди всего обкорнанного литературного кустарника возвышались почти раскидистыми деревьями произведения тех нескольких писателей, чей талант и завоеванный шаг за шагом нравственный авторитет, громкая известность в стране и на Западе дали им неофициальное право далеко отодвинуть от себя запретительные барьеры и говорить если не всю правду, то уже столько ее, что не требовалось ничего выискивать, догадываться, ловить между строк – читай и бери прямо в душу… И тогда сами читатели, у которых в сознании имелся свой накрепко ввинченный персональный «внутренний редактор», в один голос изумленно спрашивали друг друга: «Как э т о пропустили? Как э т о могло быть напечатанным?!»
Кортин пристально следил за происходившими изменениями. Было несомненно, что нынешний «ползучий неосталинизм» слабее «классического». Тот мощно наступал, применял массовые репрессии, держал народы, замкнутые единой коммунистической идеологией, в страхе, вере, энтузиазме. Этот, защищая свои блекнущие основы, свою власть и благоденствие, вынужден был учитывать опыт кровавой сталинской тирании и недавнюю разоблачительную «оттепель», сочетал кнут с пряником, силу с подкупом нужных режиму общественных групп и массированно обрабатывал, оболванивал население всею мощью современной идеологической индустрии. Кортин видел: насилие и ложь поменялись теперь местами. Полем боя была психология людей, орудием тотального оболванивания – телевидение, радио, печать.
И Кортин, готовя сборник воспоминаний о Раткевиче, загорелся желанием приблизиться к тем, кто смел позволить себе больше других сказать правды. Почему бы и ему не сделаться Юпитером, а не оставаться быком?! С удивлением он сразу обнаружил, что начинать надо с самого себя, преодолеть прежде всего свою самоцензуру. Одно дело было читать «антисоветские» материалы дома, с Дуней, с друзьями, подпольно, другое – идти с подобными текстами в государственное издательство и предлагать для опубликования официальным лицам. Таких заведомо «непроходимых» материалов у него было немного, и принадлежали они большей частью умершим авторам, написавшим их впрок, «для внуков». Материалы эти вполне годились для любой «самиздатской» рукописи, и Кортину пришлось сделать над собою усилие, чтобы вложить их в рукопись сборника. Вот где была исходная точка, зачаток лживой книги – предварительный страх самого создателя. Страх этот логично и убедительно доказывал ему: данные материалы все равно снимут, зачем же начинать дело с конфликта, заранее раздражать редактора, состоящего на государственной службе, он ведь тоже человек. И от него зависит судьба книги… Возникший спор с самим собой разозлил его. На собственном опыте он со стыдом убеждался, что рабу свойственно приспосабливаться, угождать своему тюремщику и – добровольно надзирать свое рабство. В том советском литературном процессе, в котором все они участвовали, автор сам заблаговременно надевал на себя требуемые колодки и предоставлял своим редакторам комфортные условия для их работы. Для той работы, о которой Дуня, посмеиваясь над своей профессией, сказала однажды, что заключается она в превращении живого сочного дерева в обструганный телеграфный столб.
Прочитав наиболее крамольные материалы, отобранные в сборник, она взглянула на него вопросительно.
– Пусть о н и сами снимают, своими руками, а не моими. И пусть их гложет за это совесть, – ответил он.
Дуня помолчала, потом веско сказала:
– Снимут. И без малейших угрызений…
– Но без меня…
Она вздохнула, соглашаясь с ним и предвидя неминуемые осложнения, на которые он нарывался.
А он решил делать такой сборник, за который ему не будет стыдно. Он болезненно помнил ту недавнюю мясорубку, через которую пропустил его повести воениздатовский редактор. И теперь рассчитал так: чем выше он поднимет планку в начале работы, тем больше у него останется возможностей для маневра потом. А писательское издательство – все-таки не Воениздат, где за подобные «антисоветские» материалы наверняка бы пришили политическое дело с опасными «оргвыводами».
На сей раз ему повезло с редактором. Это был человек на несколько лет помоложе его, также «оттепельного» племени, порядком порастративший свое здоровье и годы в шумных городских компаниях и бивачных летних отпусках, но все еще державшийся за свой «джинсовый» стиль. Он был демократических убеждений и не возразил против большинства воспоминаний, отобранных Кортиным для сборника. Даже оставил в сокращенном им самим варианте наиболее интересный материал из числа крамольных, изъяв оттуда непроходимые места, за которые его самого тотчас выкинули бы из редакторов; тут его ножницы срабатывали жестко, соблюдая допустимый предел. Но многое в сборнике было упаковано опытными авторами достаточно искусно, сказано не в лоб, не дразня гусей, а – все равно сказано и было бы понятно читателю. Так что на этом этапе книга получалась вполне порядочной, правдиво рассказывающей и про самого Раткевича и – через его судьбу – об их времени, о войне и о послевоенной литературной жизни в родном отечестве. Каков и был общий замысел Кортина.
Здешняя издательская мясорубка заработала в кабинетах старших столоначальников. С ними редактор сборника спорить не мог. Он умело отошел в сторону, предоставив Кортину, как составителю, вести дальнейшую борьбу самому – что отстоит, тем и будет довольствоваться. Но изъятия в текстах, которых потребовали две начальственные дамы, главный редактор издательства и заведующая редакцией, безошибочно выхолащивали все то, что делало сборник порядочным. Требовали не упоминать о тех повестях Раткевича, которые прежде подвергались разносам, хотя впоследствии они переиздавались и даже оценивались положительно; нельзя было ничего говорить и о разгромленном литературном альманахе, возглавлявшемся Раткевичем на первоначальном подъеме «оттепели», и об его отношениях со все еще треклятым Пастернаком; и, строго-настрого, запрещалось вновь касаться сталинских репрессий – массовых арестов, расстрелов, лагерей для миллионов заключенных. Не было никаких репрессий в красивой и героической истории первого в мире социалистического государства. Хотя совсем недавно «лагерная тема» являлась открытой и самой жгучей в литературе. И этот запрет на уже известное превращал издательский процесс в фантасмагорию.
Передавая Дуне в подробностях свои переговоры с издательскими церберами, он характеризовал их словами Талейрана о возвратившихся Бурбонах: они ничего не забыли и ничему не научились. Но, конечно, действия их не были лишь инициативой самосильных энтузиастов прошлого. То было рьяное претворение в жизнь и д е о л о г и ч е с к о й л и -н и и единственной в стране партии, «руководящей и направляющей силы советского общества», как она сама себя провозгласила. Повсеместно, помимо официальной цензуры, занимавшейся государственными и военными секретами, вершилась другая, полугласная, но всеохватная политическая цензура под директивно-неопределенной вывеской «Главлит». Все, что издавалось и шло в эфир, что произносилось со сцены, эстрады, с экрана, должно было быть «залитовано» – иметь разрешительный штамп на обнародование. Эта тотальная цензура делала вид, что вроде бы и не существует, ибо орудовала безо всякого закона, и редакторам, с нынешним оглядом на Запад, даже воспрещалось ссылаться на нее, а все циркуляры, перечни, запреты Главлита скрывались от авторов, подчинявшихся своим редакторам вслепую. Да авторы и сами без секретных инструкций, собственным советским духом ведали – что проходимо, а что нет; у каждого, кто намеревался что-либо публиковать, кроме «внутреннего редактора» имелся еще и свой «компьютер», рассчитывающий варианты дозволенного в той или иной обстановке. Таковы были условия игры. Для тех же, кто не желал подчиняться этим правилам, оставалось или писать «в стол» или в «самиздат» и «тамиздат». Но в последних двух случаях надо было готовиться уже не к издательской мясорубке, связываемой непосредственно со Старой площадью в Москве, где мозговой цитаделью государства располагался ЦК, а к той самой, репрессивно-карательной, которая осуществлялась с соседней площади имени Дзержинского, достопамятной Лубянки, где главным опорным бастионом режима возвышался гранитный массив КГБ. Впрочем, сформулировал Кортин, перефразируя Маяковского, писавшего в поэме, что «Партия и Ленин – близнецы-братья», обе площади были «близнецы-сестры»…
Фантасмагория издательского процесса проявлялась при редактировании рукописей и в том, что редакторы во что бы то ни стало добивались от авторов д о б р о в о л ь н о г о согласия с их указаниями. Такое согласие как бы снимало клеймо незаконности с административного вторжения в авторский текст. И авторы соглашались, сами переделывали, вычеркивали, искали какие-то словесные обходы, иносказания. Лишь бы только выпустить книгу. Ибо весь этот процесс происходил под реальной, не фантасмагорической, угрозой запрета. Такая угроза парализовывала волю к сопротивлению. А многих авторов вообще психологически переводила под радикал удобного подчинения, как бы снимая с них самих всякую ответственность. Конформизм и цинизм успешно пускали корни в их сознание и поведение.
Кортину помогал теперь его воениздатовский опыт. Он на себе испытал, что идеологическая цензура вершится все-таки в подвижных границах, и у автора есть возможность противостоять хотя бы явному самочинству. Даже в Воениздате, борясь с редактором-самоуправцем за свою заполярную повесть, он нашел в конце концов поддержку у начальника-либерала. Так что воля сопротивляться у него была.
Вся хитрость заключалась в том к а к сопротивляться. Нельзя было допускать прямой конфронтации, тем паче скандала. Здесь дело проигрывалось напрочь – автор сразу становился «антисоветчиком», «психом», «хулиганом». Сопротивляться надо было спокойно, миролюбиво, даже улыбчиво и, если уж не вовсе по-христиански, то запрятав подальше всякую неприязнь, почти по-свойски. После Воениздата Кортин обрел долготерпение, так трудно дававшееся ему прежде, и не запаниковал, когда теперь рукопись сборника несколько месяцев выдерживалась, как под домашним арестом, в сейфе главного редактора из-за того, что он не соглашался на предложенные изъятия. Заведующая редакцией предупреждала его, что книга выпадает из плана, что никаких дальнейших гарантий на ее издание они не дают; давили и по финансовой части, не выписывая полагавшихся денег и подавая тем самым еще один предупредительный сигнал. Но он тоже брал их измором, дипломатничал, удивлялся, спрашивал простодушно «почему?», когда видел, что главлитовское насилие дополняется местным перестраховочным произволом. В отчаянный момент он включил в дело вдову Раткевича, и они написали обстоятельное официальное письмо главному редактору, чтобы отстоять – от нее же – два важных для сборника материала. Эта его последняя ставка имела в виду чиновничью психологию, на которую официальная б у м а г а всегда оказывала наибольшее воздействие. Только Дуня знала, чего стоила ему вся эта нервотрепка. Но то был его окоп, в котором он засел, мелкий окопчик, частный, он тут никак не преувеличивал, но все равно – его точка сопротивления…
Вместе с вдовой Раткевича раз он был в издательстве в ноябре, в тот просвет после обострения болезни Дуни, когда казалось, что они выскочили из сжимавшегося кольца. Он привез редактору несколько остававшихся у него воспоминаний фронтовых друзей Раткевича, причем часть этих материалов стилистически правила Дуня. В издательстве ему, наконец, объявили, что сборник запускается в набор. Письмо сработало. Тактика его оказалась верной. Главный редактор отступилась от сборника. Ее заместитель, сравнительно молодой и новый в издательстве человек, которому после долгой задержки была передана рукопись для окончательной чистки, проявил себя гораздо либеральнее начальницы; он спокойнее смотрел на былые литературные страсти и в рамках дозволенного действовал без самоуправства. Конечно, кое-что Кортину пришлось уступить, но это была все же небольшая толика того, на что свысока и так лихо размахнулась главный редактор, не ожидавшая вообще какого-либо сопротивления от неизвестного литератора. И это был для него некоторый реванш за те потери, которые он понес при издании своей книги в Воениздате.
Посещение издательства подтолкнуло его к работе. Он принялся опять за повесть, начатую около двух лет назад, но не доведенную и до половины. Повесть тоже была о Раткевиче. Она уже стала для него исключительно важной, даже предопределенной ему. Но когда он приступал к сборнику воспоминаний о Раткевиче, у него и в мыслях не было ничего подобного – только мемуарная книга, составляемая в благодарную память. Потом, по мере погружения в обширный материал, он, конечно, загорелся собственным анализом его жизни и характера. Особенно захватывающими были письма самого Раткевича и относящиеся к нему документы периода войны, которые вдова опубликовала цельной подборкой десять лет назад и которые Кортин прочел лишь теперь. Однако и на этой стадии он еще не думал ничего писать о нем – кроме тех давних своих страничек об их первой встрече, посланных вдове после смерти Раткевича. Он был уверен, что все его попутные психологические «размотки», сделанные спустя столько лет, давно раскрыты друзьями-писателями, близко соприкасавшимися с Раткевичем многие годы. И ждал непременного поступления в сборник этих материалов. А прежде всего он нетерпеливо ожидал подтверждения одного своего открытия, ставшего для него очевидным в судьбе Раткевича. И как раз именно такого истолкования не оказалось в мемуарах даже тех друзей Раткевича, кому все карты были в руки, чтобы блестяще написать об этом. Да, они блестяще написали о Раткевиче, но не о том, о чем думалось Кортину. Они писали о своем. Втайне он надеялся, что так и получится. Вот тогда, словно по разрешительному знаку, и вырвалось наружу исподволь созревшее в нем желание самому воссоздать жизнь Раткевича. Наверное, это было неизбежно после того, как он вобрал в себя столько материалов. Ведь он был не из литературоведов, кто чаще всего и составлял подобные сборники, а какой-никакой, но сочинитель повестей.
У него сразу возник напряженный сюжет, придумалось нужное название и быстро проработался подробный план всей повести. И тут же на одном дыхании, он написал тогда две большие главы. Он писал с воодушевлением, чувствуя, что наконец-то выходит – впервые! – на широкий литературный простор, за локальные рамки своих армейских повестей. Но потом на них с Дуней обрушились ее повторные операции, а еще надо было сдавать в издательство сборник самих воспоминаний о Раткевиче, та рукопись занимала письменный стол, и работа над повестью пошла урывками, пока не оборвалась совсем…
Он листал написанное, восстанавливая для себя, будто далекое прошлое, детали, внутренние связи, общее течение повести, все, что было там уже сделано и намечено в его прежней жизни. Он вошел в работу, кое-что дописал, переставил по своим наметкам, почувствовал вновь атмосферу всей вещи и живительную для него силу самой работы. И в то же время он вдруг с недоумением заметил, что литература сейчас не самое главное для него, как он считал всегда, а лишь один слой его существа. Произошло какое-то вулканическое перемещение и обнаружилось, что сокровенность его души связана прежде всего с Дуней. Это пока она была жива, ее присутствие привычно воспринималось им как бы извне, через свою повседневную самостоятельность. Теперь стала явной сама суть, которой он жил и живет.
Он смирялся с тем, что Дуня телесно отделилась от него, что она находится за каким-то своим пределом, и эта грань между ними никогда уже не даст им быть вместе физически, сойтись рука к руке, сесть рядом, ощутить тепло друг друга, живую, реальную их совместность. Но с неменьшей реальностью он чувствовал, что душа ее витает около него, сопровождает, печалится, видя, как он тяжко горюет, судит себя, как колотится о муторный быт, одиноко и неприкаянно идет по улице, под вечер забредает в какую-нибудь закусочную или столовую, машинально жует там что-то несъедобное и продолжает свой одинокий путь. Но видит все это она уже с безмолвной и вышней грустью т а м о ш н е г о понимания здешней жизни с данными людям законами и неизбежными их страданиями. И он понимал, что она, его любящая и любимая Дуня, имеет право смотреть так, со стороны, потому что сама уже перешагнула тот таинственный рубеж, который для живых непостижим и пугающ, а для многих страшен до ужаса, даже до помешательства. Он думал о том, что каждому в свое время предстоит перейти этот рубеж земного бытия – перемахнуть легко, сразу или переползти с мучениями. Ее отважная душа свободно вылетела из тела, которое неотступно сжали тиски физического разрушения. И теперь он, Кортин, на себе испытывал завораживающий искус, тысячелетиями будоражащий ум людей, – установить связь, представить себе, постичь тот мир, в который ушло твое любимое существо и в который в назначенный срок переместишься сам.
Он спрашивал себя: что есть человек? Тело? Но оно бренная основа, имеющаяся у всякого животного, начало наших плотских потребностей, вожделений, чувствований, пусть и весьма утонченных в развитии. Ум? Тоже нет, ибо собственно ум, «голый интеллект», лишен морального вектора, безразличен к нравственности и в качестве аппарата познания, управления, изобретательства может быть употреблен как на добро, так и во зло. Главное в человеке, ядро, средоточие всей его натуры – душа, каковой она в нем образовалась и развилась. Вот его непреходящая сущность, дающая направление и его телу, и уму. И благословенны души, в которых светится Добро и Любовь.
Он чувствовал душу Дуни рядом с собой, в себе. Это был освободившийся от больного тела чистый и святой ее д у х, она сама, суть, весь сгусток ее. Но одновременно перед его глазами стоял ее зримый образ, какою она реально была в жизни, – ее улыбка, тянущиеся к нему при встрече губки, вся ее фигурка, вызывающая у него нежность и бережность, ее речь, взгляд, голосок. И ее бесплотный дух был непредставим без ее действительного образа, ставшего ему привычным и милым, несмотря на физический недостаток.
Он жил в неустойчивом состоянии, как бы ожидая, куда толкнет его внутренний маятник, и не сопротивлялся ни этому своему пассивному ожиданию, ни любому возможному исходу. Костер собственного суда не разгорался более с пожирающей силой, только тлел. Работа принесла отраду, в ней открывалась ему надобность и привязка к жизни, цель и средство жить. Это было и Дунино завещание, и его жизненный обет – написать свое главное. Но горе не отпускало, а работа не заполняла образовавшуюся пустоту в душе, проходила вне ее. И пустота эта гасила его жизненные силы, пронизывала тоской небытия, лишала опоры в себе. Спасение от ее холода могло дать только человеческое тепло, и он каждодневно надеялся на живительный обогрев от встречи с приятелями, ждал их прихода к себе или зова к ним. В молодости он всегда заставлял себя «держать марку». Сейчас он не ставил перед собою задачи во что бы то ни стало выглядеть молодцом и скрывать ото всех, как ему тяжело. Но и просить самому помощи у кого-либо было для него невозможно. Он ни к кому не напрашивался в гости, не звонил с отчаянья, когда не находил себе места и готов был завыть дома от тоски. Он упрямо полагал, что и так всем видно, что с ним творится, и тот, кто хочет поддержать товарища, должен это сделать по собственному побуждению. Как делал это всегда он сам.
Однако нынешние его друзья-приятели отделывались редкими телефонными звонками и не торопились повидаться с ним. На неделе все они были заняты на службе и спешили домой, чтоб отдохнуть, а в субботу и воскресенье их поглощали давно намеченные и неотложные семейные дела.
Спрятаться от одиночества в первые выходные дни после Нового Года, когда он особенно ждал общения с кем-либо из них, ему помогла работа. Но дружная отстраненность приятелей больно задела его. Чтобы не поддаваться обиде, он поиронизировал над человеческой природой. Конечно же, невесело навещать товарища, у которого горе; и коли к себе позвать – оно притащится вместе с ним, нарушит мир твоего дома. Вот и способнее каждому из них предположить, что кто-то другой наверняка уже обогрел страждущего, а себе назначить следующий раз. Не зря говорится: Иван кивает на Петра…
Проявившееся все же раздражение на приятелей вызвало у него недовольство собой. И тотчас вспомнилось, как Дуня одним своим присутствием поворачивала его к терпимости, мягкости, большей доброте к людям, даже если они были неправы. Она никогда не спорила с ним, слушала его доводы и рассуждения, принимала, казалось, их бесспорность, предоставляя в то же время ему самому, отойдя от прямой логики и твердых принципов, прислушаться к своему сердцу. А он слушал ее сердце, которое не соглашалось с его максимализмом в отстаивании истины, но и не противостояло ему, ибо любило его таким, каков он есть. За то, наверное, и любило. Ему подумалось теперь о другой крайности: никого, ни за что, никак не суди. Но эту мудрость и в нынешнем своем положении он отверг – он не намеревался судить, он не мог не иметь своего суждения.
Среди дел, которыми он старался себя загружать, была почти ежедневная езда в Измайлово. Больше ему и некуда было ехать. В Замке он не чувствовал своего одиночества. Здесь Дуня была ближе всего к нему. Все в доме было пронизано ею, несло на себе прикосновение ее рук, находилось под ее взором, служило ей и получало от нее полагающуюся хозяйскую заботу. Здесь он не размышлял о своих друзьях-приятелях. Садился на диван или в ее кресло и на какое-то время обретал устойчивость, как одинокий измученный пловец, очутившийся на островке, где он мог передохнуть, но не имел права оставаться надолго. Потом понемногу укладывал в картонные коробки кое-какую утварь на кухне. Он помнил о сроке передачи квартиры, но все еще сохранял ее внешний облик.
Каждый раз перед тем, как подняться сюда в лифте, он по обыкновению заглядывал в Дунин почтовый ящик, и в один из вечеров достал письмо. При тусклом лестничном освещении он разглядел лишь то, что оно адресовано Е.А. Никольской. А войдя в квартиру, обмер: конверт был надписан Дуниным почерком. Сама себе пишет! Но он быстро нашелся, вспомнил, что это, наверное, извещение от тех бескорыстных добродеев, которые у себя на дому производят милил, грибок, во многих случаях, как шла о том молва, способствующий рассасыванию раковых опухолей. Фамилия этих людей, мужа и жены, была известная на слух, из ученого мира, немецкая или еврейская; говорили, что кто-то из них из семьи академика, что они многажды обращались в министерские инстанции с этим своим милилом, чтобы там официально проверили его свойства, убедились в пользе и наладили промышленное производство, как лечебного средства; но ответ получили отрицательный – мол, не лекарство это от рака, а простоквашка. И тогда они сами в домашних условиях стали регенерировать этот грибок, благо в министерском заключении он признавался не только бесполезным, но и вполне безвредным, и бесплатно, по строгой очередности выдавать всем, кто у них просил. Обращаться к ним велели только письменно, дабы придать доброму делу нужный порядок и не превратить свой дом в проходной двор. Очередь установилась огромная. Судя по всему, они были истинно интеллигентными людьми и подвижниками, и выдавали свой милил бесплатно не только потому, что опасались нарушить официальное постановление о бесплатных лекарствах для онкологических больных и тем дать властям повод преследовать их, но также из чисто нравственных побуждений. Единственное, что они требовали, это вложить в направляемое им письмо пустой конверт с маркой и надписанным адресом просителя – для извещения его о том, когда и куда приехать за лекарством, – избавляя себя от лишней писанины и почтовых расходов.
Дуня посылала им письмо летом, но забыла, как потом призналась, вложить пустой конверт и потому не попала в очередь, этот порядок там блюли автоматически. Но тогда она пользовалась милилом, который Кортин привозил от знакомых, где в доме была та же беда. Вскоре тот милил кончился, вернее, как они все посчитали, потерял свои качества от неумелого самодельного воспроизводства. И после затянувшегося перерыва, что было еще одной их халатностью, уже глухой осенью, не получив ответа на давно посланное Дуней письмо, он сам поехал по имевшемуся адресу, и там вежливая, но немногословная женщина, промежуточное лицо, стоящее на страже дома, не вступая в объяснения, посоветовала написать еще раз…
Так оно и оказалось: «Приезжайте за милилом 14 января в 3 часа по адресу…» Кортин снова взглянул на конверт. Еще один укор этому свету от Дуни, надписанный ее рукой. Косвенный укор, ибо сама она никогда не роптала, никого ни в чем не обвиняла. А милил, если бы его принимать регулярно и длительно, помог бы ей. Запоздалое подтверждение его лечебных качеств укололо Кортина в разгар осеннего обострения, когда он за немалые деньги покупал у одной ученой дамы со званием члена-корреспондента медицинской академии препарат вакцины, разработанный при ее активном участии для других, не онкологических, болезней. Теперь она выдавала эту вакцину и за панацею от рака. У этой дамы имелась специальная подручница для практических консультаций на дому, врач, знавшая, судя по ее саморекламным словам, все ходы и выходы в Главном онкологическом центре, где она работала прежде, и уклонявшаяся назвать место, где она работает ныне. Кроме денег за сам визит, она, прощаясь, хватко вытребовала у Кортина еще дополнительную сумму под видом оплаты ее езды в такси. Хотя станция метро находилась в пяти минутах ходьбы, и было ясно, что ловить такси на трассе в другой стороне от дома Дуни она не станет. Вот эта-то оборотистая толстуха, пахнущая потом, уточняя ему схему применения вакцины, с минутной доверительностью и заявила вдруг: «Зря вы прекратили принимать милил». Это прозвучало как явное признание милила, бескорыстно предоставляемого больным интеллигентами-подвижниками, и, в сущности, перечеркивало лечебную ценность вакцины, на которой зарабатывала ученая дама со своей артелью.
Все это вспомнилось ему сразу, когда он, стоя в пальто в прихожей, перечитывал лаконичные машинописные строчки, указывающие на еще один возможный, но упущенный шанс спасения Дуни. Он разделся, вошел в комнату, сел в ее кресло, но никакого устойчивого островка под ним уже не было. Только давящая отовсюду тяжесть. У него разболелось сердце, и он с трудом вернулся домой к ночи.
И днем он недомогал, прекратил работу, лежал, дочитывая роман Каверина в «Новом мире». Никто из приятелей ему не звонил, он пролежал весь день в одиночестве, не работал больше, не вышел на улицу, не брался за свой дневник. Конверт с запоздалым извещением вышиб его из наметившегося было шаткого равновесия, внутренний маятник вдруг заходил размашисто и беспокойно. Его опять закачало, почва ушла из-под ног, все переживания обострились и подобрались в единый беспросветный ряд – тяжесть самообвинения, удушье одиночества, обида на приятелей. Он чувствовал свою посторонность окружающему миру, и мир этот также казался ему чужеродным, потому что в нем не было Дуни.
У него продолжало болеть сердце и ныли, не переставая, левое плечо и рука, выделившись изо всего тела в замкнутую недужную зону. Он почти не выходил из дому и укладывался поздними вечерами в постель с мыслью о том, что не проснется утром – не выдержит сердце, оборвутся последние ниточки, связывающие его с этой жизнью. И он думал, что это был бы вполне закономерный исход. Ведь говорили же в старину: «Умерла (реже – умер) от разбитого сердца». Врачей он не вызывал, лекарств не принимал, за жизнь не цеплялся. Страха он не испытывал, и был этим удовлетворен. Очевидно, приятие своей участи отодвигало страх. И суету. Но наступал еще один день, затем еще один. Его жизнь продолжалась, и как видно, это тоже было пока его участью.
Он возобновил поездки в Измайлово. Его тянуло туда, в Замок. Там ждали его дела, которыми он должен был заниматься несмотря ни на что. Однако за внешним ходом продолжившихся дел он сознавал, что двигается по некоему предначертанному пути, ожидая своей конечной участи, что не волен в себе. И действительно подошел к тому январскому дню, ставшему для него достопамятным.
Это была пятница. Еще одна пятница. С утра у него ныло сердце, он лежал до полудня, потом записывал в дневник, подытоживая свои размышления об отношениях с людьми. Но думал теперь не об их черствости, а о надобности самому быть терпимым и добрым, помнить, как относилась к людям Дуня. Вот в чем был корень: нельзя раздражаться, нельзя никому предъявлять претензии, пусть даже самые справедливые. Тем паче в его состоянии, когда сил у него ни на что не осталось, только бы самому устоять и за работу приняться; а другие – пусть живут, как знают, жизнь сама их научит и прояснит что нужно. Ты же помни даденое, не пеняй недоданным…
Он немного разошелся за этими записями и поехал в Замок, где должен был встретиться с Ниной Григорьевной. Она все еще отбирала для продажи Дунины вещи. И пока он находился в Замке не один, упаковывал на кухне посуду, а Нина Григорьевна занималась платяным шкафом, этот январский день вроде бы не выходил из ряда других – такой же день, как и предыдущие, ни легче, ни тяжелее, обычный теперь. Но вот Нина Григорьевна ушла, и что-то быстро изменилось. Все вокруг него и внутри, сомкнувшись, стало ощущаться непомерным раздавливающим его грузом. Он точно попал в двойной пресс, который в своем встречном движении проходил сам через себя и потрошил таким сквозным образом его существо. И когда ему сделалось совсем невмоготу, он, не в силах понять, что с ним происходит и куда ему бежать, остановился посреди комнаты и спросил вслух:
– Дуня, ты влечешь меня за собой? К себе?
Спросил без сопротивления, чтобы знать. Совершавшееся с ним должно было быть связано с нею, с ее тамошним нахождением, в этом он не сомневался. И вскоре ему стало чуть легче, смертельная тоска несколько отпустила его. Дуня помогла, извернулась, подумал он. Он почувствовал, что сама она не тянет его за собой, что ее завет – «Живи!», как она написала ему. Но сжимавшие его тиски оставались, он был в их власти и не ведал, надолго ли хватит ее облегчительных усилий. Мелькнула мысль, что теперь он сам должен помочь себе. И все старания его сразу устремились к тому, чтобы побыстрее выбраться из Замка, попасть в свои Сокольники, там, верилось ему, он окажется в безопасности. Он не медля, по-военному четко, как бывало в полку по тревоге, собрался, вышел из квартиры. На улице, в те несколько минут, что отделяли его от метро, он настороженно следил, как опустошенность и зыбкость его разваливающегося земного существования двигаются вместе с ним невидимой и погибельной тенью, которая никак не отставала, но почему-то и не набрасывалась на него в этом удобном, темноватом и пустынном, месте, чтобы поглотить окончательно. Что-то мешало такому ее последнему прыжку. И он даже почувствовал вдруг упругость своего шага. У входа в метро он подумал, что спасся, здесь было светло, были люди, следовавшая за ним тень, должно быть, не могла сюда войти. Но когда он спустился и сел в поезд, его угнетение опять усилилось, он явственно ощутил, что теряет себя, что в нем больше нет Дуни, ее душа покинула его, и он стал теперь беспомощным одиночкой. Тем не менее, он продолжал ехать, думая только о том, как бы перетерпеть весь этот разлом его естества, дотянуть до дома, до своих стен. Но на широких каменных ступенях перехода со станции «Арбатская» к своим Сокольникам он с холодным ужасом внезапно осознал, что его самого уже нет на свете. Да, он перемещался, шел в своем тяжелом ратиновом пальто, в зимней меховой шапке, спускался по каменным ступеням, занимал место в пространстве, и никто из встречных или идущих следом людей на это место не заступал, видя, что тут есть человек, плотный по виду мужчина. Но сам-то он совершенно точно з н а л, что никакого человека здесь на самом деле нет, что это одна видимость, ибо у него не стало собственной души, что душа его в тот момент уже устремилась вослед за Дуниной душой, и ему предоставлялось теперь лишь оцепенело взирать, как свершается здешнее уничтожение его бренной оболочки. Он был во власти господствующих над ним сил, которые вынули из него душу, оставив невидимо кровоточащую пустоту в груди, и пустота эта распирает его с космической неотвратимостью, и вот он, все сознавая, ждет, что сейчас будет разорван и рассеян или просто испарится на этих каменных ступенях, не оставив на них никакого следа, отпечатка. И никто из окружающих даже не заметит его исчезновения – ведь его уже и нет среди живых, он уже по ту сторону…
А между тем он все продолжал спускаться по этим широким ступеням, с одной на другую, ожидая на каждой из них своего уничтожения, но не прекращая движения; потом он так же обреченно шел по платформе; потом стоял на этой слишком просторной платформе под высоким сводом станции, видный отовсюду, как на лобном месте, в ожидании поезда и того неизбежного, что все равно успеет произойти с ним до этого прибытия. Ни спрятаться, ни скрыться он не пытался. Ничего живого, человеческого в нем уже не оставалось, разве что вот это истошное понимание своего несуществованья и этот последний несуетный страх перед конечным физическим распадом. И все-таки он ждал поезда.
Он глянул в тоннель, откуда приближались шум и свет. Подошел сверкающий поезд. Стал вдоль всей платформы, раскрыл все двери, выпустил немногих в ту пору пассажиров и стоял с полностью раскрытыми дверями для тех, кому надо было садиться. Ничто не воспрепятствовало Кортину войти в него. И ничто не помешало потом закрыться за ним раздвижным дверям вагона, принявшего его в себя. Они сдвинулись с глухим ударом черных боковых прокладок из жесткой резины, напрочь отсекая его и от лобного места платформы, и от Голгофы широких каменных ступеней, спускавшихся к ней. Затем поезд тронулся и так же беспрепятственно покинул эту станцию.
Кортин сел, поставив на пол свой чемоданчик, достал из бокового кармана чемоданчика тоненький сборник стихов Новеллы Матвеевой – он всегда имел с собой какое-нибудь чтение. Он извинился, когда его чемоданчик на полу качнулся на ногу соседа, молодого человека с бородкой, вежливо ответившего ему на извинение. Тот тоже читал. Кортин ухватил на странице в его книге имя – Д’Артаньян. Словно ощутив в руке канат спасения, он воскликнул про себя: «Вот что я возьму сегодня читать перед сном!» Должно быть, некая добрая к нему сила, сохранив его в обход высшей и бесстрастной, вершившей общее предначертанье, но не вдававшейся скрупулезно в отдельные частности перевода душ в иной мир, теперь подавала ему и этот знак поддержки.
Дома он достал с самой верхней полки «Трех мушкетеров», любимейшую книгу своего отрочества. В ту пору он легко пересказывал ее почти наизусть с любой наугад открытой страницы, а диалоги в захватывающих местах декламировал про себя слово в слово. Он листал теперь книгу, лежа в постели, читал, вспоминая отдельные эпизоды, и что-то жизнестойкое, даже радостное, как из тех благословенных лет, возникало в его побаливающем, но живом сердце. Ему стало спокойнее и теплее. Очевидно, в него вернулась тогда душа. Было давно заполночь. Пятница кончилась.
И настали очередные выходные дни. Он прервал свои поездки в Измайлово, осознав, насколько обманчивым было его забытье там. Каждый его шаг, взгляд, прикосновение в Замке – все вызывало ответное облучение горестью о Дуне, о них обоих, о том, что здесь было и кончилось. И, спасаясь в Замке от одиночества, он в то же время попадал под воздействие этой растравляющей душу радиации.
Оставшись дома, он тем сильнее надеялся пообщаться в эти дни со своими приятелями. Особенно хотелось увидеться с Сергеем Коробко, с которым он был дружен ранее нынешней компании. Коробко заведовал одной из редакций в Центральном партийном издательстве, но был человеком «оттепельных» взглядов, и редакция его, возникшая в тот благословенный период, также считалась до сих пор весьма приличной, несмотря на саму «фирму». Кортин испытывал к нему давнее тяготение и почитал за глубокий ум. А Коробко и его жена Ольга, значась его друзьями, соблюдали некую тонко ими устанавливаемую и трудно уловимую для прямодушного Кортина дистанцию и имели, как с опозданием догадывался Кортин, еще свой, отдельный от него, круг общения с наиболее почитаемыми авторами, издававшимися у Сергея. С компанией Кортина и Дуни они соприкасались только при сборах у него в Сокольниках. И Новый Год неизменно встречали дома, своей семьей; потому Кортин и отклонил сделанное ему на этот раз, после смерти Дуни, приглашение прийти на Новый Год к ним, и Сергей нисколько не настаивал, не уговаривал, сразу принял его отказ как должное. Но, несмотря на все подобного рода пометки ума, сердце его стремилось к Коробко и видело в нем достоинства, пропуская недостатки.
Но никто из близких приятелей ему в те выходные даже не позвонил. Коробко молчал уже две недели, Мильчин декаду. Единственный, кто позвонил ему в субботу, был Кованов, пригласивший его поехать на днях в Михайловское, «к Пушкину», как он выразился. Туда направлялись на экскурсию преподаватели техникума, в котором работала его жена, и у них оказалось свободное место. Кортин встрепенулся – да, надо проехаться, оторваться от дома. И тотчас вспыхнуло – опять из Дуниного последнего письма: «П о п у т е ш е с т в у й!» Она ведь составила ему целую программу, чтобы он выжил после ее смерти.
Конечно, Михайловское было не путешествие, три дня всего, но все же поездка, отвлечение, так нужное ему сейчас. И время поездки подходило – как раз между его днем рождения и Дуниными сороковинами. А он был чуток к таким совпадениям, принимал их за перст судьбы. Он согласился поехать, выразил Ковановым признательность и даже сходил с ними вечером в кино, соблазнившись фильмом Эйзенштейна «Иван Грозный». Это была вторая серия, запрещенная тридцать лет назад Сталиным, а нынче допущенная на экран, как либеральная подачка властей. Но не такой фильм нужен был сейчас Кортину, он с трудом дотянул до конца.
После кино они прошлись втроем по ночной Москве от Никитских ворот к Манежной, по самому центру, мимо Университета, где он учился заочным порядком в молодые офицерские годы, мимо державного Кремля, и эта прогулка внесла наконец в его душу успокоение – и тишиной, и стариной, и присутствием рядом с ним людей.
Но воскресенье он опять провел в полном одиночестве. За работу не брался, писал с утра свой дневник, все еще ожидая телефонных звонков от своих приятелей. Никто, однако, не звонил ему, только Кованов уточнил по телефону его паспортные данные для внесения в список едущих на экскурсию – нигде не обходилось без анкетных формальностей. Сам он тоже никому не звонил, сказав себе, что пусть он лучше загнется, нежели подаст им сигнал SOS. И по справедливости тут же признал, что в таком случае у него тем более нет резонов кого-то упрекать. Очевидно, его приятели привыкли считать, что Кортин – сильный человек, со всеми бедами справляется стойко, и сейчас им было удобно так думать и сообразно вести себя. Так что ему самому надо было выбираться из-под обломков его рухнувшей жизненной постройки.
Он понимал, что выстоять ему должна помочь работа. Теперь работа приобретала для него значение и обещанного Дуне и завещанного ею дела. «Т е б е е с т ь ч т о с к а -з а т ь, и т ы т е п е р ь в с е с м о ж е ш ь», – написала она ему. Первоочередными были две вещи – повесть о Раткевиче и повесть о друзьях молодости. Вот о прочитанных страницах этой последней Дуня и воскликнула удивленно и радостно: «То самое…» Как всегда, она была немногословна, как бы сама себя прервала, чтобы не высказаться наставительно, что именно э т о г о давно ждала от него.
Он был обязан написать эти свои книги. И еще одну, самую, должно быть, главную, которая зарождалась в его душе, – о Дуне. С таким настроением он и встретил свой день рождения, наступивший ровно через месяц после ее смерти, в то же число. Он решил сделать этот день истинно рабочим, как бы исходным для своего возрождения. Тут он прежде всего связывал свои литературные надежды с повестью о Раткевиче. С ее написанием и публикацией. Он работал в течение всего дня, отвлекаясь одновременно на телефонные звонки – наконец-то прорвался заслон отстраненности, окружавший его в последние недели. И эти телефонные звонки совсем не мешали ему работать, они были нужны ему, он говорил с охотой, не спеша, иногда продолжительно, переводя разговор на воспоминания о Дуне после того, как выслушивал добрые пожелания себе. Подходили ее сороковины, и Кортин почувствовал, что у всех друзей появилась потребность отметить этот день. Их души пришли в движение, это было явно. И он говорил всем, что Дунин Замок – стоит, всё там по-прежнему, на месте, и можно собраться именно там, в Измайлове, в последний раз в её Замке.
В этот день он закончил вторую главу повести о Раткевиче и сделал там всё, что хотел, – удачно дописал, перекомпоновал, отредактировал. А телефонные звонки продолжались до самого вечера. Последним позвонил Коробко. Еще днем пришла от их семейства телеграмма, и Кортин подумал, что лучше бы Сергей позвонил ему и не нужно никакого красивого праздничного телеграфного бланка, это только по видимости эффектнее, а для него суше и пустее, чем живой голос; а еще лучше – зашли бы они, безо всякого приглашенья… Но вот Сергей и позвонил, если не зашел, и они по-доброму поговорили, и тоже условились насчет сороковин.
После этого разговора он достал из холодильника полбутылки шампанского, оставшиеся от Нового Года, и выпил, потягивая под яблоки и «мишки на севере», два бокала. Эти «мишки» он удачно, как подарок, купил сегодня по дороге из кафе, куда заходил перекусить-пообедать. Так он отметил свои пятьдесят три года, почтенный возраст, в котором ни загадывать далеко, ни откладывать свои дела уже нельзя. Когда скупой счет и отсчет времени – не скаредность, не черствость, но необходимость и благо. И когда всё еще возможно сделать что-то важное, главное, особенно тому, кто столь запоздало находится, как он, на пороге своих возможностей.
Как и в новогоднюю ночь, он сидел в своем кресле перед телевизором, поглядывая на пустое Дунино кресло. Он пил чай, смотрел телефильм по Чехову – шли «Три сестры» – и жалел добрых, честных, неумелых и беззащитных героев пьесы. До чего же грустная была жизнь у тех людей, несчастная, неудавшаяся. Да она и вообще такая для многих на этом свете. Чаще всего для тех, чью жизнь он обозначил бы как «путешествие дилетантов» – по прелестному названию романа Булата Окуджавы, недавно опубликованного и прочитанного им и Дуней. Однако сколько же этой несчастности и неустроенности – от самих людей, в них самих, от их инертности, прекраснодушия, смешанного с эгоизмом, даже от хорошего в них, не только от дурного, дурные-то как раз не страдают, теснят хороших. И ему захотелось крикнуть всем – и тем, кто мучился на экране, и тем вокруг, кто был жив-здоров, но ходил в несчастных: «Милые, это еще не горе, и всем нам должно помнить про самую страшную беду над головой».
За всеми этими делами у себя в Сокольниках, не посещая Дуниной квартиры, он вроде вошел в какую-никакую колею, и экскурсия в Михайловское представлялась уже ненужной. Ему расхотелось ехать: ранний выезд, длинная утомительная дорога в автобусе, наставшие январские холода. Да тут еще сделался опасный гололед по сильному морозу после двухнедельной гнилой погоды. Об этом гололеде и дорожных катастрофах с утра до вечера говорилось по радио и телевидению. Приводилась впечатляющая статистика. Кортин подумал о себе, как о бобыле, за которым и ухаживать некому, если он заболеет или попадет в аварию. А случись наихудшее, так и вообще некому толком распорядиться ни его сочинениями, ни архивом, ни всем другим достоянием, и не напишет он своих намеченных книг. Куда уж ему рисковать сейчас и изнуряться после всего происшедшего. Но все эти разумные и жалостливые доводы произвели в нем, как всегда, обратное действие: согласился ехать – поезжай, пройди свою судьбу, не уклоняйся. И коли пройдешь благополучно, значит, Великая сила еще за тебя, живи, работай, исполняй свой обет. «Наш рок – наш характер», – думал он, когда невыспавшийся и хмурый, прибыв первым поездом метро к Белорусскому вокзалу, стоял на морозе под ночным небом вместе с Ковановыми в ожидании их автобуса, затерявшегося на площади в массе разнородных экскурсионных машин.
Экскурсия была стремительной, с неминучей беглостью осмотров и клочковатостью получаемых сведений. К тому же и сами путешественники желали охватить как можно больше пунктов, заехать по пути и в Псков, и в Новгород, и в Печоры – пусть на час всего, да отметиться – были! А чтоб воспринять увиденное сердцем, такой задачи у большинства не было. Оставаясь от этих страстей в стороне, Кортин вспоминал, как позапрошлым летом ездил сюда, в Пушкинские горы, из Ленинграда на автомашине со своими школьными приятелями. Тогда он ехал, зная, что Дуня дома, на месте, ждет его, и все в их жизни идет опять своим чередом – после ее второй операции. Теперь ее не было ни в Измайлове, ни в Сокольниках, он вез ее только в душе своей. И все время думал о ней. Сначала, наблюдая за Ковановыми, он невольно сравнивал его жену с Дуней и отмечал про себя: «Нет, Дуня бы мне так не ответила, Дуня бы так не сказала, не поступила…» Потом и сравнивать перестал, просто вез ее в себе. И на всем пути, даже резче, чем дома, он чувствовал свою неприкаянность в окружающем мире и шаткость единственного его прибежища в собственной больной душе.
Поездка окончилась без происшествий, но отвлечения не принесла. Она лишь подтвердила ему и без того известную истину, что куда бы ты ни отправился, ты повсюду повезешь с собой самого себя.
Часть вторая. Две судьбы
I
Накануне сороковин он поехал в Измайлово, чтобы подготовиться к этому дню и придать квартире должный вид. У него был намечен целый план подготовки, и в первую очередь он занялся ее книгами – теми, которые Е.А. Никольская выпускала в свет как редактор и которые затем дарились ей благодарными авторами. Со всею массой этих книг он столкнулся год назад, когда она лежала с сильной простудой, а он ухаживал за нею и в один из дней взялся с ее позволения навести порядок в кладовке. Дуня давно запихнула их там на самый верх, не заботясь о какой-либо систематизации и вперемешку с другими ненужными ей книгами. Еще немало отредактированной ею продукции, особенно первоначальной, она и вовсе не сохранила по своему легкому, в отличие от Кортина, отношению к архивности. А в комнате, в застекленных книжных полках, оставила только нескольких своих авторов, весьма известных писателей и приятных, близких ей по духу людей, произведения которых вполне могли находиться в любой хорошей библиотеке.
В этих редактировавшихся ею книгах, собранных теперь вместе и в хронологическом порядке, заключалась по времени наибольшая часть ее взрослой жизни, кроме последнего десятилетия, – самые деятельные, трудовые и, пожалуй, благополучные годы при всей их материальной скудости, воспринимавшейся тогда как общая норма. А благополучными, даже радужными те годы были у нее по молодости, здоровью, интересной работе и общению с авторами, по всему образовавшемуся наконец складу культурного бытия с устойчивым интеллигентным кругом подруг и знакомых людей, где ее, Дину, считали своей, ценили, уважали, любили, и это значительно скрашивало отсутствие у нее «личной жизни». Да ведь и «оттепель» была тогда на дворе.
В представлении людей этого круга, связанных в основном с издательской работой, она была прирожденным редактором. Однако сама она рассказывала Кортину, что мечтала в юности стать биологом или, лучше всего, астрономом. Ее влекла к себе природа, мироздание, и когда за год до конца войны она вернулась из Казахстана с отцом в Москву, то собиралась поступать на один из естественно-научных факультетов университета. Но там уже прекратили прием заявлений. В Москве вновь было полно народу: фронт, не то что в сорок первом, громыхал далеко на Западе, в Польше, приближался к Восточной Пруссии, и жизнь в столице, предвкушавшей неминуемую теперь Победу, кипела с небывалой интенсивностью. Москву наводнило начальство всех мастей и рангов, и дети этого многочисленного советского комсостава – военного и штатского – нахлынули в самые престижные высшие учебные заведения, перекрыв с лихвой нормы приема. Кортину было нетрудно представить, как там проводился помимо открытого и неофициальный, «козырной» прием – звонили телефоны, мелькали порученцы, появлялись сами начальники… А находившаяся вне этого бурлящего потока простая чертежница Дина, чьи документы не взяли рассматривать в университете, случайно проходя по Садово-Спасской, увидела объявление о продолжающемся приеме в Полиграфический институт, который там как раз и помещался. Из этого объявления она узнала, что в институте имеется редакционно-издательский факультет, и подумала о том, что всегда любила литературу, была привержена к книгам, и что это занятие тоже, наверное, подходящее для нее, коли не получается ничего с естественными науками. Была уже осень. Она подала заявление на вечернее отделение. Ее устраивала такая возможность – и посещать лекции, и работать. Ей надо было зарабатывать на жизнь, поскольку отец снова уезжал из Москвы. Он ехал в южные края, в лесопромышленное хозяйство, по предварительной договоренности на невеликую, но самостоятельную должность и с предоставлением сразу по прибытии жилья. Своего жилья в Москве у них уже не было – деревянный дом в ближнем дачном пригороде, в котором они жили до войны, больше не существовал, его разобрали на дрова и перекрытия для блиндажей, вырытых на этом последнем рубеже обороны столицы осенью сорок первого года. Да и принадлежал он наркомату угольной промышленности, где Андрей Александрович служил по хозяйственной части. Во время эвакуации в Карагандинском угольном бассейне отец ее переболел малярией и решил по возвращении перейти в другую отрасль, поселиться в благоприятном климате. Двадцатитрехлетнюю Дину он оставлял в Москве, квартировать у знакомых, которые отнеслись к ней, как к дочери. То были добрые, старомосковского склада люди, жившие на тогдашней окраине в деревянном доме с садом, неподалеку от станции метро «Сокол», конечной в те времена на этой первопроходной линии. Они выделили ей угол в комнате, служившей столовой, и аккуратно отгородили эту «девичью светелку» занавеской. Своих детей у них не было. Сам хозяин работал в каком-то лесном главке и, как догадался впоследствии Кортин, это по его, видимо, протекции отправился в южные края отец Дины.
Тот район у станции метро «Сокол», где она тогда поселилась, был ему хорошо знаком. И сопоставляя теперь свою жизнь и жизнь Дуни до пересечения их судеб, Кортин с интересом отмечал, что проходили они в том своем существовании довольно близко другу от друга, как в пространстве, так и во времени. Ибо и он прибыл в Москву в середине войны – вместе с матерью, из уральской эвакуации, по вызову отца. Произошло это на год раньше возвращения Дины. Отец его был тогда, после госпиталя, оставлен служить в газете Московского военного округа, и жили они в окружной гостинице близ станции метро «Сокол». То есть, жили там отец с матерью, а он вырывался сюда в увольнение из своего военного училища, в которое попал вскоре по приезде в Москву, когда его, семнадцатилетнего, призвали в армию. Но вероятность жизненного пересечения его и Дины в ту пору была минимальной. Они вращались на разных орбитах, и Вышнему астроному, ведающему расчетами людских судеб, еще предстояло эти орбиты свести.
Зато она быстро обрела в институте двух своих самых близких подруг – Фиру и Гиту. Сближение началось с эпизода в первые же недели занятий на первом курсе. В аудитории, где занималась их группа, стояли столы на двух человек. И Дина оказалась за столом с миловидной девушкой, которая в один из дней вдруг пересела от нее на другое место, к другой, тоже миловидной девице. Дина осталась за своим столом одна, и это одиночное сидение на какой-то момент отделило, обособило ее от всей группы словно парию. Но тут поднялась со своего места Фира и как ни в чем не бывало села рядом с нею. Фира уже дружила с Гитой, и эти две еврейские девушки стали подругами русской Евдокии.
Природные способности и прилежание вывели студентку Никольскую в число наиболее успевающих. Она даже сумела ускорить на полгода окончание института вместе с несколькими выпускниками, сдав на последнем курсе в зимнюю сессию все заключительные государственные экзамены. Она должна была полностью содержать себя, не рассчитывая на чью-то помощь, и спешила получить стабильную, сравнительно неплохо оплачиваемую работу.
Таким образом, вроде бы по случаю, сделалась она через четыре с половиною года редактором политической и художественной литературы, как это указывалось в выданном ей дипломе.
И в Воениздат она попала тоже через случай, ибо после окончания института не получила, как «вечерница», никакого распределения на работу. Месяца три-четыре она самосильно обивала пороги издательств и всяких редакционных отделов, куда ей советовали обратиться второстепенные служащие министерства высшего образования (наркоматы уже несколько лет как были переименованы в министерства). Ей везде отказывали, вежливо, но быстро – нет мест. Быть принятой на должность редактора без казенной бумаги, рекомендательного звонка или свойского знакомства оказалось невозможным. А в ее случае срабатывал и дополнительный фактор. Видимо, для начальников отделов кадров сдерживающим обстоятельством являлся также ее физический недостаток. Авторитетная идеологическая должность редактора в их сознании не сочеталась с внешней убогостью. И после тягостного и тщетного хождения, не имея больше средств к существованию, Дина Никольская пришла опять в министерство на прием к какой-то заведующей и попросила послать ее на периферию, лишь бы по официальному направлению, на определенное место и по своей приобретенной специальности. Бог с ней, с Москвой, коли так… И надо же было случиться, что именно в это время туда пришел служивший в Воениздате морской полковник Федор Изотович Резников, муж Нины Григорьевны. И пришел как раз с заявкой на двух-трех редакторов из институтских выпускников для работы в своем издательстве. Ему предложили Никольскую, он посмотрел на нее и – не отказался.
Возможно, история эта обрела в поздних пересказах, слышанных Кортиным в их компании, черты легенды с образом некоего благодетеля, а на самом деле все было проще: в министерство пришел воениздатовский представитель с заявкой, по которой и направили страждущего молодого специалиста, оказавшегося как раз под рукой. Там она и предстала перед Резниковым. Полковник, конечно, доложил старшему начальнику. И направление это с министерским штампом и чиновной подписью восприняли в дисциплинированном Воениздате как обязательное. Но так или иначе, поступление туда Дины всегда связывалось с именем Резникова, которого она за глаза с теплотой называла Изотычем…
А в беспредельном книжном океане возникла со временем капелька книг, в которых на самой последней странице, где петитом набираются выходные данные, значилось: «Редактор Никольская Е.А.»
Когда Кортин впервые появился в Воениздате, ее положение там уже вполне определилось. Она была на хорошем счету у начальства и пользовалась приязнью сослуживцев – добросовестный работник, скромный, добропорядочный человек. А авторам сам Бог велел быть почтительными с редакторами. Сейчас о том времени (когда и Бог в стране писался с маленькой буквы) живо напоминала надпись на тоненькой книжице стихов, сделанная поэтом-фронтовиком, который издавал тогда у них свой первый сборничек: «Евдокии Андреевне – с глубочайшим уважением к ней, спрятавшейся так ловко за воениздатовскими цветами. Да смягчат они горечь редакторской правки “чайников” и графоманов». Она не являлась редактором этого поэтического сборничка, так что подношение было сделано не по обязанности, а по очевидной симпатии. Что до упоминавшихся графоманов, то действительно после войны в писатели хлынуло много военного люда, в том числе в чинах, и Никольской также досталось редактировать их беспомощные рукописи. Сам же веселый даритель впоследствии стал поэтом известным, но к властям не подлаживался и издавался со скрипом…
Кортин помнил непривлекательный кирпичный дом старого казенного покроя, неоштукатуренный, без фасадных украшений, где помещалась в те годы часть Воениздата, и комнату с высоким потолком, видимо, большую, но перегороженную на отсеки-закутки канцелярскими шкафами, забитыми бумагами. Этакая учрежденческая коммуналка. В одном из таких отсеков, примыкающем к стене с окном, и работала редактор Никольская вместе с еще двумя дамами. Столы там стояли тесно, проходили к ним боком. Наиболее укромное место было и вправду у Никольской. И цветы на подоконнике, конечно, поливала она, а, должно быть, и развела сама эту оранжерею по любви к природе. На переднем же плане восседала приметная Софья Львовна Добина, вскоре ставшая Коньковой, тогдашняя издательская подруга Дины; она выпускала в свет первую книжку того поэта и вообще любила открывать новые имена.
Дата под его надписью стояла памятная – 1956 год. Год, когда началась «оттепель» взрывом секретного доклада Хрущева на самом знаменитом, но теперь тщательно замалчиваемом ХХ съезде партии. И всякий раз, отмечая эти ухищрения, Кортин вспоминал слова Дуни, сказанные уже во времена брежневских съездов, что для нее первым и последним съездом этой партии был тот один, двадцатый.
В хрущевском докладе, который потряс делегатов, вскрывались ужасающие беззакония Сталина, умершего три года назад. Речь шла о массовых репрессиях тридцатых-сороковых годов, проводившихся им под лозунгами борьбы с «врагами народа», но это осуждение никак не затрагивало основ всей созданной большевиками тоталитарной системы. Тут у Хрущева сомнений не было. Он винил только Сталина, извратившего своими злоупотреблениями властью великое дело Ленина, дело построения социализма, самого передового в мире общественного строя.
Потом этот доклад в виде «закрытого письма ЦК» стали читать, словно на дореволюционных большевистских сходках, всем членам партии, за ними – и беспартийным в их трудовых коллективах. Так правда о Сталине, на которого в СССР молились четверть века, правда о земном вседержителе, заменившем здесь Бога, двинулась в народ, вызывая в людях и раскрепощение, отверстость душ, и растерянность, и неприятие, злобное отвержение перемен.
К тому сроку Дина Никольская прошла уже свою стадию освоения редакторской работы. И самую важную для себя стадию жизненного становления. Как считал Кортин, все то, что было в ней заложено от рождения, что затем проросло и развилось в душе по мере ее взросления, – все это нашло здесь, в издательстве, свое жизненное м е с т о. Здесь была культурная по тем временам, нужная ей среда, здесь она занималась интеллигентным трудом, встречалась с известными авторами, и ее собственные ум, скромность, достоинство ценились и уважались. И в тот момент совсем не главным было даже, какие книги она редактировала, важна была сама эта работа с книгой, процесс общения со словом, с текстом. Ведь и в слабой книге находилось что-то хорошее. А отталкиваясь от слабых рукописей, быстрее вырабатывались свои строгие критерии и вкус.
Конечно, все они так или иначе исповедовали тогда «социалистический реализм» с его темами, героями, сюжетами, идеями и идеалами. То была среда их действительного духовного обитания, принимаемая за норму. Так они были воспитаны. Многим из них было еще далеко до понимания, что социалистическая идеология коварно подменяла в их сознании общечеловеческие ценности. Они честно верили, что социалистический путь – исторически закономерен, научно обоснован и подтвержден самой жизнью. А самым неопровержимым доказательством этого служила великая Победа СССР над фашистской Германией. Воистину, какая еще страна смогла бы вынести такое нашествие и победить! Как сформулировал Гений всех времен и народов: победил наш общественный и государственный строй. По этому поводу Кортин до сих пор вспоминал другую формулу, услышанную от одного молодого физика много лет назад, когда сам он, гвардейский старший лейтенант, был ею озадачен. В разговоре о победе в Отечественной войне тот физик, прервав его военные рассуждения, отчеканил: «Мы их не победили, а п е р е у м и – р а л и»…
Однако общественное поведение человека в той сугубо идеологизированной заданности, где он поступал сообразно предписанным установкам, отличалось от его повседневного бытования. Здесь-то люди должны были исходить из вечных понятий человеческой добропорядочности, вошедших в них в детстве с народными сказками, затем сказками Пушкина, затем, в отрочестве, с Жюль Верном, Дюма, Вальтер Скоттом и, наконец, с Тургеневым, Толстым и другими классиками. Эта классика составляла их д р у г о й мир, который удивительным образом сосуществовал с тем, идеологизированным, не противопоставляясь ему, соприкасаясь, как-то даже соединяясь, но не смешиваясь. Кортин видел в этом один из феноменов человеческой психики, ее податливость, способность к внушению, к самообману. И в то же время он считал, что именно великая русская литература, стоявшая своими бастионами на книжных полках множества общественных и домашних библиотек, питала и сохраняла в людях душу живу, несмотря на всю фантасмагоричность сложившейся в стране действительности.
А «оттепель» чудодейственно расколдовала их от плена царствовавших догматов, и п р а в д а была тою волшебной палочкой, по мановению которой пышные одежды идеологии начали опадать, превращаться в тлен, обнажая ужасающую суть сталинизма. Сперва только сталинизма. И в этом процессе прозрения главным движителем по пути правды оказывалась в человеке совесть. Правда была свет, она высвечивала подлинную реальность, но готовность и способность двигаться к свету давала ему совесть, о которой постоянно говорила русская литература, державшая ее своей сквозной темой. Чем больше ее было в душе, тем глубже, решительнее откликался человек на разоблачения совершенных преступлений и освобождался от укоренившейся в нем идеологии. И наоборот.