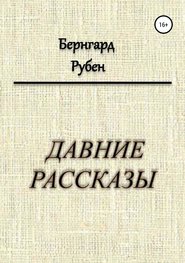скачать книгу бесплатно
Давние рассказы
Бернгард Савельевич Рубен
Сборник рассказов, написанных автором в последний период советской эпохи и впервые опубликованных уже в постсоветское время. Каждый рассказ – углубленный анализ поведения человека в сложных жизненных ситуациях.
Бернгард Рубен
Давние рассказы
Бернгард Рубен
Мать
Больничные корпуса старой кирпичной кладки напоминали казармы, да и вся территория этой печально известной больницы походила на военный городок. Я вошел в здание хмурого вида с высоченными потолками внутри, как строили в старину, и без лифта. Лестничные пролеты были огорожены прочными сетками. Поднимаясь, я время от времени проводил рукой по жесткой проволоке, покрашенной в беловатый больничный цвет. Назначение этих сеток я уже знал.
На площадке верхнего этажа была оборудована комната, в которой помещалась вешалка и куда справа и слева выходили две двери с номерами лечебных отделений. Отдав на вешалку шинель и фуражку, я постучал в нужную мне дверь. Послышался щелчок оборачиваемого в замке ключа, и вышла дежурная сестра. Я сказал к кому пришел, сестра пропустила меня в отделение и снова закрыла дверь на ключ. И этот порядок был мне известен, но всякий раз, когда я приходил в больницу с передачей, – свидания с матерью мне все еще не разрешали – повторял про себя: «Отсюда не выберешься, только попадись».
Было воскресенье. В небольшом зале отделения набралось уже много посетителей и больных. На первый взгляд, все они мирно сидели за столиками посредине, на диванах у стен, на стульях по углам. Дежурный врач, находившаяся в своем кабинете, молодая симпатичная женщина, глянув в историю болезни моей матери, заявила, что лечение идет, по их мнению, нормально и есть надежда на положительный результат. Я с признательностью посмотрел на нее, она слегка улыбнулась мне. И я попросил о свидании с матерью. Она разрешила. Это было неожиданно для меня. Но в этот воскресный день она была здесь главной распорядительницей, а между нами – молодой женщиной и стоящим перед нею офицером – установился мимолетный контакт. К тому же она сказала, что лечение идет нормально…
– Сейчас позовем вашу маму, – как-то предупреждающе мягко объявила сестра, выходя из кабинета дежурного врача.
Кажется, сестра была удивлена этим разрешением. Я сразу отметил про себя тон ее слов и настороженно последовал за нею в противоположный от входа конец зала. Там сестра опять отперла дверь ключом, от которого к ее поясу тянулся шнурок, и скрылась, повернув ключом в замке с обратной стороны. Пока она входила, я успел разглядеть довольно широкий коридор и настежь открытые двери палат. В отделении царила бесприютность проходного двора, исключающая возможность уединения.
Снова щелкнул замок, и две няни медленно вывели под руки старую женщину. Старуха двигалась еле-еле, выставив перед собою тощие дряблые руки. Седые волосы ее были растрепаны, глаза глядели вперед неподвижно и невидяще. Ни мысли, ни чувства по отношению к окружающему миру в них не улавливалось, полная отрешенность, но в то же время, я это видел, глаза ее как-то по-своему жили. И наблюдать их безразличие было тягостно. Старуха переступала мелкими-мелкими шажками, словно в странном механическом танце ее вели два партнера. Серый больничный халат на ней распахнулся, открыв короткую нижнюю рубашку и очень белые тонкие старческие ноги в спущенных на тапочки простых чулках. К старухе энергично подбежали мужчина и женщина; наверное, кому-то из них она была матерью. Меня удивил мужчина своим ярким, особенно броским здесь галстуком с резкими красными полосами. Но то была попутная фиксация. Будто кто-то внутри говорил мне: смотри, знай, имей в виду. Вероятно, тут был случай давней болезни. И. если это было так, начиналась она с какой-то своей причины, не от старости. Но то была уже печаль тех двоих, которые перехватили больную у нянек и повели к дивану. Хорошо, что их двое, подумал я им вслед.
* * *
А с чего началось это у нас? Началось с похорон отца. Смерть отца сама по себе была для мамы нещадным ударом, но и к этому удару добавились потрясения. Открылась связь отца с другой женщиной, которая уже считала себя его женой. Оказалось также, что эта их связь была известна родной сестре мамы и ее мужу. Более того, мамина сестра и та женщина сделались даже приятельницами. Очевидно, отец со свойственным ему обаянием сумел убедить этих родственников в своей правоте. Впрочем, душевно близких отношений между мамой и ее сестрой, моей теткой, я и раньше не наблюдал. Они были очень разные: мать сердечная, деликатная, часто слишком добрая, тетка же исповедовала логику, разумность, порядок. Она оценивала маму, как натуру пассивную, и сочувствовала отцу, у которого в душе постоянно – несмотря ни на что происходившее с ним и вокруг – позванивала струна радости жизни. А мама всю жизнь преданно любила его одного и в молодые годы держалась с достоинством, когда ей говорили о его романах. И в войну она стойко перенесла эвакуацию в глухую деревню на Урале, где самоотверженно работала воспитательницей в детском лагере, с которым выехала. Но потом ее стали одолевать недуги, обострилось всегдашнее беспокойство о здоровье отца, подорванном фронтом и многолетней сердечной болезнью. И тут давние и недавние обиды – крупные и мелкие, справедливые и несправедливые – вышли наружу. Я видел, как отцу было трудно дома, знал, что он подолгу бывает в отъезде по своим делам, но считал, что он привязан к маме. По крайней мере, он всегда чувствовал себя ответе за нее…
В тяжкий час смерти отца я не идеализировал его совместную жизнь с мамой в последние годы, когда они оба болели, не находили общего языка и в их отношениях нередко возникала безысходность. Но все равно это была их жизнь и жизнь нашей семьи, и не следовало другим людям задним числом вносить в нее собственные коррективы. Я не знал, что говорил отец тем родственникам о своих планах, что обещал женщине, с которой был связан в это время. Но ни мне, ни маме он не сказал о своем намерении уйти из семьи. И, главное, ничего сам не переменил при жизни. Не решился, не смог, не успел – как угодно. Но – не переменил. Так чего же было теперь, после его смерти, затевать возню у гроба? И мне пришлось тогда все расставить по своим местам.
От обрушившихся на нее ударов мать окаменела. Она не высказала ни слова обвинения сестре и ее мужу за их измену, никому не изливала свое горе, двигалась машинально, говорила тихо-тихо и как-то пугающе спокойно. И не плакала. «Лучше бы ей плакать», – говорили мне. Ее пытались вывести из такого внутреннего переживания. Она благодарно внимала сочувствующим. Но слез у нее не было. Только большие, сухие, медленно и печально глядящие глаза. Недвижно стояла она у гроба, слушая официальные речи и проникновенные слова друзей и товарищей отца по работе. На кладбище она по обязанности кинула в могилу первый ком земли и все так же недвижно простояла до конца похорон.
В те скорбные дни я был рядом с нею, старался, чтобы она чувствовала во мне опору. Но мне надо было возвращаться в полк. Близкие нам люди, родные и знакомые, обещали опекать маму. Они в один голос советовали ей заняться делами – оформлением пенсии, обменом комнаты, что должно было хоть немного отвлечь ее от горя. А уехать из этой коммунальной квартиры мы намеревались еще раньше из-за соседки, писавшей на нашу семью доносы. Теперь оставаться здесь маме одной было тем более невозможно. Она соглашалась с советами и обещала мне приняться за эти нужные дела. Казалось, она подчинилась судьбе, покорно приняла потерю отца, без которого ныне должна была жить дальше. И я отправился в свой полк, находившийся в летних лагерях.
Когда же через несколько дней я вырвался проведать маму, на меня пахнуло новой бедой. Неладное почувствовалось сразу, только открыл своим ключом входную дверь. Двери из кухни и нашей комнаты, обычно плотно затворенные, чтобы не проникали кухонные запахи, были раскрыты, и два светлых полуденных пятна освещали недлинный коридор. Из комнаты выглянула мама, скользнула по мне взглядом, скрылась было назад, потом вышла в коридор, прижав кулачки к груди. Она странно топталась на месте и смотрела куда-то мимо меня.
– А, сыночек, это ты. Очень хорошо, что приехал. А у нас все плохо, все очень плохо, да, сыночек, – говорила она почти шепотом, быстрее обычного, не приближаясь ко мне.
Взгляд ее беспокойно блуждал, не пересекаясь с моим и не останавливаясь на одной точке. Я подошел к ней, обнял одной рукой, другой положил фуражку на вешалку.
– Здравствуй, ма, дорогая моя!
– Здравствуй, здравствуй, сыночек, – скороговоркой произнесла она, сильнее прижимая свои кулачки к груди.
– Ма, милая, посмотри на меня, – попросил я, все еще обнимая ее в прихожей, – ведь я приехал…
– Да, да, сыночек, хорошо, я посмотрю…
Она обратила взгляд ко мне, и я увидел нервно двигающиеся зрачки ее глаз. Этот взгляд был устремлен внутрь себя и сцеплен с какими-то назойливыми мыслями, беспокойно провертывающимися в ее голове. И глаза, словно стрелки приборов, отражали эту ее внутреннюю смятенность.
Обнимая мать, я вошел с нею в комнату, усадил на диван, сел рядом и покрепче прижал к себе. Я был обеспокоен и инстинктивно старался принять в себя весь этот тревожащий ее изнутри нервный заряд – так, как земля вытягивает электричество из пораженного тела. И мама вдруг устало повела веками, вздохнула глубоко и притянулась ко мне. На какое-то время она затихла, но потом опять забеспокоилась, испугалась чего-то, уперлась кулачками мне в грудь.
– Все плохо, сыночек, все плохо. Нас выселят из квартиры, нас выселят…
Так началась ее болезнь. Очевидно, сил, с которыми она продержалась на похоронах, хватило ненадолго, полученный удар выбил ее из жизненной колеи, лишил опоры в самой себе. Воля ее была надломлена, привычный ход жизни расстроился, потрясенная психика стала уходить в болезнь. Да и дела, которыми мать послушно занялась, не помогли, а подтолкнули, наверное, болезнь: хождения на медицинскую комиссию, в домоуправление, в обменное бюро, стояние там в очередях, испрашивание многочисленных справок – все это было слишком угнетающе для нее.
Когда мне сказали, что маму надо лечить в нервно-психиатрической клинике, стационарно, это меня ошеломило. Сама мысль об этом была пугающе-ужасной. Ведь речь шла о «сумасшедшем доме», о «доме для умалишенных», как издавна в просторечии именовались такие учреждения, попадать в которые считалось для человека и страшно, и позорно. Но выяснилось, что и здесь имеется своя градация. Первая клиника, в которую удалось получить для мамы направление, была совсем не устрашающая, светлая, чистая, просторная. Даже с комфортом – широкие коридоры, поблескивающие линолеумом, занавески, ковровые дорожки, приличная мебель. Маму поместили в санаторное отделение – самое спокойное, самое легкое. Все больные там выглядели вполне милыми, нормальными людьми, ходили в своей одежде, гуляли в саду, вышивали, читали, слушали радио, любезно общались между собой. И я был уверен, что моя мама быстро оправится от удара. Станет совершенно здоровой, и мы с нею заживем вдвоем. Душа в душу, ведь у нас никого больше нет на свете, только она и я, и я сделаю все, чтобы она была счастлива. Смерть отца и болезнь матери произвели во мне душевный переворот, оттеснили эгоцентризм молодости, категоричность в оценках, отшелушили офицерский гонор, который я приобрел в своем гвардейском полку и который, вероятно, помешал отцу быть со мной до конца откровенным.
В той первой клинике мама пробыла два месяца, и я был уверен, что теперь все пойдет у нас хорошо. Наблюдая за нею, я убеждался, что она не утратила желания жить. Она тянулась к людям, интересовалась, как и прежде, делами своих знакомых, переживала за них, а они шли к ней за сердечным советом. Природная доброта и мягкость давали ей силу переносить свое горе. Ее интересовало и все, что делалось вокруг – что говорят по радио, пишут, показывают. Я купил тогда для нее телевизор – из тех первых выпускавшихся в стране моделей с маленьким экраном, увеличиваемым с помощью большой линзы.
Но и возникшая болезнь, отступив, вдруг проявлялась снова и подчас в резких формах. Менее чем через год мне пришлось опять поместить ее в ту клинику, но уже не в санаторное, а лечебное отделение. Потом было санаторное отделение этой больницы с пугающим названием, в которой она лежала теперь. И вот – отделение для больных с острыми проявлениями болезни…
* * *
И еще раз повернулся ключ в замке, открылась дверь, и я увидел в коридоре мать – она исступленно, со злым, перекошенным лицом и безумными глазами сопротивлялась сестре и санитарке, пытавшимся вывести ее ко мне. Это было немыслимо и жутко – чтобы моя мама, всю свою жизнь тихая, такая законопослушная женщина, впала в столь буйное неповиновение, почти бунт. Она с силой упиралась и выкрикивала:
– Нет, нет! У меня нет сына, у меня нет сына!
– Ну, что вы такое говорите, разве так можно, вон он стоит, ваш сын, пришел вас проведать, идите к нему, – увещевала ее сестра и вместе с санитаркой подталкивала к выходу в зал для посетителей.
– Нет! Нет! Он не может быть здесь, не может сюда попасть… Нет, нет у меня сына! – испуганно и неистово твердила мать, продолжая упираться посреди коридора.
Ее волосы с крупной сединой растрепались, исступленное лицо поворачивалось из стороны в сторону, но глаза ни на чем не останавливались. Мне показалось, что она даже избегает, боится увидеть меня.
Я очень хотел повидать маму, обнять, посидеть с нею вместе, поддержать ее и самому уйти от своего одиночества, которое так остро чувствовал в то время, но сейчас я пожалел, что договорился об этом свидании. Нельзя было тревожить ее и допускать подобное возбуждение. Я махнул сестре рукой, подавая знак, что отказываюсь от свидания. И тут блуждающий взгляд матери наткнулся на мое лицо, охватил погоны, китель, всю фигуру, и на этот раз мне показалось, что она сокровенно ждала такой встречи. Тревога однако не отпускала ее, она опять настойчиво твердила, что у нее нет сына, что это не он, что он не может быть здесь. Но говорила тише, медленней, и санитарке стало легче подталкивать ее к двери. Уже у самого выхода в зал она еще раз отчаянно попыталась вырваться. Но я успел ее обнять, поцеловать, и она присмирела.
Мы прошли в угол зала, я поставил стулья вплотную один к одному и обнял мать. Она с силой отстранилась, уперлась кулачками мне в грудь.
– Это не ты, это не ты, это откуда-то принесли твой китель, тебя подменили, тебя подменили… – бормотала она, страшась, что ее намереваются поймать на этой подмене, а меня схватить и арестовать, как это сделали с нею.
– Да нет же, это я, ма, милая! Посмотри на меня. Это я, твой сын… Ну?
Глаза ее нервно блуждали по мне – по лицу, по кителю, по золотистым пуговицам и погонам. Страшно было смотреть в эти глаза – выпученные, выхватывающие что-то отдельное извне, чтобы все тотчас искаженно преобразилось в ее больном мозгу. Я почувствовал, как у меня по корням волос прошла волна холода.
Маме казалось, что все люди в больнице – ненастоящие, не те, за кого они себя выдают, что все они подменены. А больница – это тюрьма, няньки и сестры – сторожа и тюремщики, а саму ее могут убить. Так зловеще-тихо объявила она мне. Она всего боялась здесь, ей чудилось, что за нею отовсюду следят, подслушивают, и все больные тоже – или тайные преступники, или пленники, или шпионы. Вот почему она так возбудилась, когда ей сказали, что к ней пришел сын. Больная, невменяемая, она испугалась, что в это ужасное место хотят привести ее сына и что здесь со мною, как со всеми ними, смогут сделать все, чего она так панически боялась. Отвергая наше свидание, отрекаясь от меня, она меня спасала…
* * *
То «тематическое» содержание, какое наполнило болезнь мамы в этой больнице, можно было легко объяснить здешней обстановкой, вызывающей сразу аналогию с тюрьмой. А если иметь в виду, что мания преследования – наиболее распространенный симптом душевных заболеваний и что к буйным больным персоналу приходится применять силу, источники подобного наполнения представлялись в тот момент достаточно явными. Но впоследствии, уже после смерти мамы, размышляя над течением ее болезни, я пришел к заключению, что не только арестантская обстановка психиатрической больницы придала ее душевному расстройству такую именно направленность. Меня осенила догадка, что болезнь извлекла и запустила в свой оборот весь ее многолетний, глубоко укоренившийся в душе страх, с которым она жила всю жизнь после Октябрьской революции, как и многие другие люди в стране. Очевидно, болезнь, помрачая сознание, распахивала тайники души.
Страх этот начал выплескиваться из нее еще дома. Болезнь мамы совпала по времени с памятной «оттепелью», развернувшейся три года спустя после смерти Сталина. По радио и в печати впервые открыто заговорили о массовых репрессиях в период всевластия Отца народов, но называлась эта его тирания предписанных сверху эвфемизмом – «период культа личности». Таким образом, происшедшая в стране трагедия объяснялась отступлением от истин марксизма-ленинизма и злонравностью Сталина.
Мама сочувственно относилась ко всем «оттепельным» сообщениям, хотя и не любила вдаваться в политику. Она приобщалась к переменам с осторожной сдержанностью, но жалела, что наш папа не дожил до этих дней, когда ощутимо повеяло свободой духа и надеждой, без которых он так задыхался. Но однажды она внезапно воскликнула, показывая пальцем на динамик:
– Ты послушай – что они говорят! Ты только послушай! Нет, этого нельзя слушать. Это не наше радио. Ты послушай, какой сумасшедший бред они несут!
К тому сроку разоблачения захватили ближайших приспешников Сталина, вставших в прямую оппозицию к теперешнему «генсеку» Хрущеву, и по радио назывались самые известные фамилии из членов партийного Политбюро, которое было для нас долгое время плеядой выдающихся большевиков.
Я засмеялся.
– Что ты, ма! Это самое что ни на есть наше радио, и говорит оно правду, которую давно пора сказать людям.
– Нет, нет, это не наше радио, это вражеское, выключи, выключи его скорее, сыночек… Прошу тебя, выключи! – резко выкрикнула она, видя, что я не тороплюсь, и лицо ее сразу исказилось, глаза округлились, выпучились.
Она была не в себе, и я выключил радио. Не знаю, радиопередача ли спровоцировала у нее помрачение рассудка, или, наоборот, в этой реакции проявлялась болезнь, но страх был здесь главным детонатором взрыва. И впоследствии в своей догадке я оттолкнулся от этого случая. Действительно, фамилии, которые тогда назывались по радио, страна почитала более двух десятков лет – с тех пор, как Сталин уничтожил ближайших сподвижников Ленина и подобрал вместо них нужных себе приверженцев. То были вожди, жрецы, герои, как они вдолбились в сознание миллионов людей своими вездесущими портретами, речами, ежедневным упоминанием в газетах и по радио, даже постоянным присутствием в быту, ибо их имена повсеместно носили заводы, улицы, города, колхозы, клубы… И вот эти «верные соратники» подвергались публичному бичеванию. Клеймили их, выступивших против Хрущева, как «антипартийную группу», и тем самым народу указывалось, что партию ныне олицетворяет Никита Сергеевич Хрущев. А чтобы окончательно дискредитировать его противников, вскрывали их причастность к массовым репрессиям в «период культа личности», хотя к этому же был причастен и Хрущев. Но мать не вникала в хитросплетения борьбы за власть. Она боялась самих гневных кампаний, которые при этой большевистской власти всегда предшествовали массовым репрессиям. Боялась всяких изменений, ибо они грозили новой, неизвестной и еще большей опасностью. Таков был ее многолетний опыт. На ее глазах полоса за полосой, прокос за прокосом проводились репрессии: людей преследовали то по классовому признаку – от бывших дворян до крестьян, объявленных «кулаками»; то по признаку профессиональному – от дореволюционных инженеров и прочих «спецов» до советских железнодорожников, шахтеров, военных и иных «отраслевиков», в среде которых вскрывались гнезда «врагов народа»; то по партийной принадлежности – от членов всех небольшевистских партий, существовавших при проклятом царизме, до самих большевиков, сначала троцкистов, потом зиновьевцев-каменевцев, разоблачавших вместе со Сталиным троцкистов, затем бухаринцев-рыковцев, выступавших вместе со Сталиным против зиновьевцев-каменевцев… Всеохватный заряд насилия, ненависти, энтузиазма, порожденный большевиками в октябре 1917 года, продолжал электризовать целый народ. Воистину, выходило по-ленински: строящийся у нас коммунизм был советская власть плюс электризация всей страны…
А мать боялась за свою семью, за свой дом, пусть и в коммунальной советской квартире. Она боялась за отца, который не мог жить без шуток и острот, иронически относился к догмам, официальному ханжеству, славословию и одержимости, хранил в домашней библиотеке давно запрещенные и изъятые из обращения книги и книги с дарственными надписями своих арестованных друзей, находившихся в лагерях заключенных. Она боялась за меня, десятилетнего мальчика, в тот момент, когда репрессии достигали своего пика. Она боялась долгие годы. Все годы провозглашенной «диктатуры пролетариата» – поскольку ни она, ни отец не были «пролетарского происхождения». Но повседневные заботы, продолжающаяся жизнь, человеческое достоинство и, конечно, вера в идеалы Свободы, Равенства и Братства держали ее непрестанный страх, как и у многих других людей, в глубине души.
Теперь этот страх вошел в механизм ее болезни, вырвался из-под спуда. И, еще не понимая глубинные причины такого ее состояния, я сидел рядом с нею, моей мамой, в больнице, объятый нашим несчастьем.
* * *
Она вновь возбудилась, речь перемешалась с выкриками.
– Уходи отсюда, быстрей уходи отсюда, – твердила она, нервно трогая влажными мягкими пальцами погоны и пуговицы на моем кителе.
– Это не ты! – громко выкрикнула она на весь зал и попыталась вскочить. – Это кто-то принес сюда твой китель. Тебя убили! Да! Здесь всех убивают! И нас тоже скоро убьют, – вдруг страшным шепотом, с дико выпученными глазами произнесла она.
Я молчал. Даже не оглядывался по сторонам на других людей, больных и здоровых, слышавших ее выкрики. Я был подавлен и чувствовал время от времени проходящий по моим волосам холод.
– Тебя убили… – упавшим голосом повторила мать. – И подменили, – добавила она обреченно.
Я по-прежнему молчал, обняв ее и прижав к себе. Потом тихо и почти безразлично произнес:
– Нет, Матрешка, это я… – так иной раз называл я ее теперь.
И тогда она неожиданно мягко отстранилась от меня, чуть наклонилась в сторону и неуверенно, с робкой надеждой и страхом потянулась к моему уху. Я замер, глядя в ее моментально сделавшиеся осмысленными и внимательными глаза, которые остановились на моем ухе. Дрожащие пальцы матери погладили сперва ровный верхний край левого уха, затем быстро переметнулись к правому, безошибочно нашли остренький выступ… Никто, кроме нее, матери, не мог здесь знать, что у меня на правом ухе, вверху раковины, есть маленькая выемка, образующая пониже себя маленький бугорок.
– Сынок… – она разрыдалась, прижалась ко мне плачущим лицом, плечи ее вздрагивали.
Это были рыдания человека, осознающего все, что только что здесь происходило. Лицо ее стало совершенно разумным, обычным, родным, лицом моей мамы. И она печально сказала мне:
– Я действительно тяжело больна, сынка…
А я, обрадованный этим просветлением, потрясенный силою ее материнской любви, прорвавшейся даже сквозь тяжелый болезненный бред, убеждал ее, что она обязательно поправится и порукой тому ее способность осознать свое состояние, а значит, и преодолеть болезнь.
Она подняла на меня глаза, в которых еще стояли слезы. Глаза эти, умные, добрые, печальные, смотрели и видели меня так, как смотрели и видели всю мою жизнь. И зрачки были совсем спокойны, и казалось совершенно невозможным, чтобы они безумно вращались, будто вырываясь из своих орбит. Нормальные глаза здорового человека. Моей матери. Я снова обнял ее.
– Возьми меня отсюда, сынка, – тихо попросила она и погодя грустно добавила: – Только какой я тебе дома помощник сейчас…
В вестибюле, проходя мимо зеркала, я остановился – не узнал себя и, держа в руках фуражку, с удивлением посмотрел еще раз на свою голову. Волосы у меня были, как всегда. Темно-русые, даже на висках остались такими, и это показалось мне тогда непонятным, поскольку я уже успел мысленно привыкнуть к тому, что стал седым.
1973
На кладбище
1
Раньше ли, позднее, но живой человек приходит на кладбище и открывает для себя новый мир – мир могил, надгробий, оград…
Несчастье – что внезапный физический удар. Человек сгоряча еще может вскочить, побежать; он хоть и чувствует – случилось что-то страшное, непоправимое, но пока не осознал этого разумом, в нем еще действует сила инерции и бьется надежда, сдавленная уже, обреченная. Только некоторое время спустя человек, обессиленный и обескровленный, лежит в лубках с треснувшими от удара костями, лежит недвижно наедине со своей болью.
Так и мы с матерью сидели у могилы отца.
Я смотрел на мать и видел ее в купе скорого поезда – смятенную, чувствующую беду, но надеющуюся. Она не знала, что отец умер, знал я, но не сказал – и не смог, и нельзя было, это убило бы ее сразу. Отец умер, находясь по своим делам в другом городе, и вот мы ехали к нему, точнее – за ним, и мать, пряча ладонь в ладонь, шептала: «…только застать его живым, а уж я выхожу его, лишь бы застать живым… Ах, сын, мы забыли купить яблок, они помогают ему…»
Трудное это дело – привыкать к смерти близкого человека. Помню, на следующий день после похорон мне страстно захотелось еще раз, в последний раз, взглянуть на отца, пожать его руку, и я чуть было не затеял разрыть могилу, хотя в то же время сознавал бесполезность, да и невозможность такого дела.
Но, шаг за шагом, туман, в котором действует человек непосредственно во время несчастья, рассеивается. Родственники и знакомые, толпившиеся вокруг, расходятся и разъезжаются по домам. Молча, про себя, не осуждая, а переоценивая свою жизнь и стараясь не говорить об этом с матерью, начинаешь размышлять о друзьях и родных, не приехавших на похороны. Подумываешь и о других людях, не часто бывавших в доме, но теперь оказавшихся рядом. Идут дни, и ты, вроде бы, мало-помалу начинаешь привыкать к тому, что произошло.
И вдруг однажды утром то, что произошло в твоей семье, становится так неправдоподобно ясно, так просто и страшно очевидно, что само понятие «никогда» делается материальным, ощутимым на каждом шагу – там, где проходил отец, а теперь ходишь ты, в каждой вещи, к которой он прикасался и на которую нельзя смотреть без смертельной тоски. А на стене, скорбно уставясь в пустоту комнаты, в черной с позолотой рамке висит портрет, немой свидетель твоих мук и бессильного протеста, неживые черты ушедшего навсегда человека, безжалостное напоминание о его смерти. И о неминуемой смерти вообще.
Никогда…
Потом боль и потрясение запрятались глубоко внутрь и словно покрылись какой-то твердой оболочкой, ограничившей сразу их размеры, а судорога скорби уже проходила по сердцу и лицу лишь в тех случаях, когда, открыв ящик письменного стола, я брал в руки пузырек из-под нитроглицерина, именные часы, боевые ордена отца. В ушах моих тотчас раздавался стук молотка по шляпкам вколачиваемых в гроб гвоздей – жуткий звук, все перевернувший внутри. Вот этот стук со скрежетом и вывел на кладбище мать из оцепенения, и страдание, глубокая боль расширили ее бесслезные глаза, и лицо ее передернулось.
Посещая могилу отца, я исподволь совершил тот внутренний путь, когда олицетворением умершего человека на кладбище становится могильный холм с табличкой. Долго я не мог без тревоги смотреть на эту табличку, не мог привыкнуть к тому, что на ней написаны имя, отчество и фамилия моего отца. Моя фамилия. Это казалось невозможным, нелепым, вызывало удивление и смятение. Я уже привыкал к тому, что отца нет в живых (хотя нет-нет, да и готов был броситься за человеком, фигурой или лицом напомнившим мне отца), но вот видеть спокойно нашу с ним фамилию на могильной табличке не мог никак.
Сколько раз один или, когда матери становилось лучше – вдвоем с нею сидели мы неподвижно у могилы; в эти минуты жизнь летела где-то далеко, стороной, не касалась нас. Сменялись правительства. Проводились испытания термоядерных бомб. Люди женились и расходились, шли на работу, в магазины, в кино. В скверах играли дети. Но ничего этого в те остановившиеся минуты для нас не существовало.
А потом мы тихо шли по кладбищу, и я впервые в жизни внимательно присматривался к этому новому для меня миру.
2
Я вступил в тот круговорот действий, когда чувствуешь на себе обязательство отдать умершему последний долг и бьешься над устроением могилы, в одно и то же время отчетливо понимая, что теперь отец живет только в нас – в матери и во мне, что ему это уже не нужно, что ему уже ничего не нужно, и что все это обязательно надо сделать – и для матери, и для себя, и для окружающих. Может быть, даже больше для окружающих. Нет, и для него тоже. Для всех. Хотя мы с мамой и так бы никогда не забыли это место.
Надо было поставить ограду и памятник. И я отправился в путешествие по кладбищу – не мельком, не внешним взглядом воспринимая вставшие передо мною могилы, а зная теперь, что каждая в себе схоронила, слыша и громкий плач, и беззвучный стон над каждой, и скрежет забиваемых в гроб, точно в душу близких, гвоздей. Я бродил по кладбищу, рассматривая оформление могил и выбирая для могилы отца примерный образец. Я увидел разные могилы: в оградах и без оград, и в виде клеток – закрытые со всех сторон и сверху железной сеткой, и даже в виде комнаток с глухими фанерными или еще какими-нибудь стенами, с крышей, с маленькими оконцами. В одной такой комнатке был выстлан кафелем пол, стояли беленький стол с вазой с цветами, стул, висел портрет мальчика: безутешные родители хотели создать по-земному домашний приют для духа безвременно умершего сына.
Каждый раз по дороге на могилу отца я проходил мимо памятника одному из декабристов – большой розового гранита полированный шар вдавился в продолговатый постамент. Чуть подальше высился темный памятник в форме плоской вертикально поставленной плиты с белой мраморной фигуркой девы-плакальщицы внизу у основания. Опущенное печальное личико плакальщица закрыла ладонями. Это был один из старинных типов памятника, и трудился над ним, несомненно, мастер своего дела, художник. Плита черного мрамора символизировала как бы отвесную стену, скалу, о которую разбились мечты, надежды – жизнь. Черный мрамор обрамлялся белыми полуколоннами, посеревшими ныне от времени. Полуколонны эти казались теперь лишними, но тогда был такой стиль, требовалась законченность декорации.
По другую сторону дорожки я привычно уже поворачивал к черной трубчатой с броским позолоченным орнаментом ограде и смотрел на крупный памятник в ней – обелиск с именем полковника, Героя Советского Союза. Рядом, в той же останавливающей взгляд ограде, приютился маленький цветник с железным посеребренным крестом, могилка матери полковника, аккуратная, скромная, с простыми, но милыми анютиными глазками. Я вспоминал Есенина и его «Письмо к матери», проходя около этого места. Полковник погиб «при исполнении служебных обязанностей» уже в мирное время, спустя десять лет после конца Великой Отечественной войны, и старушка-мать недолго пережила сына.
Совсем недалеко от могилы отца, у самой дороги лежал, как огромный сундук, обтесанный и полированный прямоугольный камень, высотою метра полтора и длиною около двух с половиной метров. Камень был широк, на верхней грани высечен был крест, а по бокам – надписи:
«Здесь покоится тело крестьянина Владимирской губ. Покровского уез. дер. Ветчей Александра Гавриловича Боброва, скончавш. 16 августа 1879 г. 65 лет».
«И супруга его Iустиния Михайловна Боброва скончалась 22 января 1881 г. 65 лет».
– Из-под такого камушка не поднимешься, – бодро сказал какой-то гражданин, остановившись около меня, когда я впервые внимательно и не спеша читал надписи.
– Оттуда и без камушка не поднимешься…
Прохожий отошел, а я еще постоял тогда у могилы Бобровых. Я подумал о дорогой цене, которую надо было заплатить крестьянину за такое мраморное надгробие. Потом я понял, что выходец-то отбыл из крестьян, так сказать, крестьянского звания, а выбился в купцы, да купцы, верно, богатые. Иначе лежать бы ему под деревянным крестом на деревенском кладбище в Покровском уезде рядом со своими земляками. Подумал я и о том, что жена его умерла вслед за ним, как только ей тоже сравнялось 65 лет, будто и в смерти была не вольна, не смела пережить своего хозяина и кормильца, а вероятнее всего и сама считала истово, что так и быть должно и задерживаться здесь ей уже ни к чему, там ждет ее душу родственная душа, ее свет, ее судьба – как бы ни держал он ее в здешней жизни, справедливо ли, хоть и строго, или обижал…
Иногда я шел другой дорогой – через братские могилы погибших в эту войну солдат, офицеров и ополченцев.
На небольшой треугольной площадке расположилось больше пятидесяти одинаковых памятников. В каждый памятник с лицевой стороны вделана была белая мраморная доска, на каждой доске – около тридцати фамилий и внизу дата: «1941 год». Посредине площадки – черный высокий обелиск с надписью:
«Вечная слава бойцам и командирам Советской Армии, павшим смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».