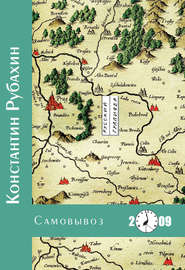
Полная версия:
Самовывоз

Константин Рубахин
Самовывоз Книга стихотворений
Об авторе
Константин Рубахин родился в 1975 г. в небольшом городке Центрального Черноземья, детство провел в Югославии.
Закончил факультет журналистики Воронежского государственного университета и аспирантуру на кафедре социальной философии СПбГУ. Тема диссертации «Медиасоциогенезис».
Публикуется с середины 90-х годов. В 2004 г. в издательстве ОГИ вышел сборник стихов «Книга пассажира». Печатался в журналах «Вавилон», «Воздух», «Новая юность» и др.
Причисляется к «воронежской поэтической школе» и «поколению Вавилона».
Известен как фотохудожник. Первый персональный проект «Сигналы лица» экспонировался в 2002 г. в Санкт-Петербурге. С 2006 по 2008 г. прошло несколько небольших фотовыставок в московских клубах. Сотрудничает с журналами «Русский пионер», «НАШ» (Украина), «Umelec» (Чешская республика), а также с рядом российских и зарубежных новостных агентств.
Живет в Москве.
Из-под события
В истории о «воронежской поэтической школе» звучат имена Елены Фанайловой, Александра Анашевича, Константина Рубахина. Звучат и другие (Альбина Синёва, Роман Карнизов), но эти двое, будто бы, объединены чем-то иным, помимо географии (уже давно, кстати, не соблюдаемой). Это так и не так. Смотреть на подобные конструкции можно со стороны корня, а можно со стороны кроны, и второй подход не хуже первого. А в стадии расхождения – и тем самым нахождения себя – поэт из объекта социокультурного анализа превращается в собственно порождающего стихотворный язык субъекта.
Вот и Рубахин, рассмотренный как тень Анашевича или Фанайловой – и не Рубахин вовсе, функция. Сложно отделаться от контекста, да это и не нужно, стоит просто вглядеться в личностные стратегии (да и просто стратегически не описываемые поведенческие ходы – поведенческие именно в плане текстопорождения, а не каких-либо бытовых жестов).
Для Рубахина личностное трансгрессивно и в метасоциальном (как у Фанайловой), и в когнитивно-эротическом (как у Анашевича) смыслах, однако его мир не есть лезвие, последний рубеж перед бездной: это, скорее, зона тотального перехода из одного субъективного пространства в другое, этакая «пересадочная станция», находящаяся где-то внутри говорящего «я». В сущности, это принципиально и последовательно метафорическая поэзия, однако сказать так – не сказать ничего – по вполне понятным причинам тотальности самого метафорического принципа в поэзии.
Притом – следующий ход мысли – возможен скучный и долгий спор, метафора всё-таки или, неожиданно, метонимия. Вот чрезвычайно важный среди рубахинских текстов цикл – или, скорее, ряд, серия высказываний – «Порядок действий». Поэтический субъект осуществляет ряд движений, поступков, жестов, подчас едва уловимых, видимых лишь изнутри их совершения – и сополагает их с некоей внешней ситуацией. Кажущаяся отдаленность «я»-события и события-«другого», к примеру, неловкой улыбки повествователя – и поведения хозяина собаки, внезапно присевшей на дороге, или его же, повествователя, мелкого предательства – и ситуации, при которой «коллекционер дорожных сахарных пакетиков / сыплет самый невзрачный из них – с синей полоской посередине – / себе в чай, обнаружив пустую сахарницу»,– на деле не есть произвольно сравнение, постановка рядом двух несоположимых, но соседствующих в пространстве явлений. Нет, это, конечно же, поиск глубинной, чрезвычайно тонкой аналогии, поиск внутренней формы события, позволяющей искать для себя метафору в жесте другого.
На этом, глубинно-метафорическом принципе, построены многие лучшие стихотворения Рубахина. Другой важный для этих текстов принцип – своеобразное смещение реальности, наблюдение за ней сквозь некое мутное стекло или поток дождя. Экспрессивность переживания, его подлинность и сила оттеняются своего рода самоумалением субъекта, его внутренней борьбой с пафосом чистой трансгрессии. Лирическое «я» в стихах Рубахина отказывается от конечных решений и немедленных, завершающих определенную линию мирового движения жестов,– при полном осознании абсолютной истинности этих самых конечных решений. Он подчеркнуто изыскан, но это изысканность не маньеристского толка, здесь было бы уместно сказать скорее о романтической иронии, если б не бессмысленность ведущихся в последнее время разговоров о «новом романтизме».
Важно и то, что поэзия Рубахина обладает нечастым для современной словесности качеством – она психологична, причем вне всяких вульгарных коннотаций. Рубахин, поэт, безусловно, эгоцентричный, ставящий субъект в основание поэтического познания, никогда не отказывается от самого факта наличия внешнего мира, ему чужд солипсизм, хотя за таковой и можно признать вышеупомянутые размытость и остраненность изображения. Нет, он чуток, но чуткость эта требует и чуткости к себе.
Данила ДавыдовТело письма
«Зачем солдат с себя сгоняет вошь…»
зачем солдат с себя сгоняет вошь,пока кавказ, пока содом и серажужжит и оседает на него ж,слетев со спички, или капнув с неба?моздок уже не тот – кругом дома,и рынок норовит залезть в бумажник;и только солнце, также задарма,вздымает зелень из семян вчерашних.апрель в чечне. поля, как города,века ужавшие до одного сезона,не оставляют с осени следа,и стекла выметаются из дома.Про гуся
муха мрет на столе,лапы к богу задрав,и его исцарапатьили выхватить сверху пытаясь,мельтешит шестерней,как агонии вечной солдат,как привыкший работать всем вверенным теломкитаец.было мне 10 лет.лета теплую пыльгород нес на себе,и июль раздевал всех до маек.во дворе положилс черной ручкой ножинаш сосед, которого имя забыл,прибалтиец, кажется, марек.рядом гусь кипирной тесемкой зажат:петлей крылья, бантик на лапах;он как веник под лавкой тихо лежал,и под кожанной пленкой глазаот детей собравшихся прятал.было мне 10 лет.во дворе был помостдеревянный – агитплощадка.взял за лапы соседи птицу понеси – кышь – покрикивая на нас —вам такое видеть нельзя бля,что-то сделал важное, что я сразу забыл,только гусь опустился на землю,скинул бантик, вразвалку к нам побежал,и мы побежали, наверное,от ожившей птицы, которой зобболтался и пустовал,а рыжие лапы непонятно когоносили вокруг двора.потом он сел и под собойстал рыть на площадке песок,а марек швырнул в нас его головой,и я убежал домой.неделю мы после ходили вокругямы среди двора,процарапанной парой оранжевых ноггуся или уже непонятно чего,как страх, украшенье стола.«Как таракан, решив выйти из отеческих нор…»
как таракан, решив выйти из отеческих нор,шевелит хитином усов, прикидывает шансызабраться под плинтус у дальней стены —так собираюсь я в восемьдесят второмв школу, давя сам себя коричневым ранцем,в котором в пределах разумного решены,по клеточкам осваивая пространство,задачи работы домашней -задатки чувства вины.«Новый год по старому стилю…»
новый год по старому стилю.в вагоне-столовойвисит мишура и выключен свет.бордовые щупальца «дождика»дотягиваются до котлетна столах. поезд стоит под городом ржавана полпути к курску.в окнах лестницы и фонари.проезжающий этой державойрад любому населенному пункту,как свету из под двери.Москва 1907–2007
я держу в уме исторический слойна метр вниз,где москва – в сравнении с этой —деревня, и навозна воздухе, не лежит,как сегодня смог,а лежит на брусчатке,где на сухаревской избашни открывается видна трехэтажный центр.и, чтоб выйти из дома, сначалаты надеваешь галошина общем лестничном марше.представляя такою москвуя чувствую себя лучше,как зная, что будет дальше,когда тут живуК весне
небесный бармен ни на чей заказв стакан москвы ночной подкладываетльда.экран рекламы – электронный страз,мотив труда.рябит окно,одежда на полу,сквозняк подъезд улиткой обживает,и тело ждет тепло, как жулик похвалу,чтоб не поверить, взгляда избегая,но жизнь закончить прежнюю к утру.так резко обрывается февраль,хоть срок его пенетециарно нуден.под санитарно-белую метельи воду твердую, как канифоль,остановившуюся на паяльном блюде,я спрятаться хотел.не по сезону общеримский календарьсолжет еще раз, начиная первыйдень весны. и город белыйс утра ему, как тапки, подавай.как с солнцем труп глазастый, леденелый,из снега вырастет оранжевый трамвайСтарый летчик
9 мая 2008. Москва
солнце топорщится в семь утра,москве объявляя май;с борта не видно того двора,которого тридцать пять лет назадпазуху обживал.каштаны подкинули белую горсть,сверху не пахнут цветы;машины толкают вялую злостьчерез сиреневый дым.ест гусениц камни таблеток чугун —стучит по площади танко том, что никогда одномуздесь оставаться нельзя.потом летят, как копья, стрижи,и самолеты, урча,несут в кабинах каждую жизнь,и непонятно – где чья.Девятое мая.
Фотография из окна трамвая
конный праздничный ментцокает с рацией в рот,переходя проспектчерез майский парад.на обнаженной москве,холодом спрятав листдерева в черном сучке,время, рождается изкаждой секунды того,чем кажемся. мыследим за «сейчас»,чтобы его поборотьвыдуман был глазкамеры, пленка и сетькремния, и серебро.лучше на все смотретьчерез стекло.Фотография пустой Красной площади, сделанная в людный день на длинной выдержке
с точки зренья камнейнас нет на ней.из живого камню доступна ель,и скелет в стене,или труп в стекледля булыжника есть обещанье нас,как круги на полях,до того, как рожьбудет скошена – так с доскимы стираем формулу, не решив,как сойдется над нами земля.Полонез Огинского «Прощание с родиной»
дама падает в метро.набок и чуть-чуть вперед,головою достаетнабежавший турникет.падает и так лежит.не решаясь дальше житьв общем,в частности, в москве.даме где-то сорок лет,и снаружи причин нет —видно, есть внутри нее.кто-то рядом с ней встает,поднимает вверх лицом.набирает телефонв своей будке контролер.дама создает затор,доктор ищется в толпе,полонеза ля-минорнапевает турникет.«Май, исходя, перрона плоскость греет…»
май, исходя, перрона плоскость греет,тряся бездомным утренним асфальт,по солнцу бьет, галдя и розовея,как в шапке краденой, под башенкой вокзал.вот свет простой оглохший и весеннийнесет семнадцать градусов в зубах —змеиной каплей внутренней, нательнойпод хлопком он спускается рубах.метро вагон железом дышит в трубку —от комсомольской считано в грудидворцов три станции, четыре промежутка —на линии зеленой перейти,динамо – сокол – капля лезет в брюки,подпрыгивает кабель за окном,москвы перебирая поезд юбки,под ее черным лезет подолом.«По реке возили Москве паром…»
по реке возили москве паром,зеленела вода под ним,и народу было на нем полно —ежегодный корпоратив.ночь с субботы на что-тов едва сентябрепротянулась с филей до коломн,где у раскопок коренных москвичейперевернулся паром.за борт прыгали менеджеры, визжал женский стаф,плыл за красным кругом завхози в руке над головою держалassus новый смартфон.с края судна, застывшего над водой,капитан говорил с мчс,перекрикивая электричку метро,громыхавшую через мост.Владивосток–Москва
как пизда,овраг темнеет на снежном склоне.человек курит в тамбуре в голубом исподнем.седьмой день в поезде с него снял штаныи пиджак.он остался одинмежду частямисемьи и света,путь на запад разделив ночамина семь фрагментов,освоенных рельсамитранссибирской вены,глядя поверх нее, как начальник.он курит, подъезжая к москве, понуро.он потомок геологов северо-восточного поколенья.через час в метро его клетчатые баулыбудет потрошить наряд увд на метрополитенеВ гости
железом дом, себя блюдя от улиц,калитки языком толкнет гостейв подъезда горло, как таблеток глянец,ссыпая в рот, глотаешь без воды.внутри их спины вылижет консьержка,пока, перебирая сверху внизв тоннеле шахты этажи, как четки,спускаться шкафом будет на веревке лифт.фанере этой не особо веря,в нее, как в лодку не свою войдя,сожмутся вместе гости, чтобы двериодна другой нащупали себя.восьмерки знак на предпоследней кнопкезадавлен пальцем, в алюминий влип,как из под ног меняя табуреткуна пустоту, вниз лезут этажи.гостей встречает, выйдя на площадку,как юбки красной двери дерматинподол подняв, и кухни запах сладкийуже не умещается за ним.Вместо детектива
в ту ночь, в проступившем едва октябре,домашний вольфрам на стене в пузыресветился от напряженья.квартира смотрела, как кошка во двор,два глаза держал ее стынущий домпод шерстью листвы осенней.и станет заметно через пару недель,когда тополя, как лещ объеден,костьми встав, окна не закроют,что ящики прут горой в потолок,что нет занавесок, в квартире голо,и кто-то накрыт с головою.«Смысл времени не ясен…»
смысл времени не ясен,не понятна метра грусть,пока я его обратнопрохожу куда-нибудь.поезд роет снег по пояс,черной щетки зимний лесуступает место полю,свет в вагоне – кто-то есть.край стакана в поцелуе,и волною черный чайрасплескался по столу, иложки о стекло стучат.это зимняя дорога —смерти верной по бокамдержат горизонт сугробыснега вечного пока.«Циклон был зол, родившись в шапке мира…»
циклон был зол, родившись в шапке мира,с нее сползал, как снега козыреки падал с накренившегося небаза шиворот, как снайпер подстерег.всего ноябрь. теперь еще сто двадцатьжить дней без черной обжитой землии перед ветром в пояс наклоняться,как только русские кланяться могли.«От шасси отвалился…»
от шасси отвалилсяпоследний квадратный метррусской столицы,профиль которой вверхпрорастает, давя, как тяжелый гримна лицо актера,забытого под нимсундуком в глубине коридора.отпускает, как, высохнув, грязьосыпается, делая легче в двараза шаг, когда подо мною, вертясь,вниз проваливается москва.«Свет идет равнодушно…»
свет идет равнодушнок тому, что наего пути возникает робко,как рябью обведенана воде зависает лодка,так лечу в самолете поверх тумана,и москва внизу,как выпавшая из карманамелочь сквозь решеткустока —не достать, зато ближе к богуэтот вид транспорта,где на выбор предложатналить вина.и, если ты выпил,это можетзначить аэрофобиюили отпуск.мы с творцом,получается, квитыза линолеум, прибитыйк полумоего ровесника ту,в которомя, как долгоиграющий леденецу него во рту,перекатываюсьс мотором,выпадая из низких тучв лучшем случаена полосу.«В холле гостиницы…»
в холле гостиницы,где у бараприлично быть одному —если составишь пару,то известно кому.известно кто, набиваясь в лаунжи тугие юбки,не отводят взгляда,как если на ножхотят посадитьи ищут поводанавстречу подняться,из карманов вытащить руки.впрочем, на ночьдоговориться,все равно, что маленькое самоубийстводоверить профессионалу,и, держась в стороне,ожидать, выполненияпод покрывалом,скрепя сердце,считая в уме.«От наглости или тупого счастья…»
от наглости или тупого счастья,которое крошь хлебная дает,ничьей ходьбы не замечали чайкии лезли как булыжник под нее,и растворялись тлей под каждым следом,который набережной ступенел.вода внизу бурлила черным хлебом,санкт-петербурга прячась в рукаве.когда октябрь, река, как диафрагма,ощупывая набережную, жатьначинает, как ребенка мамаКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

