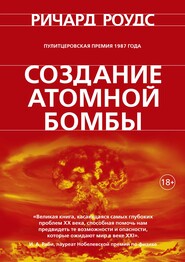скачать книгу бесплатно
История удачливости Беккереля, проявившейся после этого, стала легендарной. Когда он попытался повторить свой опыт, 26, а затем 27 февраля, в Париже было пасмурно. Он убрал завернутую фотопластинку, по-прежнему с нанесенной на нее урановой солью, в темный ящик. 1 марта он решил все-таки проявить пластинку, «ожидая, что изображение получится очень блеклым. Напротив, силуэты проявились с высокой интенсивностью. Я сразу подумал, что этот процесс, возможно, способен продолжаться и в темноте»[157 - Цит. по: Ibid., p. 29.]. Высокоэнергетическое, проницающее излучение инертной материи, возникающее без стимуляции солнечными лучами: теперь у Резерфорда появилась тема для исследований, а Пьер и Мария Кюри смогли взяться за свою изнурительную работу по поиску чистого излучающего элемента.
Между 1898 годом, когда Резерфорд впервые обратил внимание на это явление, открытое Анри Беккерелем и названное Марией Кюри радиоактивностью, и 1911 годом, в котором он совершил самое важное в своей жизни открытие, молодой новозеландский физик систематически трудился над расщеплением атома.
Он изучал виды излучения, испускаемого ураном и торием, и дал названия двум из них: «Эти опыты показывают, что излучение урана неоднородно по составу – в нем присутствуют по крайней мере два излучения различного типа. Одно очень сильно поглощается, назовем его для удобства ?-излучением, а другое имеет бо?льшую проникающую способность, назовем его ?-излучением»[158 - Резерфорд Э. Излучение урана и вызываемая им электропроводность // Избранные научные труды. Радиоактивность. М.: Наука, 1971. С. 72.][159 - Rutherford (1962), p. 175.]. Впоследствии француз П. У. Виллар открыл третий тип радиации, отличный от остальных, вид высокоэнергетических рентгеновских лучей, названный в соответствии со схемой Резерфорда гамма-излучением[160 - Segre (1980), p. 50.]. Эта работа была выполнена в Кавендишской лаборатории, но ко времени ее публикации в 1899 году Резерфорд, которому было тогда двадцать семь лет, перебрался в Монреаль и стал профессором физики в Университете Макгилла. Один канадский торговец табаком пожертвовал университету средства на строительство физической лаборатории и финансирование нескольких профессорских кафедр, в том числе и той, которую занял Резерфорд[161 - Речь идет о сэре Уильяме Кристофере Макдональде (1831–1917). Он не только финансировал создание физического и химического факультетов Университета Макгилла, но и восстановил сгоревшее здание инженерного факультета, а также расширил территорию университетского кампуса.]. «Университет Макгилла пользуется хорошей репутацией, – писал Резерфорд матери. – 500 фунтов – совсем не плохое жалованье, а поскольку физическая лаборатория в нем лучшая в мире в своем роде, жаловаться мне не приходится»[162 - Eve (1939), p. 57.].
В 1900 году Резерфорд объявил об открытии радиоактивного газа, выделяющегося из радиоактивного элемента тория[163 - «Радиоактивное вещество, испускаемое соединениями тория» (A radioactive substance emitted from thorium compounds). Rutherford (1962), p. 220, 231. См.: Резерфорд Э. Избранные научные труды. Радиоактивность. М.: Наука, 1971. С. 110).]. Мария и Пьер Кюри вскоре выяснили, что радий (который они выделили из урановой руды в 1898 году) также испускает радиоактивный газ. Чтобы понять, являются ли «выделения» тория также торием или каким-либо другим веществом, Резерфорду нужен был хороший химик; по счастью, ему удалось переманить к себе работавшего в том же университете молодого оксфордского выпускника Фредерика Содди, талантов которого в конце концов оказалось достаточно для получения Нобелевской премии. «В начале зимы [1900 года], – вспоминает Содди, – бывший тогда младшим профессором физики Эрнест Резерфорд зашел ко мне в лабораторию и рассказал об открытиях, которые он сделал. Он только что вернулся со своей молодой женой из Новой Зеландии… но еще до отъезда из Канады он открыл то, что сам он называл ториевой эманацией… Меня это, разумеется, очень заинтересовало, и я предположил, что следует изучить химические свойства этого [вещества]»[164 - Soddy (1953), p. 124 и далее.].
Оказалось, что этот газ начисто лишен каких бы то ни было химических свойств. Из этого, как говорит Содди, «вытекал важнейший и неизбежный вывод о том, что торий медленно и самопроизвольно превращается в [химически инертный] газ аргон!»[165 - Позднее выяснилось, что выделяются целых два инертных газа: радиоактивный радон и нерадиоактивный гелий. Аргона – единственного из инертных газов, который был к тому времени давно и хорошо исследован, – там не оказалось. – Прим. науч. ред.][166 - Ibid., p. 126.]. Содди и Резерфорд наблюдали самопроизвольный распад радиоактивных элементов – это было одно из крупнейших открытий физики XX века. Они взялись за изучение того, как именно уран, радий и торий превращаются в другие элементы путем испускания части своих атомов в виде альфа- и бета-частиц. Они обнаружили, что каждое из разных радиоактивных веществ обладает характерным для него «временем полураспада», то есть временем, за которое интенсивность его излучения уменьшается вдвое по сравнению с ранее измеренной величиной. Время полураспада соответствует времени превращения половины атомов исходного элемента в атомы другого элемента или физически отличного вида того же элемента – «изотопа», как назвал его Содди[167 - Soddy (1913), p. 400.]. Время полураспада стало инструментом для обнаружения присутствия преобразованного вещества – «продуктов распада» – в количествах, слишком малых для обнаружения химическими методами. Для урана время полураспада оказалось равным 4,5 миллиарда лет, для радия – 1620 годам, для одного из продуктов распада тория – 22 минутам, а для другого продукта распада тория – 27 суткам. Некоторые из продуктов распада возникали и сами превращались в другие элементы за малые доли секунды – буквально в мгновение ока. Эта работа была чрезвычайно важной с точки зрения физики, она открывала восхищенному взору исследователя все новые и новые области, и, как вспоминал впоследствии Содди, «в течение более чем двух лет жизнь была полна такой суматохи, какая редко встречается на протяжении всей жизни человека и даже, возможно, на протяжении всей жизни целой организации»[168 - Soddy (1953), p. 127.].
Попутно Резерфорд исследовал излучение, испускаемое радиоактивными элементами во время их превращений. Он доказал, что бета-излучение состоит из высокоэнергетических электронов, «во всех отношениях подобных катодным лучам»[169 - Rutherford (1962), p. 549.]. Он подозревал, а позднее, уже в Англии, и убедительно доказал, что альфа-частицы – это положительно заряженные атомы[170 - Точнее – ионы. Еще позднее Резерфорд выяснил, что эти двузарядные ионы гелия фактически являются ядрами атомов гелия; но в то время до формулировки самой концепции атомного ядра Резерфорду оставалось еще много лет. – Прим. науч. ред.] гелия, испускаемые в процессе радиоактивного распада. Гелий находят заключенным внутри кристаллической структуры урановой и ториевой руды; теперь Резерфорд знал, с чем это связано.
В 1903 году Содди написал важную статью под названием «Радиоактивные преобразования» (Radioactive Change), в которой были приведены первые обоснованные расчеты количества энергии, выделяющейся при радиоактивном распаде:
Поэтому можно утверждать, что количество энергии, выделяющейся при распаде 1 г радия, не должно быть меньше 10
кал и может быть заключено в пределах от 10
до 10
кал. Энергия излучения не обязательно равна полной энергии распада, а может составлять лишь малую ее часть, поэтому с достаточной уверенностью можно принять значение 10
кал как наименьшую вероятную величину энергии радиоактивного превращения радия. При соединении водорода и кислорода выделяется примерно 4 · 103 кал на 1 г образующейся воды, а ведь при этой реакции на единицу веса выделяется большее количество энергии, чем при любом другом известном нам химическом превращении. Следовательно, энергия радиоактивного превращения по крайней мере в двадцать тысяч, а может быть, и в миллион раз превышает энергию любого молекулярного превращения[171 - Резерфорд Э. (совместно с Ф. Содди). Радиоактивное превращение // Избранные научные труды. Радиоактивность. М.: Наука, 1971. С. 311.][172 - Ibid., p. 606 и далее.].
Таково было строгое научное утверждение; неформально же Резерфорд был склонен к причудливой эсхатологии. Один из кембриджских ученых, писавший в том же 1903 году статью по радиоактивности, подумывал процитировать высказанное Резерфордом «шутливое предположение о том, что, если только найдется подходящий детонатор, можно будет представить себе возможность запуска в материи волны атомного распада, которая и впрямь спалит весь наш старый мир дотла»[173 - Eve (1939), p. 102.]. Резерфорд часто шутил, что «какой-нибудь дурак, работая в лаборатории, может ненароком взорвать Вселенную»[174 - Ibid.]. Даже если атомной энергии и не суждено было стать полезной, она вполне могла быть опасной.
Содди, вернувшийся в том же году в Англию, исследовал эту тему более серьезно. В своем докладе по радию, прочитанном в 1904 году перед Корпусом королевских инженеров, он дальновидно рассуждал о некоторых из возможных применений атомной энергии:
Вероятно, любое тяжелое вещество обладает – находящейся в скрытом виде и связанной структурой атома – энергией, количество которой сходно с содержащимся в радии. Если бы эту энергию можно было извлечь управляемым образом, какое мощное средство для определения судеб мира можно было бы получить! Человек, взявший в руки рычаг, при помощи которого природа столь скупо отмеривает выдачу энергии из этих запасов, получил бы в свое распоряжение оружие, которым он мог бы, если бы захотел, уничтожить всю Землю.
Содди не считал такую возможность вероятной: «Сам факт нашего существования доказывает, что [крупномасштабного высвобождения энергии] никогда не случалось; а то, что такого не случалось раньше, есть наилучшая из возможных гарантий того, что этого не произойдет и впредь. Мы можем рассчитывать на то, что Природа сохранит свою тайну»[175 - Soddy (1953), p. 95.].
Когда Герберт Уэллс прочитал сходные утверждения в вышедшей в 1909 году книге Содди «Интерпретация радия»[176 - В русском переводе это сочинение Содди было впервые издано в 1910 г. под названием «Радий и его разгадка», после этого под таким же названием оно было переиздано в 1915-м, а в 1923 г. третье издание вышло под названием «Радий и строение атома». – Прим. ред.] (Interpretation of Radium), ему не показалось, что Природа настолько заслуживает доверия. «Я позаимствовал свою идею у Содди», – писал он о книге «Освобожденный мир». Он назвал свое произведение «одним из старых добрых научных романов»[177 - Цит. по: Dickson (1969), p. 228.]; оно было для него настолько важным, что для его написания он прервал серию романов социальных. Таким образом, именно рассуждения Резерфорда и Содди о радиоактивных превращениях послужили источником вдохновения для того научно-фантастического романа, который в конце концов навел Лео Сциларда на размышления о цепных реакциях и атомных бомбах.
Летом 1903 года Резерфорды побывали в Париже и посетили супругов Кюри. Так совпало, что именно в день их приезда Мария Кюри получала свою докторскую степень по естественным наукам; общие друзья организовали празднование этого события. «После весьма оживленного вечера, – вспоминал Резерфорд, – около 11 часов мы вышли в сад, и профессор Кюри вынес туда трубку, частично покрытую сульфидом цинка, в которой содержалось большое количество раствора радия. Она ярко светилась в темноте, и это стало великолепным завершением этого незабываемого дня». Покрытие из сульфида цинка флуоресцировало белым светом, что позволяло увидеть в темноте парижского вечера, как радий испускает частицы высокой энергии, сдвигаясь по периодической системе от урана к свинцу. Свечение было настолько ярким, что Резерфорд смог рассмотреть руки Пьера Кюри, бывшие «в чрезвычайно воспаленном и болезненном состоянии в результате воздействия лучей радия»[178 - Eve (1939), p. 93.]. Опухшие от радиационных ожогов руки были еще одной наглядной иллюстрацией того, на что способна энергия, содержащаяся в материи.
В 1905 году к Резерфорду в Монреаль приехал тридцатишестилетний немецкий химик Отто Ган. До этого Ган уже открыл новый «элемент» радиоторий, но впоследствии стало ясно, что он представляет собой один из двенадцати изотопов тория. Вместе с Резерфордом он исследовал излучение тория; вместе они установили, что альфа-частицы, испускаемые торием, имеют ту же массу, что и альфа-частицы, испускаемые другим радиоактивным элементом, актинием. Таким образом, речь, вероятно, шла об одних и тех же частицах – и этот вывод стал еще одним шагом к доказательству того, что альфа-частица представляет собой заряженный атом[179 - См. предыдущее прим. науч. ред.] гелия, которое Резерфорд получил в 1908 году. В 1906-м Ган вернулся в Германию, где его ждала славная карьера первооткрывателя изотопов и химических элементов; Лео Сцилард встретился с ним, когда работал в 1920-х годах в берлинском Институте химии кайзера Вильгельма вместе с физиком Лизой Мейтнер.
Исследования по распутыванию сложных превращений радиоактивных элементов, которые Резерфорд проводил в Университете Макгилла, принесли ему в 1908 году Нобелевскую премию – но не по физике, а по химии. Он стремился к этой премии и писал жене в конце 1904 года, когда она вернулась в Новую Зеландию повидаться с родными: «Если я буду продолжать в том же духе, у меня может быть шанс»[180 - Ibid., p. 123.]; а в начале 1905 года снова: «Все идут за мной по пятам, и чтобы у меня была хоть какая-то надежда получить Нобелевскую премию в ближайшие годы, мне необходимо продолжать развивать свою работу»[181 - Ibid., p. 127.]. То, что он получил премию по химии, а не по физике, его по меньшей мере забавляло. «Его до самого конца отлично можно было этим дразнить, – говорит его зять, – и он прекрасно понимал комизм этой истории, что на него навечно приклеили ярлык химика, а не настоящего физика»[182 - Р. Г. Фаулер, цит. по: Ibid., p. 429.].
Те, кто присутствовал на церемонии[183 - Ibid., p. 183.], говорили, что Резерфорд выглядел до смешного молодо – ему было тридцать семь лет – и произнес самую важную речь этого вечера. Он объявил о недавно полученном доказательстве того, что альфа-частицы на самом деле представляют собой гелий, – в предыдущем месяце было обнародовано лишь краткое сообщение об этих результатах[184 - «Природа ?-частицы» (The Nature of the ? Particle), 3 ноября 1908 г.; Rutherford (1963), p. 134, 135.]. Доказательство это было получено в эксперименте, проведенном с характерным изяществом. Резерфорд заказал стеклодувам трубку с чрезвычайно тонкими стенками. Откачав воздух из этой трубки, он заполнил ее газообразным радоном, мощным источником альфа-частиц. Трубка была герметичной для газов, но альфа-частицы могли вылетать из нее сквозь тонкие стенки. Трубку с радоном Резерфорд поместил в другую стеклянную трубку, откачал воздух из пространства между трубками и загерметизировал его. «Через несколько дней, – торжествующе сказал он своим слушателям в Стокгольме, – во внешнем сосуде наблюдался яркий спектр гелия»[185 - Ibid., p. 145.]. Опыты Резерфорда до сих пор ошеломляют своей простотой. «В этом отношении Резерфорд был настоящим художником, – говорит один из его бывших учеников. – Все его опыты были элегантны»[186 - Russell (1950), p. 91.].
Весной 1907 года Резерфорд уехал из Монреаля вместе со своей семьей – в которую к тому времени входила и шестилетняя дочь, его единственный ребенок, – и вернулся в Англию. Он согласился занять должность профессора физики в Манчестере, том самом городе, в котором Джон Дальтон почти в точности за век до того положил начало возрождению атомистической теории. Резерфорд купил там дом и сразу приступил к работе. Вместе с кафедрой ему достался опытный немецкий физик Ханс Гейгер, бывший ассистентом у его предшественника. Много лет спустя Гейгер тепло вспоминал те манчестерские дни и Резерфорда, окруженного научным оборудованием:
Я вижу его тихий рабочий кабинет на верхнем этаже физического корпуса, под самой крышей, где хранился его радий и было выполнено столько знаменитых работ по радиоактивным выделениям. Но я вижу также и мрачный подвал, в котором он установил свои точные приборы для изучения альфа-лучей. Резерфорд обожал эту комнату. Нужно было спуститься на две ступеньки, и тогда из темноты раздавался голос Резерфорда, который предупреждал, что нужно не задеть головой проходящую через комнату горячую трубу и не споткнуться о еще две водопроводных трубы. После этого наконец можно было увидеть в слабом освещении и самого великого мужа, сидящего за своими приборами[187 - Цит. по: Eve (1939), p. 239.].
Дом Резерфорда был местом более жизнерадостным; еще один из его манчестерских питомцев с удовольствием вспоминал «проходившие по субботам и воскресеньям ужины в выкрашенной белым столовой, за которыми следовали сборища в кабинете на втором этаже, продолжавшиеся до глубокой ночи; воскресные чаепития в гостиной, часто сопровождавшиеся автомобильными прогулками по дорогам Чешира»[188 - Russell (1950), p. 88.]. Спиртного в доме не было, потому что Мэри Резерфорд его употребления не одобряла. Ей пришлось поневоле смириться с курением, так как ее муж курил постоянно – и трубку, и сигареты.
К началу среднего возраста он стал известен своей громогласностью – один из учеников назвал его «вождем племени» – и любовью к шуткам и жаргону. Он расхаживал по лаборатории, фальшиво распевая «Вперед, Христово воинство»[189 - Onward, Christian Soldiers – английский религиозный гимн на музыку Артура Салливана, ставший «фирменным» маршем «Армии спасения».]. Теперь он стал видной фигурой; его трудно было не заметить. У него было румяное лицо с часто мигающими голубыми глазами и начало появляться весьма заметное брюшко. Его неуверенность в себе была хорошо замаскирована; его рукопожатие было коротким, мягким и несильным[190 - Oliphant (1972), p. 22.]. «Создавалось впечатление, – говорит еще один из его бывших учеников, – что он избегал физических контактов»[191 - Ibid.]. Его по-прежнему могло выбить из колеи высокомерное отношение: тогда он густо краснел и отворачивался в замешательстве[192 - Ср. его реакцию на слова епископа в гамашах, который высокомерно сравнил Южный остров Новой Зеландии с городом Сток-он-Трент в Russell (1950), p. 96.]. В общении со своими учениками он вел себя спокойнее и мягче, почти идеально. «Этот человек, – восхищенно говорит один из них, – никогда не жульничал»[193 - Ibid., p. 89.].
Биохимик Хаим Вейцман, еврей из России, ставший впоследствии первым президентом Израиля, исследовал в то время в Манчестере продукты ферментации. Они с Резерфордом стали добрыми друзьями. «Моложавый, энергичный, шумный, – вспоминал Вейцман, – он был похож на кого угодно, только не на ученого. Он охотно и напористо разглагольствовал на любую тему на свете, зачастую не зная о ней ничего. Когда я шел в столовую на обед, я слышал, как по коридору раскатывается его громкий, дружелюбный голос». Вейцман считал, что Резерфорд совершенно не разбирается в политике, но не винил его в этом, потому что все его время занимала важная научная работа. «Он был человеком добродушным, но терпеть не мог глупости»[194 - Weizmann (1949), p. 118.].
В сентябре 1907 года, во время своего первого семестра в Манчестере, Резерфорд составил список возможных тем для исследований. Седьмым пунктом в этом списке шло «Рассеяние альфа-лучей»[195 - Feather (1940), p. 117.]. Проработав несколько лет над определением сущности альфа-лучей, он смог оценить их достоинства в качестве инструмента для изучения атома; альфа-частицы были массивными по сравнению с практически невесомыми бета-частицами, то есть электронами, хотя последние и обладали более высокой энергией, и активно взаимодействовали с материей. Измерение таких взаимодействий могло дать информацию о строении атома. «Меня учили считать атом этаким симпатичным твердым объектом, красного или серого цвета, кому как нравится»[196 - Eve (1939), p. 384.], – сказал однажды Резерфорд, выступая на банкете. К 1907 году ему стало ясно, что атом – это вовсе не твердый объект, а по большей части пустое пространство. Немецкий физик Филипп Ленард продемонстрировал это еще в 1903 году, бомбардируя разные элементы катодными лучами[197 - Ср. Andrade (1957), p. 441.]. Ленард описал свои результаты яркой метафорой: пространство, которое занимает кубический метр твердой платины, говорил он, так же пусто, как и межзвездное пространство за пределами Земли.
Но если в атомах содержалось пустое пространство – пустота внутри пустоты, – было в них и нечто другое. В 1906 году, работая в Университете Макгилла, Резерфорд изучал магнитное отклонение альфа-частиц, проводя их сквозь узкую формующую щель и пропуская получившийся тонкий пучок через магнитное поле. В одном из опытов он закрыл половину формующей щели листом слюды толщиной всего около трех тысячных сантиметра, то есть достаточно тонким для пропускания альфа-частиц. Регистрируя результаты опыта на фотобумаге, он обнаружил, что краевые участки пучка, пропущенного сквозь слюду, оказались размытыми. Это означало, что во время прохождения альфа-частиц атомы слюды рассеивают многие из них – то есть отклоняют их от прямолинейной траектории на углы, достигающие 2°. Поскольку сильное магнитное поле рассеивало альфа-частицы, не прошедшие сквозь слюду, лишь немногим больше, тут явно происходило нечто необычное. Для такой массивной частицы, как альфа, летящей со столь высокой скоростью, отклонение на 2° было огромным. Резерфорд подсчитал, что для такого отклонения альфа-частиц требуется электрическое поле порядка 100 миллионов вольт на сантиметр слюды[198 - Расчеты Резерфорда, выполненные в 1906 г., цит. по: Feather (1940), p. 131.]. «Такой результат ясно показывает, – писал он, – что атомы вещества должны быть теми областями, где действуют очень интенсивные электрические силы, – вывод, который находится в согласии с электронной теорией вещества»[199 - Резерфорд Э. Торможение ?-частиц, испускаемых радием при прохождении через вещество // Избранные научные труды. Строение атома и искусственное превращение элементов. М.: Наука, 1972. С. 49.][200 - Ibid.]. Именно это рассеяние он и внес в свой список предметов для исследования.
Для этого ему нужно было не только подсчитывать, но и видеть отдельные альфа-частицы. Уже в Манчестере он начал работу по совершенствованию необходимых для этого приборов. Вместе с Хансом Гейгером они стали разрабатывать электрическое устройство, которое отмечало бы прибытие каждой отдельной альфа-частицы в счетную камеру. Впоследствии Гейгер усовершенствовал это изобретение, получив знакомый нам счетчик Гейгера, который используется в современных исследованиях радиации.
Отдельные альфа-частицы можно было сделать видимыми при помощи сульфида цинка – вещества, использованного для покрытия пробирок с раствором радия, которые Пьер Кюри принес в ночной парижский сад в 1903 году. Если взять маленькую стеклянную пластинку, покрытую сульфидом цинка, и бомбардировать ее альфа-частицами, в каждой ее точке, в которую попадает частица, на короткое время возникает флуоресценция. Это явление называют «сцинтилляцией», от латинского слова scintilla, то есть «искра». При помощи микроскопа можно различить и подсчитать отдельные слабые сцинтилляционные вспышки сульфида цинка. Этот метод был чрезвычайно трудоемким и утомительным. Экспериментаторы должны были провести по меньшей мере тридцать минут в темной комнате, чтобы их глаза привыкли к темноте, а затем по очереди подсчитывать вспышки в течение минуты каждый, меняясь по звонку таймера[201 - Blackett (1933), p. 77.], – потому что дольше этого пристально рассматривать маленький темный экран было невозможно. Даже в микроскоп вспышки были еле-еле заметны, и наблюдатель, ожидавший возникновения определенного числа вспышек, иногда мог непреднамеренно видеть вспышки воображаемые. Таким образом, было неясно, насколько точным такой подсчет вообще может быть. Резерфорд и Гейгер сравнили результаты такого визуального подсчета с соответствующими данными электрического счетчика. Когда выяснилось, что наблюдатели обеспечивают достаточно точный подсчет, от электрического счетчика отказались. Он мог подсчитывать частицы, но не позволял их увидеть, а Резерфорда прежде всего интересовало определение положения альфа-частиц в пространстве.
Гейгер продолжил изучение рассеяния альфа-частиц с помощью Эрнеста Марсдена, бывшего тогда восемнадцатилетним студентом Манчестерского университета. Они наблюдали альфа-частицы, вылетающие из трубки-источника и проходящие сквозь фольгу из разных металлов – алюминия, серебра, золота или платины. Результаты по большей части соответствовали ожиданиям: альфа-частицы вполне могли набрать до 2° суммарного отклонения, отражаясь от атомов, предполагаемых пудинговой моделью. Однако вызывало беспокойство присутствие в этом эксперименте частиц, поведение которых было аномальным[202 - Подробности из Marsden (1962), p. 8 и далее.]. Гейгер и Марсден считали, что их могут рассеивать молекулы стенок трубки-источника. Они попытались избавиться от аномальных частиц путем сужения и формования конца трубки набором металлических шайб калиброванного размера. Это не помогло.
Однажды в лабораторию зашел Резерфорд. Втроем они обсудили эту проблему. Что-то в ней навело Резерфорда на интуитивное предположение о возможности интересных побочных явлений. Не придавая этому почти никакого значения, он повернулся к Марсдену и сказал: «Посмотрите, нельзя ли увидеть эффект прямого отражения альфа-частиц от металлической поверхности»[203 - Ibid., p. 8.]. Марсден знал, что результат такого опыта предположительно должен быть отрицательным – альфа-частицы должны пролетать сквозь тонкую фольгу, а не отражаться от нее, – но упустить положительный результат было бы непростительным прегрешением. Он самым тщательным образом подготовил сильный источник альфа-излучения и направил тончайший пучок альфа-частиц на лист золотой фольги под углом 45°. Сцинтилляционный экран был установлен с той же стороны от фольги, что и источник, так что частицы, отражающиеся назад, должны были попадать в экран и вызывать сцинтилляцию. Между источником и экраном Марсден расположил толстую свинцовую пластину, чтобы исключить вмешательство альфа-частиц, попадающих на экран прямо из источника.
Схема эксперимента Эрнеста Марсдена: А—В – источник альфа-частиц, R—R – золотая фольга, Р – свинцовая пластина, S – сцинтилляционный экран из сульфида цинка, М – микроскоп
К своему удивлению, он немедленно обнаружил то, что искал. «Я хорошо помню, как рассказал об этом результате Резерфорду, – писал он, – которого я встретил на лестнице, ведущей в его комнату, и с каким восторгом сообщил ему об этом»[204 - Ibid.].
Несколько недель спустя Гейгер и Марсден по указанию Резерфорда подготовили результаты опыта к публикации. «С учетом высокой скорости и массы ?-частицы, – писали они в заключение, – кажется удивительным, что, как показывает этот эксперимент, некоторые из ?-частиц могут быть повернуты в слое золота толщиной 6 ? 10
[т. е. 0,00006] см на угол 90° и даже более. Для получения аналогичного эффекта в магнитном поле потребовалось бы поле огромной напряженности в 10
абсолютных единиц»[205 - Х. Гейгер и Э. Марсден, «О диффузном отражении ?-частиц» (On a diffuse reflection of ?-particles) в Conn and Turner (1965), p. 135 и далее.]. Тем временем Резерфорд продолжал размышлять о том, что может означать такое рассеяние.
Размышлял он об этом, занимаясь в то же время другой работой, больше года. В самом начале он интуитивно понял, что означает этот эксперимент, но затем это понимание пропало[206 - Ср. Norman Feather в Rutherford (1963), p. 22.]. Даже после того, как он обнародовал свои потрясающие выводы, ему не хватало уверенности настаивать на них. Одна из причин такой его нерешительности могла заключаться в том, что это открытие противоречило моделям атома, которые сформулировали ранее Дж. Дж. Томсон и лорд Кельвин. Кроме того, в его интерпретации открытия Марсдена возникали и некоторые физические противоречия, которые тоже нужно было объяснить.
Резерфорд был искренне поражен результатами Марсдена. «Это было поистине самое невероятное событие, случившееся со мной за всю мою жизнь, – говорил он впоследствии. – Это было так же невероятно, как если бы мы выстрелили 15-дюймовым снарядом по листу папиросной бумаги, а снаряд прилетел бы обратно и попал в нас. Поразмыслив, я понял, что такое обратное рассеяние должно быть результатом единичного столкновения, а когда я выполнил расчеты, оказалось, что эффект такого порядка величины возможен только в одном случае – если рассматривать систему, в которой подавляющая часть массы атома сосредоточена в ядре чрезвычайно малого размера»[207 - Цит. по: Conn and Turner (1965), p. 136 и далее.].
Слово «столкновение» обманчиво. То, что представлял себе Резерфорд, выполняя расчеты и чертя схемы атомов на больших листах плотной бумаги[208 - Ср. фотографии этих исторических записей в в Rutherford (1963), после p. 240.], в точности соответствовало такой искривленной траектории, направленной сначала к компактному, массивному центральному телу, а затем от него, которую описывает комета в своем гравитационном па-де-де с Солнцем. Он изготовил специальную модель – тяжелый электромагнит, подвешенный наподобие маятника на десятиметровой проволоке и скользящий по поверхности другого электромагнита, установленного на столе[209 - Ср. Eve (1939), p. 197.]. Когда у двух соприкасающихся сторон магнитов были одинаковые полярности, что вызывало их взаимное отталкивание, маятник отклонялся по параболической траектории, зависящей от скорости и угла сближения, – точно так же, как отклонялись альфа-частицы. Резерфорду, как всегда, требовалось наглядное представление того, над чем он работал.
Когда и последующие эксперименты подтвердили его теорию о существовании в атоме маленького массивного ядра, он наконец решился ее обнародовать. В качестве аудитории он выбрал старую манчестерскую организацию, Манчестерское литературно-философское общество – то есть «в основном людей с улицы, – говорит Джеймс Чедвик, еще студентом присутствовавший при этом историческом событии 7 марта 1911 года, – людей, интересовавшихся литературными и философскими идеями, в основном коммерсантов»[210 - Chadwick OHI, AIP, p. 11.].
Первым пунктом повестки дня было сообщение манчестерского импортера фруктов о редкой змее, которую он нашел в партии бананов с Ямайки. Змею он продемонстрировал[211 - Ibid. Ср. также Chadwick (1954), прим. на p. 442.]. Затем настала очередь Резерфорда. Сохранилась лишь аннотация его выступления, но Чедвик вспоминает, что он чувствовал, слушая его: «Для нас, совсем молодых, это выступление было совершенно потрясающим… Мы понимали, что эта идея явно истинна, что это и есть подлинная суть»[212 - Chadwick OHI, AIP, p. 12.].
Резерфорд нашел в атоме ядро. Пока что он не знал, как располагаются электроны атома. На собрании в Манчестере он говорил о том, что «…атом, по предположению, состоит из центрального ядра, окруженного зарядом противоположного знака, равномерно распределенным внутри сферы радиуса R…»[213 - Резерфорд Э. Рассеяние ?- и ?-частиц веществом и строение атома // Избранные научные труды. Строение элементов и искусственное превращение элементов. М.: Наука, 1972. С. 213.][214 - Rutherford (1963), p. 212.]. Эта формулировка была достаточно обобщенной для расчетов, но не учитывала того существенного физического факта, что «противоположный электрический заряд» должен быть воплощен в электронах. Они должны каким-то образом располагаться вокруг ядра.
Здесь мы встречаемся еще с одной загадкой. В 1903 году японский физик-теоретик Хантаро Нагаока предложил «сатурнианскую» модель атома, в которой вокруг «положительно заряженной частицы» вращаются плоские кольца электронов, подобные кольцам Сатурна[215 - Ср. Conn and Turner (1965), p. 112 и далее, частичный текст.]. Нагаока приспособил для своей модели математический аппарат, взятый из первой статьи Джеймса Клерка Максвелла, опубликованной в 1859 году и принесшей ему триумфальный успех; она называлась «Об устойчивости движения колец Сатурна». Все биографы Резерфорда согласны в том, что Резерфорд узнал о статье Нагаоки только 11 марта 1911 года – после манчестерского собрания, – когда он прочитал о ней в открытке, присланной другом-физиком: «Кэмпбелл сказал мне, что Нагаока когда-то пытался предположить наличие в атоме большого положительного центра, чтобы объяснить оптические эффекты»[216 - Цит. по: Feather (1940), p. 136.]. Затем он нашел эту статью в журнале Philosophical Magazine и добавил ее обсуждение на последнюю страницу своей развернутой статьи под названием «Рассеяние ?- и ?-частиц веществом и строение атома», которую отправил в тот же журнал в апреле. В этой статье он писал: «Интересно отметить, что Нагаока математически рассмотрел атом “Сатурния”, который, по его предположению, состоит из центральной притягивающей массы, окруженной кольцами вращающихся электронов»[217 - Цит. по: Резерфорд Э. Избранные научные труды. Строение атома и искусственное превращение элементов. М.: Наука, 1972. С. 223.][218 - Rutherford (1963), p. 254.].
По-видимому, однако, Нагаока был у него незадолго до этого, так как 22 февраля 1911 года японский физик писал Резерфорду из Токио, благодаря его «за тот чрезвычайно теплый прием, который Вы оказали мне в Манчестере»[219 - Нагаока косвенно указывает, что приезжал до июля 1910 г. – после открытия Марсдена, сделанного в 1909-м, но до того, как Резерфорд объявил Гейгеру под Рождество 1910 г., что нашел объяснение. – Прим. авт.]. Однако два физика, видимо, не обсуждали атомные модели; иначе Нагаока, вероятно, продолжил бы такое обсуждение в своем письме, а Резерфорд, бывший человеком абсолютно честным, несомненно упомянул бы об этом в своей статье.
Одна из причин, по которым Резерфорд не знал о сатурнианской модели атома Нагаоки, состоит в том, что модель эта подверглась резкой критике и была отвергнута вскоре после того, как Нагаока ее предложил. Дело в том, что в ней был один крупный недостаток – тот самый теоретический дефект, который оставался и в модели атома, предложенной теперь Резерфордом[220 - Ср. обсуждение в Heilbron and Kuhn (1969), p. 241 и далее.]. Кольца Сатурна устойчивы, потому что сила, действующая между составляющими их обломочными частицами – гравитация, – создает притяжение. Однако сила, действующая между электронами сатурнианских электронных колец Нагаоки, то есть между отрицательными электрическими зарядами, – создает отталкивание. Из этого математически следует, что при наличии двух или более электронов, равномерно распределенных по орбите вращения вокруг ядра, они должны приобрести колебательные моды – неустойчивые состояния, – которые быстро приведут к распаду атома.
То, что было справедливо для сатурнианского атома Нагаоки, теоретически должно было быть справедливо и для того атома, который Резерфорд обнаружил опытным путем. Если в атоме действуют механические законы классической физики, те Ньютоновы законы, которые управляют отношениями тел в планетарных системах, то модель Резерфорда работать не может. Но модель эта не была обычным теоретическим построением. Она была получена в результате физического эксперимента. И она явно работала. Атом оставался устойчивым сколь угодно долгое время и отражал альфа-частицы как артиллерийские снаряды.
Кто-то должен был разрешить это противоречие между классической физикой и экспериментально изученным атомом Резерфорда. Для этого нужен был человек, отличный от Резерфорда: не экспериментатор, а теоретик, но теоретик, тесно связанный с реальностью. Нужно было, чтобы он обладал по меньшей мере не меньшей отвагой, чем Резерфорд, и такой же уверенностью в своей правоте. Нужно было, чтобы он был готов пройти сквозь зеркало механики в неизведанный немеханический мир, в котором происходящее на атомном уровне уже нельзя было моделировать при помощи аналогий с планетами и маятниками.
И именно такой человек, как будто специально вызванный для этого дела, внезапно появился в Манчестере. 18 марта 1912 года Резерфорд объявил о его прибытии в письме к одному американскому другу: «Датчанин Бор ушел из Кембриджа и явился сюда, чтобы набраться опыта работы с радиоактивностью»[221 - Eve (1939), p. 218.]. Этим датчанином был физик-теоретик Нильс Хенрик Давид Бор. Ему было двадцать семь лет.
3
«TVI»[222 - Обогащению материалов этой главы чрезвычайно сильно способствовали беседы с Джозайей Томпсоном.]
«В комнату вошел некрепкий с виду юноша, – вспоминает манчестерские дни коллега Резерфорда по Университету Макгилла и его биограф А. С. Ив, – которого Резерфорд сразу же увел в свой кабинет. Миссис Резерфорд объяснила мне, что этот гость – молодой датчанин, и ее муж чрезвычайно высокого мнения о его работе. Это и неудивительно, ведь это был Нильс Бор!»[223 - Eve (1939), p. 218.] Это воспоминание кажется странным. Бор был выдающимся спортсменом. Его футбольные подвиги студенческих времен были широко известны в Дании. Он бегал на лыжах, ездил на велосипеде и ходил под парусом; он колол дрова; никто не мог обыграть его в пинг-понг; поднимаясь по лестнице, он то и дело перескакивал через ступеньки. Его внешность также была впечатляющей: он был высок по меркам своего поколения и имел, как говорит Ч. П. Сноу, «огромную куполообразную голову»[224 - Snow (1981), p. 19.], вытянутую, тяжелую челюсть и большие руки. В молодости он был тоньше, и копна его непослушных, зачесанных назад волос могла показаться человеку в возрасте Ива, который был на двенадцать лет старше Резерфорда, мальчишеской. Но Нильса Бора вряд ли можно было назвать «некрепким с виду».
Помимо внешнего вида Бора, противоречащие остальным воспоминания Ива вызваны еще чем-то – вероятно, его манерой держаться, которая иногда могла быть неуверенной. Он был «гораздо сильнее и спортивнее, чем можно было предположить по его осторожному поведению, – подтверждает Сноу. – К тому же говорил он очень тихо, почти что шепотом». В течение всей своей жизни Бор говорил так тихо – и в то же время неутомимо, – что его собеседникам все время приходилось напрягать слух. Сноу называл его «оратором, который так же долго добирался до сути, как Генри Джеймс в последние годы своей жизни»[225 - Ibid.], но его речь бывала чрезвычайно разной в публичных выступлениях и частных беседах, а также при исходном обсуждении какой-нибудь новой темы и при изложении предметов, уже хорошо освоенных. По словам Оскара Клейна, бывшего сперва учеником, а затем и сотрудником Бора, в публичных выступлениях «он старался самым тщательным образом как можно точнее формулировать все оттенки своих высказываний»[226 - Цит. по: Rozental (1967), p. 78.]. Альберт Эйнштейн восхищался тем, как Бор «…излагает свое мнение так, точно постоянно движется на ощупь: он ничуть не похож на человека, знающего истину в последней инстанции»[227 - Цит. по: Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. С. 400.][228 - Цит. по: Pais (1982), p. 417.]. Но если в исследовательской фазе своих рассуждений Бор искал, продвигался на ощупь, то по мере освоения темы «его уверенность возрастала, и речь его становилась энергичной и наполнялась яркими образами»[229 - Frisch (1979), p. 94.], – отмечал племянник Лизы Мейтнер, физик Отто Фриш. А в частных беседах, в кругу близких друзей, говорит Клейн, «он выражал свою точку зрения в решительных образах и сильных выражениях, как восхищенных, так и критических»[230 - Цит. по: Rozental (1967), p. 79.]. Манеры Бора были такими же двойственными, как и его речь. Эйнштейн познакомился с Бором в Берлине весной 1920 года. «Нечасто в моей жизни, – писал он Бору впоследствии, – встречались люди, само присутствие которых доставляло мне такую радость, как ваше», а общему другу Паулю Эренфесту, австрийскому физику, работавшему в Лейдене, он признавался: «Я так же влюблен в него, как вы». Несмотря на такой энтузиазм, Эйнштейн не упустил возможности пристально понаблюдать за своим новым датским другом; его вердикт относительно Бора тридцатипятилетнего сходен с выводами, которые сделал Ив, когда тому было двадцать восемь: «Он похож на чрезвычайно чувствительного ребенка, который существует в нашем мире в состоянии, подобном своего рода трансу»[231 - Цит. по: Pais (1982), p. 416, 417.]. При первой встрече с Бором – до того, как он начал говорить, – его удлиненное, тяжелое лицо показалось теоретику Абрахаму Пайсу чрезвычайно «мрачным», и его озадачило это мимолетное впечатление от человека, известного всем «своей неослабевающей оживленностью и теплой, солнечной улыбкой»[232 - Цит. по: Rozental (1967), p. 215.].
Вклад Бора в физику XX века уступает разве что вкладу Эйнштейна. Ему суждено было стать беспрецедентно прозорливым физиком-политиком. Его самосознание – созданная тяжелым трудом индивидуальность и те эмоциональные ценности, которые были положены в ее основу, – было жизненно важным элементом его работы, в большей степени, чем это обычно свойственно ученым. В течение некоторого времени, в его юности, это самосознание было болезненно раздвоенным.
Его отец, Кристиан Бор, был профессором физиологии в Копенгагенском университете. У Кристиана Бора характерная для Боров челюсть выступала из-под густых усов; у него было круглое лицо и не такой высокий лоб. Возможно, он тоже был спортсменом; во всяком случае, он увлекался спортом и участвовал – организационно и финансово – в создании «Академического футбольного клуба», в составе команды которого его сыновья становились потом чемпионами по футболу (младший брат Нильса Харальд участвовал в Олимпиаде 1908 года)[233 - Akademisk Boldklub был основан в 1889 г., и играть за него могли все университетские студенты. Клуб девять раз выигрывал чемпионат Дании. Харальд Бор в течение многих лет был полузащитником команды, а его брат Нильс иногда играл за вратаря. На Олимпийских играх 1908 г. футбольная команда Дании, в состав которой входил и Харальд Бор, заняла второе место, проиграв в финале сборной Англии со счетом 2:0.]. Он придерживался прогрессивных политических взглядов и выступал за эмансипацию женщин; к религии он относился скептически, но формально соблюдал требуемые ритуалы – то есть был добропорядочным буржуазным интеллигентом.
Кристиан Бор опубликовал свою первую научную работу в двадцать два года[234 - Она называлась «О влиянии салициловой кислоты на переваривание мяса».], получил диплом врача, а затем защитил докторскую диссертацию по физиологии и учился в Лейпциге у известного физиолога Карла Людвига. Он специализировался по вопросам дыхания и ввел в эту область исследований методику точных физических и химических экспериментов, что было редкостью для начала 1880-х годов. Вне стен лаборатории, как рассказывает один из его друзей, он был «пылким поклонником»[235 - Харальд Гёффдинг, цит. по: Ibid., p. 13.] Гёте; его также интересовали более глобальные философские вопросы.
Одной из наиболее острых дискуссий этих дней был спор между виталистами и механицистами, очередное проявление старой и никогда не прекращающейся битвы между теми, кто верит, в том числе исходя из религиозных убеждений, что мир имеет предназначение, и теми, кто считает, что он работает автоматическим и случайным образом или по повторяющимся и неизменным циклам. Немецкий химик, презрительно отзывавшийся в 1895 году о «чисто механическом мире естественно-научного материализма», в котором бабочка может снова превратиться в гусеницу, имел в виду тот же самый вопрос, восходящий еще ко временам Аристотеля.
В той области, в которой был специалистом Кристиан Бор, эта проблема возникла в виде вопроса о том, были ли организмы и их подсистемы – их глаза, их легкие – созданы с заранее заданной целью, или же они возникли в соответствии со слепыми и бездушными законами химии и эволюции. Самым радикальным сторонником механистической точки зрения в биологии был немец Эрнст Генрих Геккель, утверждавший, что органическая и неорганическая материя – это одно и то же. Жизнь возникла самопроизвольно, утверждал Геккель; психологию следует считать разделом физиологии; не существует ни бессмертной души, ни свободы воли. Несмотря на свою приверженность к научным экспериментам, Кристиан Бор не принял точку зрения Геккеля; возможно, в этом сыграло свою роль его увлечение Гёте. После этого ему предстояла трудная работа по приведению своей практической деятельности в соответствие с этими взглядами.
Отчасти поэтому, а отчасти из любви к обществу друзей он стал встречаться в кафе с философом Харальдом Гёффдингом – их дискуссии проходили после регулярных пятничных заседаний Датской королевской академии наук и литературы, членами которой были оба. Друживший с ними физик К. Кристиансен, бывший в детстве пастухом, вскоре привнес в эти споры третью точку зрения. Из кафе встречи переместились в дома участников, которые они посещали по очереди. Следующим членом группы стал филолог Вильгельм Томсен, который и завершил формирование этой великолепной четверки, состоявшей из физика, биолога, филолога и философа. Нильс и Харальд Боры провели все свое детство, слушая их беседы.
Поскольку к делу женской эмансипации Кристиан Бор относился столь же серьезно, он вел подготовительные курсы для женщин, поступавших в университет. Одной из его учениц была дочь еврейского банкира Эллен Адлер. Она происходила из образованной, состоятельной и известной в Дании семьи; ее отец в разное время был депутатом обеих палат датского парламента. Кристиан Бор стал за ней ухаживать; в 1881 году они поженились. Как говорит один из друзей их сыновей, она отличалась «очаровательным характером»[236 - Хирург Оле Хивитц, цит. по: Ibid., p. 15.] и огромным альтруизмом. Судя по всему, после замужества она не афишировала своего иудаизма. Поступление в университет, которое она, видимо, планировала исходно, также не состоялось.
Кристиан и Эллен Бор начали свою семейную жизнь в городском доме семьи Адлер, стоявшем прямо напротив дворца Кристианборг, в котором заседал парламент, на противоположной стороне широкой улицы. В этом приятном месте 7 октября 1885 года и родился Нильс Бор, их второй ребенок и первый сын. В 1886 году, когда его отец принял должность в университете, семья Бор переехала в дом, расположенный рядом с Хирургической академией, в которой находились физиологические лаборатории. Там вырос и Нильс, и его брат Харальд, бывший младше его на девятнадцать месяцев.
Насколько Нильс Бор помнил, ему всегда нравилось мечтать о великих взаимосвязях[237 - Petersen (1963), p. 9: «Бор сказал, что, сколько он себя помнит, он всегда любил мечтать о великих взаимосвязях».]. Его отец любил говорить парадоксами[238 - По «Мемуарам» Гёффдинга, цит. по: Rozental (1967), p. 13.]; возможно, из этой привычки отца и происходили мечты Нильса. В то же время мальчик отличался глубоко буквальным мышлением, и эта черта, которую часто считают недостатком, стала основополагающим достоинством Бора-физика. Гуляя с ним, когда ему было около трех лет, отец стал рассказывать ему об уравновешенном строении дерева – ствола, крупных и мелких ветвей, – как бы показывая сыну, как собрать дерево из его составных частей. Мальчик, склонный к буквальному мышлению, не был с ним согласен, так как видел в дереве цельный организм: иначе, сказал он, дерева не получилось бы. Бор рассказывал эту историю всю свою жизнь; в последний раз – всего за несколько дней до смерти, в 1962 году, когда ему было семьдесят восемь лет. «С самой ранней юности я мог высказываться по философским вопросам», – с гордостью заявил он. И благодаря этой способности, по его словам, «меня считали несколько необычным»[239 - Bohr OHI, AlP, p. 1.].
Харальд Бор был мальчиком сообразительным, остроумным и энергичным, и сначала казалось, что он умнее брата. «Однако очень скоро, – говорит биограф Нильса Бора Стефан Розенталь, впоследствии работавший с ним, – Кристиан Бор сменил точку зрения на противоположную; он осознал огромные способности и особые таланты Нильса, а также широту его воображения»[240 - Rozental (1967), p. 15.]. То, как отец сформулировал это открытие, могло бы показаться бессердечным сравнением, если бы братья так не любили друг друга. Нильс, сказал он, – «особый член семьи»[241 - Цит. по: Ibid.].
В пятом классе, когда Нильс получил задание нарисовать дом, он выполнил замечательно зрелый рисунок, но сперва пересчитал все штакетины забора. Он любил работать по дереву и металлу; с самого раннего возраста он стал настоящим домашним мастером. «Даже в детстве [его] считали в семье мыслителем, – говорит один из его младших сотрудников, – и отец прислушивался к его мнению по самым фундаментальным вопросам»[242 - Petersen (1963), p. 9.]. Почти не вызывает сомнений, что он научился письму с большим трудом, и ему всегда было трудно писать. Мать верно служила ему секретарем: он диктовал ей свою домашнюю работу, а она ее записывала[243 - Ср. Segre (1980), p. 119.].
В детстве Нильс и Харальд были близки, как близнецы. «Поверх всего остального, как бы лейтмотивом, – отмечает Розенталь, – проходит тема той неразлучности, которой отличались отношения между братьями»[244 - Rozental (1967), p. 23.]. Они говорили и думали «дуэтом»[245 - Вильгельм Сьоманн, цит. по: Ibid., p. 25.], вспоминает один из их друзей. «В течение всей моей юности, – вспоминал сам Бор, – брат играл очень важную роль в моей жизни… Брат был для меня очень важен. Он был умнее меня во всех отношениях»[246 - Bohr OHI, AlP, p. 1.]. В свою очередь, Харальд всегда и всем говорил[247 - Ср., например, свидетельство Виктора Куранта в Rozental (1967), p. 301.] – и, по-видимому, искренне, – что сам он был обычным человеком, а вот брат его – человеком выдающимся.
Речь неуклюжа, письмо обедняет. Первая карта мира ребенка, не различающая между субъектом и объектом, сосуществующая с тем миром, который она отображает, пока пробуждающееся сознание не отделит их друг от друга, – это не язык, а поверхность собственного тела человека. Нильс Бор любил показывать, как палка, используемая в качестве щупа, например трость слепого, становится продолжением руки[248 - Например, Rozental (1967), p. 30.]. Кажется, что ощущения перемещаются на ее конец, говорил он. Он часто повторял это наблюдение – казавшееся чудесным учившимся у него физикам, – как и историю про мальчика и дерево, потому что для него она была наполнена эмоциональным смыслом.
По-видимому, он был ребенком, глубоко чувствующим мир. Этот дар появляется еще до умения говорить. Его отец со своим гётевским стремлением к осмысленности и цельности – естественному единству, всеохватному утешению религией без древних формальностей – чувствовал это особенно ясно. Его чрезмерные ожидания обременяли мальчика.
Религиозные разногласия возникли быстро. Нильс «буквально верил в то, что узнавал в школе на уроках религии, – говорит Оскар Клейн. – В течение долгого времени чувствительного мальчика огорчало отсутствие веры у его родителей»[249 - Цит. по: Ibid., p. 74.]. Когда Бору было двадцать семь, он вспоминал о том огорчении, которое доставляло ему предательство родителей, в рождественском письме невесте, посланном из Кембриджа: «Я вижу, как маленький мальчик идет в церковь по заснеженной улице. Это единственный день в году, когда отец брал его в церковь. Зачем? Затем, чтобы ребенок чувствовал себя таким же, как остальные дети. Отец никогда не говорил мальчику ни единого слова относительно веры, и маленький мальчик верил всем своим сердцем…»[250 - Цит. по: Мур Р. Нильс Бор – человек и ученый / Пер. с англ. И. Г. Почиталина, под ред. к. ф.-м. н. В. Ф. Кулешова. М.: Мир, 1969. С. 63, 64.][251 - Цит. без ссылки в Moore (1966), p. 35. Мур получила доступ к некоторым неопубликованным частным письмам Бора.]
Затруднения с письмом были проблемой более зловещей. Домашним ее решением стала секретарская работа матери. Бор не составлял текст заранее, чтобы потом надиктовать его своему помощнику. Он сочинял его на месте, причем с большим трудом. Именно отсюда взялось бормотание, напоминавшее Ч. П. Сноу о позднем Генри Джеймсе. Уже взрослым Бор многократно составлял и переписывал черновики даже личных писем[252 - Ср. Rozental (1967), p. 30.]. Его многочисленные переписывания научных статей – сначала в черновике, а потом, еще несколько раз, в гранках – вошли в легенду. Однажды, после его непрерывных просьб о несравненной критической помощи жившего в Цюрихе австрийского теоретика Вольфганга Паули, хорошо знавшего Бора, Паули осторожно ответил: «Если последнюю редакцию уже отослали, я приеду»[253 - Цит. по: Cline (1965), p. 214.]. Сначала Бор сотрудничал со своей матерью и Харальдом, затем – с женой, а потом – с продолжавшейся всю жизнь чередой молодых физиков. Они чрезвычайно высоко ценили возможность работать вместе с Бором, но это сотрудничество бывало делом непростым. Бор требовал от них не только внимания, но и активной вовлеченности, интеллектуальной и эмоциональной: он хотел убедить сотрудников в своей правоте. Пока это ему не удавалось, он сам сомневался в своих выводах или по меньшей мере в их словесной формулировке.
За трудностями с письмом скрывалась другая, более масштабная проблема. Она проявлялась в виде нервозности, которая, если бы не необычайная поддержка матери и брата, могла бы стать непосильной. В течение некоторого времени она такой и была[254 - Описание нервозности Бора основано на превосходном анализе Льюиса С. Фейера в Feuer (1982), но отличается от него акцентами и, до некоторой степени, выводами. Другой важный источник – Holton (1973).].
Возможно, вначале она возникла из религиозных сомнений, которые, по словам Клейна, появились у Нильса «в юности». Бор сомневался так же, как верил, «с необычайной решимостью»[255 - Цит. по: Rozental (1967), p. 74.]. К осени 1903 года, когда в возрасте восемнадцати лет он поступил в Копенгагенский университет, сомнения разрослись, и его опьяняли мысли об ужасающих бесконечностях.
У Бора был любимый роман. Его автор, Пауль Мартин Мёллер, впервые обнародовал свою книгу «Приключения датского студента» (En Dansk Students Eventyr), прочитав ее в 1824 году на собрании студенческого объединения Копенгагенского университета. Напечатана она была уже после его смерти. Книга эта была короткой, остроумной и обманчиво легкомысленной. В 1960 году, в важной лекции под названием «О единстве человеческих знаний», Бор назвал книгу Мёллера «неоконченным романом, который в [Дании] до сих пор с удовольствием читает как старшее, так и младшее поколение»[256 - Bohr (1963), p. 13.]. Он дает нам, сказал он, «замечательно живое и глубокомысленное описание взаимодействия между разными аспектами [человеческого] состояния»[257 - Ibid.]. После Первой мировой войны датское правительство помогло Бору организовать в Копенгагене свой собственный институт. Учиться в нем приезжали самые перспективные молодые физики со всего мира. «Все, кому приходилось тесно общаться с Бором в институте, – пишет его сотрудник Леон Розенфельд, – как только они в достаточной степени овладевали датским языком, знакомились с этой книжкой: это было частью процедуры их посвящения»[258 - Цит. по: Rozental (1967), p. 121.].
Что же такого волшебного заключалось в этой маленькой книжке? Она была первым датским романом из современной жизни: в ней описывалась студенческая жизнь и в особенности пространные беседы между двумя кузенами-студентами. Один из них был «лиценциатом», то есть соискателем ученой степени, а второй – «филистером». Филистер, говорит Бор, – это знакомый нам тип, «отличающийся трезвой расторопностью в практических делах»[259 - Bohr (1963), p. 13.]. Лиценциат, фигура более экзотическая, «склонен к отвлеченным философским рассуждениям, которые вредят его существованию в обществе». Бор цитирует одно из «философских рассуждений» лиценциата:
[Я начинаю] думать о своих собственных мыслях относительно ситуации, в которой я нахожусь. Я даже думаю, что думаю о ней, и разбиваю себя на бесконечную обращенную назад последовательность «я», которые размышляют друг о друге. Я не знаю, на каком из «я» остановиться, какое из них считать подлинным, потому что, как только я останавливаюсь на одном из них, всегда есть еще одно «я», которое на нем останавливается. Я запутываюсь, у меня кружится голова, как будто я заглядываю в бездонную пропасть[260 - Ibid.].
«Бор постоянно возвращался к вопросу о разных значениях слова “я”, – вспоминал Роберт Оппенгеймер, – “я”, которое действует, “я”, которое мыслит, “я”, которое изучает само себя»[261 - Oppenheimer (1963), II, p. 25, 26.].
Другие состояния, беспокоящие лиценциата из романа Мёллера, вполне могли быть взяты из клинического описания состояний, беспокоивших юного Нильса Бора. Например, такой недостаток:
Несомненно, мне и раньше доводилось видеть, как излагаются мысли на бумаге. Но с тех пор как я явственно осознал противоречие, заключенное в подобном действии, я почувствовал, что полностью потерял способность написать хоть какую-нибудь фразу. И хотя опыт подсказывает мне, что так поступали множество раз, я мучаюсь, пытаясь разрешить неразрешимую загадку: как человек может думать, говорить или писать. Пойми, друг мой, движение предполагает направление. Разум не может развиваться, не продвигаясь вдоль определенной линии. Но прежде чем начать движение вдоль этой линии, разум должен осмыслить это движение. Другими словами, человек продумывает любую мысль прежде, чем начнет думать. И любая мысль, кажущаяся плодом данного момента, содержит в себе вечность. Это сводит меня с ума[262 - Цит. по: Мур Р. Указ. соч. С. 41, 42.][263 - Цит. по: Rosenfeld (1963), p. 48.].
Или взять следующую жалобу, касающуюся фрагментации личности и ее умножающейся двойственности, которую Бор часто цитировал в следующие годы:
Таким образом, человек часто разделяется на две личности, одна из которых пытается обмануть другую, в то время как третья личность, которая на самом деле тождественна первым двум, поражается этой неразберихе. Коротко говоря, мышление становится драмой и беззвучно разыгрывает само с собой и перед самим собой запутаннейшие интриги, причем зритель снова и снова становится актером[264 - Цит. по: Ibid., p. 49.].
«Бор привлекал внимание к тем сценам, – отмечает Розенфельд, – в которых лиценциат описывает, как он теряет счет своим разным “я” или [рассуждает] о невозможности сформулировать мысль, и, исходя из этих фантастических парадоксов, подводил своего собеседника… к самой сути проблемы однозначной передачи опыта, серьезность которой он таким образом ярко иллюстрировал»[265 - Rozental (1967), p. 121.]. Розенфельд боготворил Бора; он то ли не осознавал, то ли предпочитал не упоминать о том, что для самого Бора трудности лиценциата были чем-то большим, чем просто «фантастические парадоксы».
Рациоцинация[266 - Рациоцинация – рассуждения, строго следующие формальной логике.] – именно так называется то, чем занимается тут лиценциат и чем занимался в юности сам Бор, – это механизм защиты от тревожности. Спирали мыслей, панические и навязчивые. Сомнения удваиваются снова и снова, парализуя действия, опустошая мир. Этот механизм обладает бесконечной регрессивностью, так как, как только его жертва осваивает этот прием, она может сомневаться в чем угодно, даже в самом сомнении. Это явление может казаться интересным с философской точки зрения, но в практическом отношении рациоцинация заводит в тупик. Если работа не может быть завершена, то ее качество невозможно оценить. Проблема в том, что такое тупиковое состояние отдаляет развязку и добавляет к бремени, лежащем на человеке, чувство вины за эту отсрочку. Тревожность все возрастает; механизм все ускоряет свой полет по спирали; личности кажется, что она вот-вот распадется на части; умножающееся «я» делает ощущение надвигающегося распада все более драматичным. На этом этапе проявляются ужасные картины безумия; в течение всей жизни Бора в его высказываниях, устных и письменных, то и дело возникали образы «бездонной пропасти» лиценциата[267 - Ср. там же, p. 77, 327, 328. Множество примеров можно найти в письменных источниках.]. Мы «подвешены в языке»[268 - Цит. по: Petersen (1963), p. 10.], – любил говорить Бор, имея в виду эту бездну; и одной из его излюбленных цитат были следующие два стиха из Шиллера[269 - Из стихотворения 1799 г. «Изречения Конфуция».]:
Nur die F?lle f?hrt zur Klarheit,
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.
Лишь цельность к ясности ведет,
И в безднах истина живет[270 - Цит. по: Holton (1973), p. 148.].
Однако твердую основу Бор нашел не у Мёллера. Для этого ему требовалось нечто большее чем роман, каким бы уместным он ни был. Ему нужно было то же, что нужно для душевного здоровья любому из нас, – любовь и работа.
«В годы, последовавшие за окончанием [школы], я очень сильно интересовался философией, – сказал Бор в своем последнем интервью. – Особенно тесно я сблизился с Гёффдингом»[271 - Bohr OHI, AlP, p. 1.]. Харальд Гёффдинг[272 - См. биографическое приложение в Bohr (1972), p. xx.] был старым другом Бора-отца, одним из основателей дискуссионного клуба, собиравшегося по вечерам в пятницу. Бор был знаком с ним с самого детства. Он родился в 1843 году, на двенадцать лет раньше Кристиана Бора, и был человеком глубокомысленным, деликатным и добрым. Он стал не только искусным толкователем работы Сёрена Кьеркегора и Уильяма Джеймса, но и авторитетным самостоятельным философом: он был антигегельянцем, прагматиком, и интересовался вопросами разрывности восприятия. Бор стал учеником Гёффдинга. Кажется несомненным, что он обращался к Гёффдингу и за личной помощью. Он не ошибся в своем выборе. В юности и самому Гёффдингу пришлось преодолевать свой собственный кризис, который, как он писал впоследствии, почти довел его «до отчаяния»[273 - Это признание отмечено в Holton (1973), p. 144.].
В морозном ноябре 1855 года, когда Сёрен Кьеркегор умер от легочной инфекции, Гёффдингу было двенадцать лет. Он был достаточно большим, чтобы услышать о мрачной процессии за стенами города, чуть не закончившейся скандалом у самой могилы[274 - Племянник Кьеркегора Хенрик Лунд протестовал против церковных похорон философа, утверждая, что они противоречат его антиклерикальным воззрениям.]; достаточно большим, чтобы видеть живого человека в странном, неуклюжем, яростно красноречивом поэте, выступавшим под множеством псевдонимов. Это знакомство стало отправной точкой интереса к работам Кьеркегора, к которым Гёффдинг обратился впоследствии в поисках средства от отчаяния. В особенности он нашел такое средство в «Стадиях жизненного пути», полном черного юмора драматическом представлении диалектики духовных этапов, независимых друг от друга, не связанных друг с другом, переход между которыми возможен лишь благодаря иррациональным верованиям. Гёффдинг с благодарностью принял на себя роль защитника этого плодовитого и непростого датчанина; его вторая книга, опубликованная в 1892 году, помогла утвердить признание Кьеркегора выдающимся философом, а не просто литературным стилистом, подверженным приступам безумия, каким вначале предпочитали считать его датские критики.
Бор смог многое почерпнуть у Кьеркегора – особенно в интерпретации Гёффдинга. Кьеркегор исследовал те же состояния разума, что и Пауль Мартин Мёллер. Мёллер преподавал Кьеркегору в университете нравственную философию и, по-видимому, был для него своего рода духовным руководителем[275 - Ср. Thompson (1973), p. 88.]. После смерти Мёллера Кьеркегор посвятил ему «Понятие страха», называя его в одном из черновиков этого посвящения «увлечением моей юности, наперсником моих начал, громогласной трубой моего пробуждения, моим ушедшим другом»[276 - Цит. по: Ibid.]. Мёллер – Кьеркегор – Гёффдинг – Бор: родство было прямым.
Как известно, Кьеркегор страдал от умножения личностей и сомнений. Раздвоение сознания было центральной темой работ Кьеркегора, как и работ Мёллера до него. Кажется даже, что эта опасность издавна знакома датчанам вообще. В самом сердце датского слова «отчаяние», fortvivlelse, находится морфема tvi, то есть «два», означающая раздвоение сознания. Датское слово tvivl означает сомнение; tvivlesyg – скептицизм; tvetydighed – неоднозначность[277 - Перефразировано из того же источника, p. 155.]. На самом деле самонаблюдение вообще характерно для пуританства и близкородственно христианскому мышлению.
Однако, в отличие от Мёллера, который вышучивал tvivl лиценциата, Кьеркегор мучительно пытался проложить путь сквозь лабиринт зеркал. В «Истории современной философии», которую Бор наверняка читал студентом, Гёффдинг дает краткое описание того пути, который, по его мнению, нашел Кьеркегор: «Основная его идея состояла в том, что возможные разные концепции жизни настолько резко противоречат друг другу, что мы должны выбирать между ними; отсюда происходит ключевое для него слово либо-либо. Более того, выбор этот каждый человек неизбежно должен сделать для себя сам; отсюда второе ключевое слово, индивидуум»[278 - Цит. по: Holton (1973), p. 146.]. И далее: «Непрерывность существует только в мире возможностей; в реальном мире решение всегда возникает из нарушения непрерывности»[279 - Цит. по: Ibid., p. 147.]. Непрерывность в том смысле, в котором она мучила Бора, была преследовавшим его потоком преумножения сомнений и «я»; нарушение этой непрерывности – решительность, действие – было тем исходом, который он надеялся найти.
Сперва он обратился к математике. Из университетской лекции он узнал о римановой геометрии – одном из видов неевклидовой геометрии, разработанном немецким математиком Георгом Риманом для представления функций комплексных переменных. Риман показал, что многозначные функции этого вида (число[280 - Функция, дающая в качестве результата исходное комплексное число, – это однозначная функция; но ее вполне допустимо рассматривать как тривиальный пример многозначной функции. – Прим. науч. ред.], квадратный корень из него, его логарифм и т. д.) можно представлять и соотносить на наборах совмещающихся геометрических плоскостей, которые назвали римановыми поверхностями. «В то время, – сказал Бор в своем последнем интервью, – я серьезно подумывал написать некую работу по философии, и речь шла именно об этой аналогии с многозначными функциями. Мне казалось, что всевозможные проблемы в психологии – которые называли великими философскими проблемами, о свободе воли и тому подобное, – что их действительно можно упростить, если рассмотреть, как именно мы к ним подходим, и это можно было сделать при помощи аналогии с многозначными функциями»[281 - Bohr OHI, AlP, p. 1.]. К тому времени он думал, что проблема может быть порождена языком, неоднозначностью – множественными значениями, так сказать, – разных смыслов слова «я». Если разделить разные значения, распределив их по разным плоскостям, можно будет отследить, о чем именно идет речь. Тогда смешение личностей прямо на наших глазах получит графическое разрешение.
Бору такая схема казалась слишком схематической. Вероятно, математика была слишком похожа на рациоцинацию, и с нею он по-прежнему оставался замкнут в своей тревоге. Он подумывал написать книгу о своих математических аналогиях, но вместо этого обратился к другой, гораздо более конкретной работе. Заметим, однако, что математическая аналогия начинает встраивать проблему сомнения в систему языка, видя в сомнении особую форму вербальной неоднозначности; заметим, что она пытается прояснить неоднозначности, разнося разные смыслы по отдельным, не связанным друг с другом плоскостям.
Та конкретная работа, к которой Бор обратился в феврале 1905 года – ему было тогда девятнадцать лет, – была задачей из области экспериментальной физики[282 - Ср. Bohr (1972), p. 4.]. Каждый год Датская королевская академия наук и литературы предлагала задачу и давала на ее решение двухлетний срок; успешным работам по этой теме академия присуждала золотую и серебряную медали. В 1905 задача по физике касалась измерения поверхностного натяжения жидкостей путем измерения колебаний, возникающих в этих жидкостях при протекании через отверстие (такие колебания можно увидеть в струе, вытекающей из садового шланга, которая приобретает волнистую форму). Это предложил британский лауреат Нобелевской премии Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей, но его никто еще не пробовал применить на практике. Бор и еще один участник конкурса взялись за решение этой задачи.
Бор работал в той же физиологической лаборатории, в которой он в течение многих лет наблюдал за работой отца, а затем и помогал ему, осваивая искусство экспериментальных исследований. Чтобы получить устойчивые струи, он решил использовать вытянутые стеклянные трубки. Поскольку метод требовал использования большого количества жидкости, он ограничился исследованием воды. Трубки нужно было сплющить по бокам, чтобы получить овальное поперечное сечение; это придавало струе воды форму, необходимую для возникновения волн. Всю работу по нагреванию, размягчению и вытягиванию трубок выполнял сам Бор; это занятие оказывало на него прямо-таки гипнотическое воздействие. Розенфельд говорит, что Бор «так увлекся этой работой, что, совершенно забыв о своей исходной цели, часами напролет пропускал сквозь пламя трубку за трубкой»[283 - Rosenfeld (1979), p. 325.].
Каждый опыт по определению величины поверхностного натяжения занимал часы. Работать приходилось по ночам, когда в лаборатории никого не было, потому что любая вибрация могла нарушить форму струй. Работа шла медленно, к тому же Бор тянул время. Академия отвела на решение задачи два года. К концу этого периода Кристиан Бор понял, что его сын настолько затягивает дело, что может не закончить свою статью вовремя. «Опытам не было конца, – рассказывал Бор Розенфельду несколько лет спустя, во время велосипедной прогулки, – я все время замечал всё новые подробности, которые, как мне казалось, сначала нужно было понять. В конце концов отец отослал меня прочь из лаборатории, и мне пришлось написать статью»[284 - Цит. по: Rosenfeld (1963), p. 39.].
«Прочь» означало в Нерумгард, загородное имение семьи Адлер, расположенное к северу от Копенгагена. Там, вдали от искушений лаборатории, Нильс сочинил – а Харальд записал – статью объемом в 114 страниц. Нильс сдал ее в академию в последний день установленного срока, но даже в этот момент работа была неполной. Три дня спустя он сдал еще и приложение на одиннадцати страницах, которое по случайности не было включено в исходный текст.
Хотя в этой работе, первой научной статье Бора, поверхностное натяжение определялось только для воды, она также исключительно расширила теорию Рэлея. Академия присудила ей золотую медаль. Работа эта была необычайным достижением для столь молодого автора, и именно она направила Бора в физику. В отличие от математизированной философии физика была прочно укоренена в реальном мире.
В 1909 году лондонское королевское общество приняло статью о поверхностном натяжении в несколько отредактированном виде для публикации в своем журнале Philosophical Transactions. Бору, по-прежнему бывшему на момент выхода статьи всего лишь студентом, еще не получившим даже магистерской степени, пришлось объяснять секретарю Королевского общества, письма которого были адресованы с использованием предполагаемого ученого звания, что он «не профессор»[285 - Bohr (1972), p. 10.].
Однажды отъезд за город уже помог ему. Возможно, он мог помочь и еще раз. Уехать в Нерумгард больше было нельзя, так как семья Адлер отдала это имение под школу. Между мартом и маем 1909 года, когда Бору пришло время готовиться к экзаменам на магистерскую степень, он поехал в городок Виссенбьерг на острове Фюне, соседствующем на западе с Зеландией, островом, на котором находится Копенгаген, и поселился там в доме священника, принадлежавшем родителям лаборанта Кристиана Бора. Вместо работы Нильс читал на Фюне «Стадии жизненного пути». Дочитав эту книгу, он в тот же день с восторгом отправил ее Харальду. «Это единственное, что я считаю нужным послать, – писал он младшему брату, – и, по-моему, вряд ли можно найти что-либо лучшее. Во всяком случае, лично я получил от этой книги громадное удовольствие. Я даже думаю, что это одна из лучших книг, которые мне приходилось читать»[286 - Цит. по: Мур Р. Указ. соч. С. 49, 50.][287 - Ibid., p. 501.]. В конце июня, вернувшись в Копенгаген, Бор сдал – опять-таки в последний день – свою дипломную работу, переписанную почерком его матери.
К тому времени Харальд вырвался вперед: он получил магистерскую степень в апреле, после чего уехал в аспирантуру в Университет имени Георга-Августа в немецком Гёттингене, центр европейской математики. В июне 1910 года он получил в Гёттингене докторскую степень. Нильс иронично писал младшему брату, что его «зависть скоро вырастет до неба»[288 - Ibid., p. 95.], но на самом деле он был доволен тем, как шла работа над его собственной диссертацией несмотря на то, что он потратил «четыре месяца на рассуждения по дурацкому вопросу о каких-то дурацких электронах и [смог] только написать штук четырнадцать более или менее противоречащих друг другу черновиков»[289 - Ibid.]. Кристиансен дал Бору в качестве темы магистерской дипломной работы задачу из электронной теории металлов; эта тема настолько заинтересовала Бора, что он продолжил работу над нею и в своей диссертации. Теперь он специализировался в теоретической физике; как он объяснял, заниматься одновременно с этим и физикой экспериментальной было бы «непрактично»[290 - Bohr OHI, AlP, p. 2.].