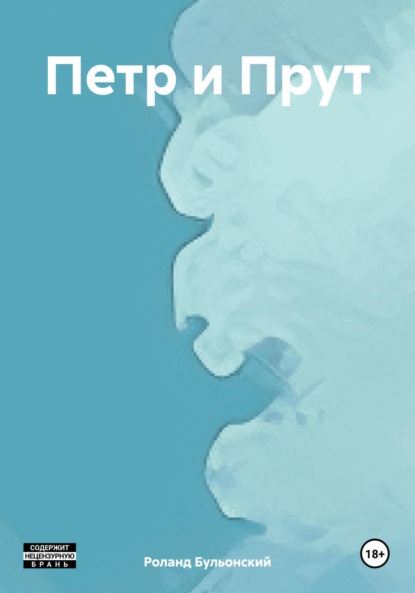
Полная версия:
Петр и Прут

Роланд Бульонский
Петр и Прут
Лев Виссарионович тяжело вздохнул, день снова не задавался с самого начала. Птицы вновь отвратительно и назойливо верещали, явно не собираясь давать ему сосредоточиться и наконец, продвинуться в написании первой главы своего монументального и абсолютно прорывного романа о Петре Великом. «Нет в вас никакого почтения к истории, да и просто к человечеству, глупые создания» – ворчливо обратился он к птицам – «Не понимаете что ли, весь масштаб моей деятельности? Все вам только верещать и орать, как перепуганным. Хотя толку абсолютный ноль, что от вас, что от ваших криков, что от ваших детей, которых вы этими несусветными воплями будто бы защищает непонятно от чего. Кота на вас нет…»
Кота на них действительно не было. Старый и ленивый Тишка совершенно не интересовался не только пернатыми горлопанами, но даже и мохнатой соседской красоткой-трехцветкой, зеленоглазой Элеонорой. Для него главным было вовремя выпить сливок из фаянсовой мисочки и в назначенный час улечься точно на то место, куда наиболее благостно светят лучи ласкового утреннего солнца. Потом, разумеется, плавно сдвигаясь вслед за светилом, пока оно не начнет палить совсем уже нещадно. После этого Тишка вальяжно подымался и шел ко Льву Виссарионовичу за новой порцией сливок, обязательно холодных и свежих, иными он брезговал. Хозяин, находясь в творческих муках, неизменно встречал кота легким брюзжанием и столь же неизменно предоставлял ему мисочку, заполненную в строгом соответствии с высоким Тишкиным стандартом.
Льва Виссарионовича одновременно и злила, и вдохновляла непоколебимая важность Тишки и столь же непоколебимое его презрение к окружающим, в том числе и к нему лично. Видел он в этом некую кальку с себя самого, ведь чувство собственного достоинства, это то, что его никогда не покидало, и в самые трудные жизненные моменты. Даже, когда пришлось уволиться из института из-за конфликта с завкафедрой и уйти торговать газетами. Даже тогда, он, Лев Виссарионович из древнего дворянского рода Воронцовых, не опустился до жалоб и оправданий. Гордо бросил, «Вы холоп, и мышление у Вас холопское, честь имею». И ушел. Прямиком на площадь трех вокзалов, где со своим импозантным обликом и гордой осанкой, сумел как-то необычайно быстро занять прочное место среди уличных торговцев и даже собрать какую-никакую, а постоянную клиентуру, людей, которые всецело доверяли его коротким и крайне увесистым вердиктам, относительно очередного номера. Либо небрежное: «Фанера», либо увесистое «Соответствует». «Соответствующее» постоянные клиенты не раздумывая покупали, будучи гордыми чувством причастности к ценному знанию, а «фанеру» оставляли на удел случайных покупателей, коих было все же большинство. Случайных Лев Виссарионович не уважал совершенно, но скрепя сердце терпел. Есть же нужно что-то, вот и приходится терпеть мытарства.
Мытарства впрочем, закончились достаточно быстро. Уже через полгода стояния на площади Льву Виссарионовичу чудесным случаем, сладким млеком из груди судьбы подвернулся удачный человек, редактор одного из многочисленных развлекательных журналов, почти такого же, как и бесконечная череда многих других. Однако характерной чертой этого журнала было то, что в нем, из пафоса ли, из стремления выделиться ли, из личных ли вкусов хозяина, но был специальный раздел, небольшой, в страничку всего, посвященный историческим фактам. Причем больше не официально хвалебным, а всяким загадочным или курьезным. Вроде того, что же такое было в Кунсткамере Петра, чему там быть вовсе не полагалось, или как Александр обманул Наполеона. И прочее в таком духе.
И вот в эту то любопытную рубрику, редактор, человек чрезвычайно занятой, усталый, но не утративший еще до конца в потоках рекламы и желтых новостей, своего ясного орлиного взора, и затащил Льва Виссарионовича в качестве автора, каким-то шестым чувством ощутив, что перед ним не просто настоящий историк (а безработных настоящих историков на улицах в то время было, нужно сказать, не слишком то мало). Но перед ним настоящий историк с чувством вкуса, меры и такта. А это уже совсем другое дело, это уже фрукт редкий, можно сказать единичный экземпляр. Лев Виссарионович невольно расправил плечи, все-таки он не чета тем забитым бумажной работой и указаниями вышестоящих бедолагам, которые видят в истории лишь голые факты и цифры, безропотно отделяя одно от другого, уныло копаясь в работах бесталанных студентов, и не будучи в состоянии хоть когда-нибудь немного воспарить ввысь, ощутить весь блеск и величие своей науки, а также ту тонкую грань, которая отделяет пафос от фарса. И которая неисчислимое количество раз переходилась, как в истории отечественной, так и в истории зарубежной.
И уж его-то Льва Виссарионовича орлиный взор не потускнел с годами, как у приснопамятного редактора, на сегодня пережившего уже пару инфарктов, дай Бог ему здоровья. Не застлался рутиной и работой с дураками и грубиянами, которые даже самый лучший талант могут заставить выгореть и потускнеть. О, нет. Он себя берег, однако берег не ленью или тупой, не выходящей за прописанные границы исполнительностью, а раз и навсегда очерченными самому себе рамками. Гордость и самоконтроль, самоконтроль и гордость, вот два кита, два якоря на которых Лев Виссарионович удержал свой талант, не дал ему ни выгореть от дурной и отупляющей работы, ни потускнеть от однообразия и безделья. О нет. Его орлиный взор стал с годами только острее и даже работу в дрянном (ну будем уж честны сами с собой) журнальчике он сумел повернуть к лучшему для своего интеллектуального развития и для своей будущей книги.
Журнальчик он, разумеется втихую презирал (да и было за что), но свою рубрику искренне полюбил. И относился к ней по-отечески, носился, лялькался, ночами не спал и выдумывал, как бы сделать ее еще лучше, интереснее для читателя. Причем читателя в массе своей такого же дрянного, как и сам журнальчик. Дрянного, конечно в смысле вкуса, не в плане человеческих качеств. Прекрасно понимал Лев Виссарионович, что время нынче тяжелое, денег мало у людей, а работы тяжелой много, на самообразование времени не остается. И не их вина, что не привито им чувство вкуса. Не их. Но не мог себя пересилить, развитое эстетическое чувство постоянно бунтовало в нем, при виде того, какую же дрянь публиковал его журнал на первых страницах, и с каким смаком очень многие эту дрянь проглатывали. Причем неглупые вроде люди, и учителя, и инженеры, и даже полноценные ученые вполне себе попадались среди читателей. Об этом Лев Виссарионович судил вполне уверенно, поскольку социологические выборки о составе читателей журнала видел, одним глазком, случайно проходя. Информация эта зацепила, его, въелась, три ночи потом ворочался в постели, не спал, переваривал ее. И переварил-таки, сделал выводы.
Единственное, что ему оставалось для собственного успокоения – это верить, что все самые ценные и адекватные читатели задерживаются в журнале исключительно его, Льва Виссарионовича усилиями. А значит, его миссия, как историка-просветителя и потомственного дворянина состоит в том, чтобы всячески эти ростки интеллигентности поливать удобрять и поощрять к культурному росту. Чем он и занялся со всем своим упорством и энергией. Платили в журнале не то, чтобы много. Скорее мало, но на жизнь таки хватало, учитывая, что жилье у Льва Виссарионовича было свое, досталось от тетушки покойной. Даже более того, можно сказать два жилья, тетушкина квартира и мамочкина дача, но это к делу не относится. Важно, что можно было полностью отказаться от газет и сосредоточиться на своей рубрике.
Уж как Лев Виссарионович любовно свои статьи готовил. Сначала шел в библиотеку, потом порой и в архив, потом на основе выписок делал научный вариант статьи. Потом, горестно вздыхая, упрощал ее до научно-популярной. А уж потом, начинал дорабатывать стиль и язык. Дорабатывать до того состояния, когда его эстетическое чувство было довольно. И уж когда он до этого состояния свои труды доводил, то после этого начинал драться с редактором с яростью льва за каждую буквицу, за каждый тонко выведенный в тексте оборот и крылатую фразу. Все он чувствовал своим детищем, и когда отрывали это от него, то будто родного ребенка в детский дом отдавал. Может он и преувеличивает, но разве, что самую малость, сказал писатель сам себе, временно выныривая из пучины воспоминаний. Статьи он холил и лелеял, это признавали все, даже те, кто за глаза называл его «беспощадным дьяволом интеллигентности» (добрая половина журнала).
И пускай редактор его поругивал за излишний академизм и неистребимую склонность к высокопарности, даже он признавал, что появление Льва Виссарионовича вдохнуло новую жизнь в увядающую рубрику. Однажды он в порыве откровенности даже сказал: «Знаешь Лев, а ведь даже каждая занюханная прачка и каждый полупьяный грузчик, а все они хотят немножечко почувствовать себя эстетами и аристократами. Немного и ненадолго, но хотят, это щекочет их самолюбие. И ты своим поднебесным пафосом им эту возможность даешь. Что особенно хорошо заметно на фоне остального журнала. Спасибо тебе. От всей души спасибо». Произнеся эту душещипательную речь, он вновь наполнил свою рюмку и надолго замолчал. Лев молчал тоже, поддерживая свою гордость и значительность момента.
Этот разговор впрочем, он отложил на важную полочку в глубине своей памяти и непременно обращался мыслями к нему, когда требовалось самообладание и душевное спокойствие. А тот факт, что вся эта красивая тирада была произнесена за полчаса до того, как редактора вдребезги пьяного увезли с новогоднего корпоратива, Льва Виссарионовича не волновал совершенно. Важно, что он сказал, а не когда и как. И он продолжил шлифовать каждую из следующих статей так, будто собирался подавать ее на Нобелевскую премию по литературе. И даже когда по настоянию редактора в очередной раз приходилось сокращать что-то или заменять ради большего интереса у менее интеллектуальной части читателей, Лев Виссарионович стискивал зубы, но делал это, во многом во имя тех давних слов.
Впрочем, были у него и победы над редактором. Самая главная – это когда на исходе второго года своей работы он сумел выбить согласие на выделение в рамках своей страницы дополнительного подраздела. Отдельно от основного загадочно-интригующего материала, Лев Виссарионович помещал в этот крошечный раздельчик свой личный дайджест современных достижений исторической науки, срез, так сказать, качества. Достижения конечно он отбирал специфическим образом, на основе личных симпатий. И сам раздельчик очень многое говорил о симпатиях автора, будучи больше похожим на кусочек блога, чем на серьезный обзор. Скажем любому дрянному и поверхностному исследованию о Петре Великом было гораздо проще и реальнее попасть в этот дайджест, самой что ни на есть лучшей и до ослепительного алмазного блеска отшлифованной монографии про Сталина, которого Лев Виссарионович откровенно недолюбливал. За вкусовщину ему впрочем, пеняли не раз и не два, тыкали, что раздел у них общеисторический, а не посвященный исключительно имперской эпохе, столь им любимой. Лев Виссарионович стоически отбивался, шел на мелкие уступки, но генеральной линии не менял. Добрых три четверти его материалов были посвящены тому, что произошло в промежуток от первого Петра до последнего Николая. И только одна четвертая всему остальному, и всегда эти статьи были написаны хуже, добросовестно, но без всякого огня. Спокойно и нудно. Как будто советская машинистка напечатала, как шутил сам Лев Виссарионович.
И в какой-то момент редактор отстал, смирился. Было у него по горло других проблем, связанных с журналом и куда более значительных, чем мелкая рубрика. Конкуренция то на рынке выросла сильно, и все труднее было справляться с давлением более крупных и обладающих куда более внушительными бюджетами собратьев. Бултыхался, бултыхался журнальчик, а в какой-то момент не выдержал и всплыл кверху брюхом, обанкротился. И не вина здесь исторического раздела, уж чья угодно, но только не его, подумал Лев Виссарионович с легким внутренним злорадством. Надо было вам голубчики больше качественных материалов делать, а не в грязь скатываться. Впрочем, он быстро себя одернул, с легким чувством вины вспомнив об инфарктах редактора. «А Вас жаль, батенька, жаль» – сказал он вслух – «Но вот твореньице Ваше, на охлос рассчитанное, и не жаль, честно говоря». Тишка самую малость поднял рыжее ухо, оценил, что хозяин в очередной раз сам с собой сотрясает воздух, и, дав отбой тревоге, вновь задремал.
Поводов жалеть о закрытии журнала у Льва Виссарионовича действительно не было. Хотя бы потому, что крах сего малополезного для отечественной цивилизации издания не означал закрытия собственно его рубрики. Права на нее были выкуплены другим, более солидным журналом и теперь он получил не одну, а целых три страницы в свое распоряжение и значительно больше свободы в их наполнении. Да и жалованье, надо признать подняли изрядно. Появилась возможность нет-нет, и шикануть иногда в ресторане, обязательно поблизости от Площади трех вокзалов. А по завершению приятного вечера, фланируя мимо газетчиков мимоходом выдать какую-нибудь из своих коронных фраз. Что-нибудь про труд, интеллект и чувство вкуса, ну и малость приправить латынью. Per aspera ad astra или еще что-нибудь там ввернуть в тему. В плане латыни Лев Виссарионович был довольно предсказуем, и в плане общего направления пафосных высказываний в общем-то тоже. Впрочем, отторжения у газетчиков (многие из которых представляли уже новое молодое поколение) он не вызывал. Скорее притягивал своей оригинальностью и стороны расставались вполне довольные друг другом.
Именно после смены места работы у Льва Виссарионовича и появилась подлинная идея в жизни, идея достойная его таланта и во многом вытекающая из того, что мелкие газетные очерки перестали удовлетворять его творческим масштабам. Хотелось большего, чего-то по-настоящему достойного и монументального, такого, чтобы потомки потом с любовью читали и перечитывали, вдохновенно дискутируя о вторых, третьих и четвертых смыслах, которые великий автор мог вложить в ту или иную фразу. Разумеется, Лев Виссарионович отдавал себе отчет в сложности задачи. Но он ли не готовился, он ли не шлифовал свое мастерство годами ради того, чтобы однажды, после долгих творческих мук выдать свету подлинный бриллиант. Главное, чтобы окружающие сумели сей самоцвет достойно оценить.
И понял он еще одно, не хочется ему бросать все силы на создание блестящего, но скучного для непосвященных исследования, которое будет пылиться на полках библиотек без надежды когда-либо стать известным в народе. Хотелось чего-то такого, что цепляло бы душу каждого русского человека, наполняло бы ее гордостью, не только за героев книги, но и за скромного (тут Лев Виссарионович слегка приосанился) творца сего сверкающего кристалла. И потому-то решил он не уходить в дебри истории, а напротив, сдвинуться от истории к литературе, объединить сухие факты со своим богатым языком и развитым эстетическим чувством. Впрочем, Лев Виссарионович себе честно признавался, что дело не только в этом, а и в том, что историческая литература ему, как творцу куда интереснее простой истории. Хотя бы потому, что есть куда развернуться, показать свои мысли и идеи, даже те, для которых по тем или иным причинам нет достаточной доказательной базы. Одним словом не собирать информацию по крупицам, дотошно вглядываясь в каждую строку подобно муравьишке мелкому, а парить в поднебесье, будто орел небесный.
Дело было в общем-то за малым. Выбрать достойную его внимания тему и вгрызться в нее хорошенько, не отпуская. Рвать и терзать до тех пор, пока не получится тот шедевр, который давно уже нужен миру… Тишка внезапно зашевелился, заскреб лапами по столешнице, едва не сбросив с нее любимую кружку Льва Виссарионовича. «Цыц» – крикнул тот, временно отвлекаясь от важных мыслей в пучины приземленного быта с его извечными проблемами в виде малообразованных соседей, жирных ленивых котов и необычайно шумной молодежи. Тишка лениво приоткрыл один глаз, презрительно глянул на Льва Виссарионовича, но лапами скрести перестал. Достопамятная кружка с изображенным на ней логотипом безвременно увядшего журнала осталась цела, счастливо пережив пограничную стычку с мохнатым злодеем.
Журнал, как уже говорилось, Лев Виссарионович всецело презирал, но вот кружку ценил. Во-первых, потому, что она была на удивление причудливой и пафосной формы, напоминая то ли античный храм, то ли ренессансный дворец (на удивление наняли не вчерашнего студентика, а нормального дизайнера, в кои-то веки), соответствуя его развитому эстетическому чувству. А, во-вторых, он, как всякий подлинный историк был крайне чувствителен ко всему тленному и бренному, тому, что ушло навсегда. Журнал исчез и никогда не возродится, навсегда прошла и целая эпоха из жизни Льва Виссарионовича, эпоха смешная, суетная, но все же имевшая и свою ценность, и свое очарование. А значит, она нуждалась и в памятниках, которые ее увековечат. И эта громадная, не очень-то удобная, но уникальная кружка и была таким памятником. Уничтожь ее зловредный кот и другой ему уже не найти, никто ее такую не выпустит, все шаблоны давно уничтожены, сейчас иные вещи в моде. Чужды стали люди монументальности и развитой эстетике, увы. Перелетают только себе как мотыльки от одного бумажного кофейного стаканчика к другому, вот и все их чувство прекрасного. Впрочем, даже представив на минутку, что можно будет где-то найти полную копию кружки, это все равно будет не то. Не та подлинная истинная кружка, свидетельница множества творческих раздумий и метаний. Жалкая копия и точка.
После спасения кружки Лев Виссарионович вновь обратился мыслями к роману. Так или иначе, а решил он написать именно исторический роман. Не псевдоисторический, а полноценный, с упоминанием ценных архивных документов и прочего, чтобы и специалиста было чем зацепить. Но, чтобы и простой любитель литературы, далекий от истории, мог найти в данном произведении чисто эстетическое удовольствие, посмаковать его, как дорогое вино. И, кроме того (Лев Виссарионович был реалистом и понимал, чего сегодня хотят люди от литературы) в сей благородный напиток следует добавить пряностей, подогреть его, придать так, сказать перчинки. То есть нужен огонь, пафос и необычные повороты сюжета, все то, что обычно понимают под словом «приключения».
И вот с форматом «приключений» у Льва Виссарионовича ладилось плохо. Внутренне он был слишком далек от всего этого, и по образу жизни и по характеру своему. И понимал это, отдавал полный отчет. Но будучи дворянином, сдаваться отнюдь не собирался. В конце концов, сэр Вальтер Скотт тоже был кабинетным ученым, никуда толком не ездил, жизнь искателя приключений не вел, а какие исторические романы отгрохал, молодежь до сих пор зачитывается. Значит и он сможет. Нельзя же русскому дворянину быть хуже английского, смех какой-то, он должен быть лучше, лучше во всем, и точка.
Скотта Лев Виссарионович, разумеется, уважал (пусть и с легким налетом своей принципиальной неприязни к жителям Туманного Альбиона) но собственно сюжетной опорой и ориентиром для его будущего творения был все-таки не он. Имелся конкретный образчик, на который стоило ориентироваться, кое-что разумеется необходимо было улучшить, но в целом, в целом, Лев Виссарионович весьма уважал это произведение. Разумеется, это «Петр Первый» Алексея Толстого. Вот такой вот забавный казус, нося имя одного из общепризнанно величайших русских писателей, Лев Виссарионович гораздо больше уважал и ценил не титана XIX века, а его советского тезку. «Советского» в кавычках разумеется, ведь само собой очевидно, что и воспитание, и образование, и развитие писательского таланта, и первые творения – все это создала в Алексее Толстом Российская Империя. И пусть «Петр Первый» был написан уже в 1930-е годы, весь фундамент под него создавался гораздо раньше. Это Лев Виссарионович твердил себе неустанно и сам почти верил, что так и было.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



