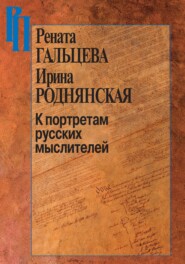скачать книгу бесплатно
Несчастьем большинства поэтов XIX века Соловьеву представлялось недоверие их «реалистического» ума, равняющегося на трюизмы своего времени, к той истине, которая открывается в художественном созерцании как последняя достоверность. Так, по его проницательному замечанию, Баратынский был раздвоен между религиозно-поэтическим взглядом на мир и материалистическими выводами современного ему научного умонастроения, что делало его пессимистом, то есть в каком-то смысле «отступником». Самые вдохновенные, поднимающиеся вровень с лирической высотой разбираемых образцов статьи Соловьева посвящены тем поэтам, кто так или иначе одолевал «противоположность между тем прекрасным и светлым миром, в котором живет <…> муза, и <…> суровою и темною глубиною жизни» (c. 524) Это на девять десятых посвященная А.А. Фету статья «О лирической поэзии» (1890), где ее герой, бегущий от жизненной тревоги «в мир вдохновенного созерцания», соединяет вместе с тем эти два мира «пафосом истинной любви, поднимающей его [поэта] над временем и смертью» (с. 416). (Если мы сопоставим даты и формулировки, то увидим, что патетическая любовная лирика Фета послужила таким же источником для трактата «Смысл любви», как и собственная душевная жизнь его автора.) Это философское эссе о Тютчеве (1895), у которого Соловьев находит редчайшее соответствие между интуитивным ощущением всеобъемлющей одушевленности вселенной и сознательной мыслью, эту одушевленность утверждающей. (Лирический мир Тютчева дает Соловьеву повод снова воссоздать вехи мирового восхождения красоты, расставленные им в статье 1889 года.) Это тончайший разбор стихотворений Полонского-лирика (1896), который, по словам Соловьева, «не остается при <…> двойственности» – мира поэтических созерцаний и «темной жизни», – а находит выход в столь созвучной автору «Чтений о Богочеловечестве» идее «совершенствования, или прогресса» (c. 525), притом прогресса не научного, а духовно-нравственного, оправдывающего дело художника. Это портрет А.К. Толстого (1894), позволивший Соловьеву напомнить о «старом, но вечно истинном платоническо-христианском миросозерцании» (с. 505), в свете которого художник – «связующее звено, или посредник, между миром вечных идей, или первообразов, и миром вещественных явлений» (с. 492), то есть живой гарант того, что двоемирие преодолимо.
Итак, у Тютчева Соловьев нашел родственную своей собственной мистику, у А.К. Толстого – близкую себе философию, у Фета – просветленный эротический пафос. И всякий раз это сближение критика с миром поэта происходит на почве веры в связующую задачу искусства и уверенности в том, что для исполнения такой задачи потребны цельное сознание и цельная жизнь, а нарушение этого правила мстит за себя трагедией и даже гибелью.
Частные суждения о поэтах Соловьева-критика могли быть односторонни и чрезмерно зависимы от его основоположений. Но коренному его переживанию судеб искусства сопутствует правота – правота не литератора, а учителя жизни.
VI
Соловьев – корифей русской философской критики, более того – ее подлинный основатель. Это вовсе не значит, что до него наша литературная критика, переживавшая расцвет в 40 – 60-х годах XIX века, была лишена философской подкладки, что, размышляя о литературе, не философствовали при этом В.Г. Белинский, И.В. Киреевский, А.В. Дружинин, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев и даже Варфоломей Зайцев. Но именно Соловьев продемонстрировал, что философский анализ не подчиняет художественное произведение схеме, внутри которой оно обречено служить иллюстрацией тезиса, а восходит к его объективной смысловой основе. В критическом очерке о поэзии Я.П. Полонского Соловьев, сберегая от рационалистического разъятия «несказанную и неизреченную» тайну личности, исключает из задач критики уловление художественной индивидуальности в сети отвлеченных формулировок. Цель философского разбора – уяснить, на какую сторону истинного Бытия откликается душа художника как на родную себе идею, какой луч сущей Красоты озаряет мир его созданий. С этой точки зрения даже лирика для Соловьева – искусство вовсе не субъективное (в связи с чем оспаривается известное определение Гегеля), а, при всей мимолетности настроений и при всей порожденности пережитым мгновением, укорененное в вечности и живущее верой в безусловную, вечную ценность запечатляемых состояний. При таком взгляде лирика явно проигрывает в объеме тем и мотивов[312 - Об этом см., в частности, в письме Полонского Фету от 27 декабря 1890 г.: «Прочел статью Соловьева о лирической поэзии <…> разумеется, он искренен и прав с своей точки зрения на поэзию – но я лично смотрю несколько иначе. <…> C моей точки зрения поэзия все захватывает <…> и ничто человеческое не чуждо ей, а стало быть и отрицание…» (с. 676, из комментария А.А. Носова).], но выигрывает в самом существенном – в причастности к абсолютам, каковыми для Соловьева была Любовь и Красота, поднятые на онтологический уровень. (Они действительно ядро лирики, и иссякание этого запаса в современной лирической поэзии не может не свидетельствовать об общем ее кризисе.)
На фоне новейших течений в искусстве литературно-критическое наследие Соловьева может показаться старомодным и отсылающим к уже как бы обветшалому миру гармонии и благолепия. Но в нем как это, мы надеемся, будет в конце концов осознано, – заключена спасительная энергия, возвращающая искусство в мир духа.
Р. Гальцева
Конкретная эсхатология Владимира Соловьева[313 - Соловьевский сборник. Материалы международной конференции «Владимир Соловьев и его философское наследие» 28-30 августа 2000 г. М.: Феноменология-герменевтика, 2001. Доклад. Печатается с сокращениями.]
Тема эта возникла у меня как отклик на вошедшее в обиход литературы о Вл. Соловьеве трехчленное деление его историософских взглядов: на первый, оптимистически-эволюционный; второй, по мере разочарования в первом к середине 80-х годов, утопически-теократический; наконец, третий, наступивший по мере отрезвления и отхода от прожектов институционального спасения, апокалиптический этап «Краткой повести об Антихристе». Против констатации этих стадий трудно возражать, но хочется ее скорректировать. Остается в тени еще один факт, требующий уяснения. При том, что описанные этапы дискретны, что они мало совмещаются между собой, а сменяют друг друга, в сотериологической историософии Соловьева есть еще один проект, проходящий через все ее стадии и при этом, можно сказать, не линяющий ни перышком.
Соловьев явился в этот мир с острым чувством странничества в нем и одновременно за него ответственности. Странник-миссионер – это и есть антиномия, в которой живет христианин. С юношеских лет Соловьев переживал недолжное состояние мира и ощущал свое призвание сразиться, как Персей с драконом, с жизненным злом.
«С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, – признается он, двадцатилетний, своей кузине Екатерине Романовой (Селевиной), я сознавал, что существующий порядок вещей далеко не таков, каким должен быть». А это означает, что «настоящее состояние человечества <…> должно быть изменено, преобразовано»[314 - Соловьев В. С. Письма. Т. 3. СПб., 1911. С. 87, 88.]. Другой своей конфидентке, Елизавете Поливановой, он запечатлелся юношей, преисполненным великими планами, готовым «совершить переворот в области человеческой мысли <…> открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания <…> и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»[315 - Лукьянов С.М. О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы: (Материалы к биографии): В 3 кн. СПб., 1921. Кн. 3 (1). С. 55; цит. по переизд.: М., 1990.].
Им двигали убеждение в наличии верховной правды и скорбь от того, что она не торжествует в окружавшем мире. «Быть или не быть правде на земле» – таков для него главный вопрос жизни и одновременно – ищущей мысли. Вопрос о судьбах правды считал Соловьев обращенным к нему самому, к его мысли и воле: земное бытие должно быть подчинено высшей правде.
Ясно, что перед нами эсхатолог, человек, захваченный разрешением конечных судеб мира. Как же мыслил эту работу Соловьев? «Где средства?» – на этот «самый важный вопрос», как он характеризует его в том же письме к Е.В. Романовой, дается такой ответ: «Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою <…> они хотят возродить человечество убийствами и поджогами <…> Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческого»[316 - Соловьев В.С. Письма. Т. 3. С. 88.].
Таким образом, замысел грандиозного переворота, пугающий нас своим радикальным, вроде бы, разрывом с существующим миром, мыслился Соловьевым на мирных, внутренних путях. И действительно, если мы проведем ревизию его эсхатологических идей, то лишь один (отвергнутый им затем), проект опирается у него на внешнюю организацию – это «всемирная теократия» середины 1880-х – середины 1890-х годов, остальные – обращаются к сознанию и воле человека.
Теократическая утопия[317 - См. также статью «Просветитель…», помещенную в настоящем издании, где эта тема представлена подробно.] развивалась Соловьевым в предчувствии сейсмических сдвигов истории. С целью удержания мира от надвигающегося мрака и хаоса и в попытке «исправления, – если воспользоваться оборотом архиепископа Антония Храповицкого, – полуязыческой европейской культуры началом христианским» мыслитель спешит собрать мир под покровом христианства, уже не ограничиваясь только «внутренними средствами». Для все того же водворения гармонии в мире Соловьев хочет воссоединить расколовшуюся христианскую ойкумену – латинский Запад и православный Восток, при этом первый в лице Папы будет представлять церковную и вероучительную сторону; второй – в лице православного царя с его геополитическим могуществом – мирскую власть, обеспечивающую земную прочность христианской идее. Правда, в качестве гаранта «прав человека» и «свободы личности» Соловьев предусматривает третье лицо этой земной «троицы» – пророка, харизматического вождя христианской общественности. Однако весьма сомнительно, чтобы массивный властный тандем сообразовывал свои действия с этим беспочвенным руководителем.
В данном проекте окончательного спасения мира от раздора и нестроений первоначальный, юношеский замысел Соловьева о сверхисторической теократии в форме воцарения вселенской религии превращается в посюстороннюю окончательную цель: утвердить что-то вроде средневековой «священной империи».
По поводу этой грандиозной фантазии возликовал, как мы знаем, Константин Леонтьев с его имперскими симпатиями. Он оставил без внимания «сентиментальные» обещания всеобщего примирения, но пришел в восторг от открывавшихся здесь возможностей принуждения: используя силу «русских папистов», привести Европу – через папский престол – к надежному порядку.
В конце концов, именно этот организационный элемент несвободы, вкравшийся единожды в соловьевские планы по спасению мира, а не только последующая неудача в хлопотах – по осуществлению замысла всемирной теократии – перед папой и русским императором привел реформатора к отказу от искушения быстрейшей гармонизации мира на внешних путях. В 1896 году Соловьев пишет своему католическому корреспонденту Евгению Тавернье «…Надо раз и навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии как прямой и немедленной цели христианской политики»[318 - Соловьев В.С. Письма. Т. 4. Пг., 1923. С. 221.].
Из тех эсхатологических идей, которые в согласии с основополагающими принципами Соловьева опираются исключительно на внутренние ресурсы человека, известны две мистических утопии: эстетическая, или теургическая, и связанная с ней эротическая (конечно же, в платоновском смысле слова).
В первой преображение мира поручается художнику-творцу, который выходит далеко за пределы искусства и возводит свой художественный акт до демиургического, богодействениого уровня. От него Соловьев ждет трех подвигов: при этом только первый остается в известных искусству границах. Художник должен совершить подвиг Пигмалиона, т. е. придать косному, природному материалу совершенную форму; подвиг Персея, который должен победить дракона нравственного зла, поработившего красоту в индивидуальной и общественной жизни, и, наконец, подвиг Орфея, увековечивающий индивидуальные явления, спасающий личность, – как Орфей спасает Эвридику, выводя ее из ада смерти[319 - Подробнее об этом см. в статье «Реальное дело художника», публикуемой в настоящем издании.]. Невиданное задание поднимает художника на высоту Богочеловека, ибо поручает ему то, что человеку не по плечу. Эротическая утопия по своему головокружительному масштабу не уступает предыдущей. Но акцент здесь – на любви двоих, не только нравственной, но и мистической, ибо такова есть любовь между полами. Восстанавливая цельный образ человека-андрогина, она преодолевает ущербную раздельность существования полов; любящие пары обретают бессмертие, избавляя от печальной юдоли и всю стенающую тварь, весь земной мир.
Размышляя над источниками соловьевского утопизма, можно предположить два таковых: один, характерный для русского национально-исторического сознания, – нетерпеливое желание увидеть торжествующую правду лицом к лицу без проволочек; другой – «метафизическая доверчивость» самого Соловьева, его несогласие на присутствие злой воли в космической и человеческой жизни. Дело облегчается еще тем, что присутствие метафизического мира вечной красоты он ощущал явственней, чем физический мир окружающих его временных вещей.
Между тем есть у Соловьева эсхатология, которая не только не угрожает никаким организационно-принудительным планом, ибо она не использует никакого внешнего средства, но и не является утопией в обычном смысле этого слова – как нетрезвой доктрины.
То разрешение конечных судеб мира у Соловьева, о чем идет здесь речь, с одной стороны, невероятно по своей грандиозности, с другой же, не имеет никаких принципиальных препятствий к своему воплощению, потому что может осуществляться и по частям. Оно исходит из восприятия Соловьевым Благой вести «всем сердцем своим и всем помышлением своим». Что касается «сердца», то мы знаем, чему оно было предано; но как имеющие своим предметом теоретическую мысль, остановимся на «помышлении». Соловьев так рассуждал о сущности христианского учения: «Одни будут находить» его «в непротивлении злу, другие – в подчинении духовным властям (“слушающийся вас – Меня слушается”), третьи будут настаивать на вере в чудеса, четвертые – на разделении божественного от мирского и т. д.». Но все это – в лучшем случае «только частные пункты учения». Само же Евангелие, сама благая весть Христова «не именует себя ни Евангелием непротивления, ни Евангелием священноначалия», ни «Евангелием чудес, ни Евангелием веры, ни даже Евангелием любви: оно признает и неизменно называет себя Евангелием царствия – доброю вестью о царствии Божием». «Царство Божие внутри нас», но оно же и «силою берется». Соловьев поясняет его реальность: «Внутренняя возможность, основное условие соединения с Божеством находится <…> в самом человеке <…> Но эта возможность должна перейти в действительность, человек должен проявить, обнаружить скрытое в нем царствие Божие», сочетая усилие своей свободной воли с тайным действием в нем благодати Божьей. Царство Божье, совершённое в вечной божественной идее («на небесах»), потенциально присущее нашей природе, необходимо есть вместе с тем нечто совершаемое «для нас и чрез нас»[320 - Соловьев В.С. О подделках // Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 6. СПб., 1912. С. 330, 331 и след.] и через нас должно распространяться дальше, на все формы бытия. И действительно, если религия открывает для человека безусловную истину, то она не может быть «для него кое-чем», но только всем. Неужели Благая весть Христова – это только методика для спасения индивидуальной души, только некий личный путь для человека, который совершенствуется, чтобы после смерти иметь вечное блаженство? – бросает бесстрашный вызов Соловьев бытующему в православной среде умонастроению, которое С.Н. Булгаков впоследствии назовет «социальным ничегонеделанием». Этот эскапистский взгляд на разрешение человеческих судеб К.Н. Леонтьев, страстный его приверженец, тоже с вызовом назвал «трансцендентным эгоизмом», Г.П. Федотов же описал как «эсхатологизм», который «всегда сохраняет привкус, хотя бы очень тонкий, духовного сектантства»[321 - Федотов Г.П. Эсхатология и культура // Новый град. Нью-Йорк, 1952. С. 323.].
Включимся и мы в старый спор. «Не любите мира», говорит Апостол (1 Ин. 2:15), но и: «так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного <…> чтобы мир спасен был чрез Него»[322 - Ин 3:16, 17.]. Характерная для этой Книги книг антиномия разрешается через взаимоуточнение каждого из полярных высказываний – его антитезой. Заповедь «Не любите мира» – таким образом раскрывается предостережением не отдавать своего сердца мирскому, а отнюдь не в гностически-манихейском смысле предания всего сотворенного на «поток и разграбление». С другой стороны, жертвенная любовь Бога к миру тоже корректируется: учитывая первый императив, мы понимаем, что не все в мире Бог хотел бы спасти, Он спасает мир в перспективе его преображения; Он дает шанс миру как совокупному человечеству: «Если не покаетесь, все погибнете. Если покаетесь, все спасетесь». Но если «все спасутся», то чисто теоретически (нечестиво отвлекаясь от предписанного нам в Священном писании конца) обязательно ли представлять историю этих «всех», покаявшегося человечества, как драму с катастрофическим концом, и, во-вторых, не оставляет ли сослагательное наклонение слов Спасителя место для «непредрешенческого» взгляда на завершение мирского эона? В поддержку этого хода мысли позаимствуем у Федотова найденные им в Евангелии «образы пришествия Царства Божия» не катастрофическим, а органическим путем: “Зерно горчичное, вырастающее в дерево, которое покрывает вселенную <…> Закваска, квасящая все тесто. Поля, побелевшие для жатвы <…>”»[323 - Федотов Г.П. Новый град. С. 328. Мф 13:31, 32; Мф. 13:33; Ин 4:35. 1 80].
Пусть не только священные тексты, но и всё в мире сегодня предвещает его грозный конец, но кто знает, как откликнулось бы Провидение на исполнение человечеством евангельских призывов («Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли»). И не был бы подготовлен в таком случае природный мир к некатастрофическому переходу в новый эон, когда Божественная воля захотела бы в ответ изменить «естественные условия» человеческого существования, включая смерть?! Не наше дело пророчествовать об этом. Однако помнить, что эсхатологический прорыв уже начался вместе с явлением Мессии, пришедшим в мир в «последние времена», и осознавать, что у нас нет логических оснований принципиально отрицать непредвиденные явления Божественной силы в мире. Скажем, если законы природы – в руках Божиих, то мир человеческих отношений во многом – в руках человеческих.
Соловьев формулирует принципы приложения христианского идеала к собирательной всечеловеческой жизни, тем самым выводя православие за пределы личного спасения в мир исторический (согласно тому, что он осознал в юности: «Пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его»[324 - Соловьев В.С. Письма. Т. 3. С. 89.]). Он выступает реформатором русского христианского самосознания, заложившим основы христианской общественности, или социального христианства, которое выливается в плодотворное, хотя и неосуществленное в России, к ее несчастью, течение русской общественной мысли XX века. «Наше дело, задача нашей деятельности, – развивает эту мысль Соловьев позже, – <…> не могут ограничиваться разрозненным индивидуальным существованием отдельных лиц. Человек – существо социальное, и высшее дело его жизни, окончательная цель его усилий лежит не в его личной судьбе, а в социальных судьбах всего человечества. <…> Если мы заботимся о деле царствия Божия, то мы должны принимать то, что этому достойному делу служит, и отвергать, что ему противно, руководясь при этом не мертвым критерием каких-нибудь отвлеченных измов, а (по апостолу Павлу) живым критерием ума Христова, – если мы его в себе имеем; если же не имеем, то лучше нам и не называться христианами. По праву носящие это имя должны заботиться не о сохранении и укреплении во что бы то ни стало данных социальных групп и форм <…> а напротив об их перерождении и преобразовании в христианском духе (насколько они к этому способны), – об истинном введении их в сферу царствия Божия»[325 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. СПб., 1912. С. 331—332, 336—337. 1 8 1].
Продолжим от себя. «Царство Божие не от мира сего», но из этого никак не следует, что оно не для мира сего. Напротив, только то, что свыше, может править миром. Согласовывать все свои политические и социальные отношения с христианскими началами – в этом и состоит настоящая «христианская политика».
Тех, кто бездейственно ждет грядущего откровения, оставляя всю свою мирскую деятельность мирским и языческим интересам и поддерживая нехристианские институты, Соловьев изобличает как «мнимых христиан», ставя им в укор деятельность либералов. Последние выгодно отличаются от поддельных сторонников христианства, которые сводят его к мертвой вере и к толкам о личной святости и личном спасении души (здесь автор метит сразу и в индивидуалистическое христианство Толстого, и в «трансцендентный эгоизм» Леонтьева).
Сам Соловьев отнюдь не считает себя основоположником, а в крайнем случае – лишь обновителем той политики, которая впервые была взращена у нас крестителем Руси князем Владимиром и определяется мыслителем как политика, которая «боится греха». (След этой политики – а не одной лишь борьбы пресловутых классовых, групповых и личных интересов – пунктиром затем проходит по всей русской истории вплоть до 1917 года.)
Но Соловьев не только утверждает принципы «христианской политики» как возможного пути общественно-исторического спасения, он конкретизирует принципы соответствующего ей устройства общества, т.е. такой лично-общественной среды, которая по существу становилась бы «организованным добром». В эту «организацию» непременным требованием входит соблюдение личной свободы: ни под каким предлогом человек не может служить добру, даже «общему благу», против собственной воли, что, конечно, вызывает симпатии всех либералов. Однако либерализм Соловьева – это либерализм классический, имеющий под собой старый сверхконвенциональный, религиозный фундамент. Оккупировавший сегодняшнюю идейную сцену абсолютный либерализм совершенно неприемлем для Соловьева и был отвергнут им в своих основах под именем «этического натурализма», или «социального позитивизма», не признающего вечных, сверх-эмпирических ориентиров. Перед человеческим сообществом, так же как и перед человеком, всегда стоит необходимость выбора между добром и злом, добродетелью и пороком. Между этими принципиальными путями иные хотят отыскать еще какой-то – ни добрый, ни злой, а натуральный или животный. Но для человеческого мира этот путь не натурален, не естествен. «Волей-неволей человеку приходится выбирать: или становиться выше и лучше своей данной материальной основы, или становиться ниже и хуже животного». (Последнее прямо про нынешнюю культурную доминанту.)
Соловьев подчеркивает, что «притязание» «христианской политики» на христианское устроение общества как согласованное с безусловным нравственным началом «совершенно безобидно»: личность здесь ничего не потеряет.
Но так же, как «христианская политика», эта важная часть богочеловеческого процесса, так и весь в целом грандиозный замысел богочеловеческого сотрудничества по воплощению Благой вести о Царствии тоже «безобиден»: он не является организационной утопией (чреватой своей обратимостью в антиутопию), поскольку не выходит к человеку ни с каким принудительным заданием, ни с какой извне мобилизующей идеей и насильственной регламентацией жизни. В отличие от вселенского теократического плана, который мыслился Соловьевым в качестве внешнего утверждения «окончательного идеала христианства на земле», он не включает в себя социальное прожектерство. А в отличие от мистических утопий не содержит человекобожеского дерзания, берущего на себя непосильную задачу пересоздания условий человеческого существования, т.е. самих законов природы. Если это и утопия, то не проективная, а конкретная, обращенная к реальным возможностям человека, которые открылись для него с явлением Богочеловека, пришедшего в мир «в последние времена» и «победившего мир». Но утопия она потому, что в своем расчете на всечеловеческий отклик она оказалась недостижимой достижимостью, – человечество пока выбирает другой путь. Однако сие есть тайна историософии.
Соловьевский отклик на откровение о Царстве Божьем можно было бы назвать также эсхатологией условной, или открытой, ибо принципиально она зависит от человеческих усилий, но, будучи грандиозной целью, она никогда не теряет смысла в качестве импульса и средства. От нас зависит мера ее воплощения; и всякая мера будет благом. Эта эсхатология задана в словах Христа: «Я есмь истина и путь», грандиозность цели не только не мешает ей быть прочным основанием повседневной практики по оформлению жизни, но как раз предполагает ее.
При этом перемены во взглядах на ход и вектор мировой истории тоже бессильны повлиять на подобный императив, ибо он продолжает потенциально оставаться эсхатологическим выходом в Царство Божие: если это не выйдет для мира, то уж непременно выход откроется для индивидуальной судьбы, а ведь она тоже относится к ведомству эсхатологии.
И когда в поздние годы Соловьев ощутит трагический баланс сил добра и зла и увидит конец истории в свете евангельских про рочеств, где эсхатология обретает черты апокалипсиса, то и это не девальвирует ценности той социальной этики, которой Соловьев служил всю жизнь, и не отменит правды условно-эсхатологических чаяний, принципиально неотменимых нашим нерадением. Пусть срыв их будет адресован человечеству. Но ведь истина не утратит своей универсальности, даже если в фактической истории ее теснит антихристова ложь. «Очевидно, – пишет Соловьев Е. Тавернье, – Христос чтобы восторжествовать разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве». Такое эсхатологическое устремление подготовит человечество к последнему противостоянию добра и зла так, чтобы каждый человек сознательно и свободно мог совершить свой выбор за или против Христа. А это все та же работа по осуществлению «христианской политики», по утверждению Благой вести в сфере общественного сознания и бытия, или, как выражается Соловьев, – по «концентрации христианства». В прежней конкретно-стратегической установке христианского философа ничего не изменилось, ибо она есть установка последовательного христианина.
Всем, кто стремится видеть в «Краткой повести об антихристе» разрыв с заветами «христианской политики» и отказ от участия в истории, надо бы учесть, что эта повесть входит в «Три разговора», где обсуждаются вполне земные дела и проблемы международной политики, что было бы неуместным, если бы автор не ставил развязку истории в зависимость от нашего человеческого участия в текущем.
Какие бы историософские предвидения Соловьева ни оказались оправданными, стратегия, указанная им, осталась не только не опровергнутой, но, может, единственно реальной и спасительной для мира и для России, которая три четверти века жила в утопическом пространстве насильственной секулярной эсхатологии, обличаемой Соловьевым, а теперь ей грозит окунуться в хаос неразличения добра и зла, от которого он не менее настойчиво предостерегал.
Между тем освободившаяся от стального обруча российская жизнь неизмеримо больше, чем когда-либо, нуждается сегодня в тех «духовных основах жизни», на необходимости которых для «русского общества» после «высвобождения его из внешних рамок крепостного строя»[326 - Письмо А.Г. Достоевской от 11 февраля 1883 г. // Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 630. 1 84] так взволнованно настаивал «отец наш» Соловьев.
И. Роднянская
Конец истории и «окончательный взгляд на церковый вопрос»
К строению «Трех разговоров»[327 - Соловьевский сборник. Материалы международной конференции «В.С. Соловьев и его философское наследие» 28-30 августа 2000 г. М.: Феноменология-герменевтика, 2001. Слова «окончательный взгляд…» принадлежат самому Соловьеву и сказаны были после чтения «Трех разговоров» в семье брата, как то сохранила память его племянника и биографа. См.: Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 370.]
Если «некалендарный двадцатый век» начался в России с 1914 года, то в русской мысли он повел отсчет с годичным опережением календаря – когда Владимир Соловьев выступил в 1900 году в Петербургской городской думе с чтением «Краткой повести об антихристе» и параллельно полностью опубликовал свое последнее творение в печати.
Спустя четверть столетия Георгий Федотов в знаменитой статье «Об антихристовом добре» (1926)[328 - Федотов Г.П. Об антихристовом добре // Путь. Париж. 1926. № 5. 1 85] в обстановке взлета коммунизма, фашизма и отчасти уже нацизма, то есть как бы неприкрытого зла, пытался доказать, что не изведавший такого зла Соловьев, с его образом антихриста-«филантропа», – дитя XIX гуманного века О. Конта и Дж. Милля и что его предвидения и обличения побиваются людоедским опытом последующих десятилетий. У Федотова в его тенденциозном разборе «Трех разговоров» была своя заветная цель: он лелеял идею «нового града» христианской культуры, противостоящего открывшему забрало антикультурному злу, а нарисованное Соловьевым предконечное состояние европейской цивилизации, лживо-благополучной и лицемерно-имморальной, подрезало крылья этой мечте. Кроме того, Федотов дорожил представлением об условности пророчеств Священного Писания насчет финальной мировой катастрофы («аще не покаетесь…»), а Соловьев, знакомый с этой мыслью из учения Н.Ф. Федорова, в предсмертном сочинении недвусмысленно настаивал на их, пророчеств, безусловности.
Однако хорошо смеется (да и к месту плачет) тот, кто делает то и другое последним. В завершающий год ХХ века можно констатировать, что Соловьев по очкам выигрывает футурологический спор у Федотова, хотя в будущем они снова могут поменяться местами. Я уж не говорю о тех пронзительных ассоциациях, которых еще не могло быть у Федотова и которые возникают три четверти века спустя у современного читателя. Поражает прямо-таки прагматическая трезвость, с какой «безумный пророк» (прозванный так Д.С. Мережковским) судит о вполне земных геополитических материях: о том, что неизбежная глобализация истории свершится вместе со вступлением на ее арену огромных человеческих масс Дальней Азии и с освоением ими западных технологий и идеологем; что панисламистские движения, имея локальный характер, ослабят тем не менее условно-христианскую цивилизацию перед лицом нового вызова; что сепаратистские мятежи, будь то буров или этносов Австро-Венгерской империи, деструктивны по своей природе и сентиментальная их поддержка к добру не ведет (за столь нелиберальную позицию в вопросе англо-бурской войны Соловьев даже заслужил осуждение своей Прекрасной дамы, Софьи Петровны Хитрово[329 - Соловьев С.М. Указ. соч. С. 361.], – злободневная параллель напрашивается); что перед лицом общего противника европейские страны, скажем, Англия, будут вести ту трусливую политику, которая впоследствии получила название мюнхенской, и т. д. Все это лишь детали, но свидетельствующие о том, что на умудренного годами Соловьева уже нельзя смотреть как на наивного юношу, когда-то неудачливым военкором прибывшего на русско-турецкий фронт.
Важнее другое. Всего через шесть лет после статьи Федотова с ее преждевременными надеждами на то, что «европейская культура, в своих духовных вершинах, опять готова, как спелый плод, упасть к ногам Христа»[330 - Федотов Г.П. Лицо России. Статьи 1918—1930. 2-е изд. Paris, 1988. С. 41. 1 86], выходит в свет антиутопия О. Хаксли «О дивный новый мир». Ироничный и чуждый христианской эсхатологии автор, как бы мысленно перешагивая через назревавшую вторую мировую войну (впрочем, ведь и в Евангелии сказано, что войны и стихийные бедствия – «это еще не конец»), рисует цивилизацию, по существу близкую той, в лоно которой соловьевский антихрист будет принят, ибо будет ей приятен. С этой точки зрения «Краткую повесть об антихристе» можно счесть первой русской сюжетной антиутопией[331 - Исходную схему и диспозицию идейных сил для будущих антиутопий можно обнаружить в Поэме о великом инквизиторе (в «Братьях Карамазовых» Достоевского).], опережающей и по времени и по полету мысли замятинское «Мы», а в своих линиях «антихристова добра» получившей тридцать лет спустя косвенную поддержку с Британских островов. На мой взгляд, из числа широко известных только эти два неожиданно сближающихся сочинения, – Соловьева и Хаксли – на пороге XXI века, обещающего стать веком политкорректности и тяготения к мировому правительству, не растратили еще свой порох, не потеряли прогностический потенциал…
В обширной литературе о «Трех разговорах», куда вошла «Краткая повесть…», единодушно признается обозначившийся здесь перелом в умственном творчестве и воззрениях философа. Так вот, что именно переломилось, что отпало и что укрепилось? Попытаемся ответить, не минуя строя и образов этого сочинения.
Говоря о смене ориентиров, обычно цитируют слова Соловьева из предисловия к переводившимся им «Творениям Платона»: «С нарастанием жизненного опыта без всякой перемены в существе своих убеждений я все более и более сомневался в полезности и исполнимости тех внешних замыслов, которым были отданы мои так называемые “лучшие годы”»[332 - Творения Платона. В 2 т. Т. 1. М., 1899. С. V.]. Е.Н. Трубецкой справедливо предлагает разуметь под «внешними замыслами» не только немыслимую организацию троицы в лице римского папы, русского царя и пророка-общественника – возглавителей обновленного человечества, но шире – всю мечту Соловьева о вселенской теократии как Царстве Божием на земле[333 - См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьева. М., 1995. Т. 2. С. 7. 1 87]. В этот верный диагноз текст «Трех разговоров» позволяет внести уточнения.
В приведенных словах Соловьев неспроста выражает сомнение не только в «исполнимости», но и в «полезности» внешних замыслов – замыслов, опиравшихся на идею общечеловеческой солидарности. В 1894 году философ еще писал: «Несмотря на все колебания и зигзаги прогресса, несмотря на нынешнее обострение милитаризма, национализма, антисемитизма, динамитизма и проч., и проч., все-таки остается несомненным, что равнодействующая истории идет от людоедства к человеколюбию, от бесправия к справедливости и от враждебного разобщения частных групп к всеобщей солидарности». И эти позитивные тенденции исторического развития, продолжает Соловьев, «не будут поколеблены по крайней мере до пришествия антихриста и его пророка с ложными чудесами»[334 - Соловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике. // Соловьев В.С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 550—551. Далее «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте.]. То есть – так это здесь звучит – до времен баснословно далеких и не совсем достоверных. Такие слова спустя несколько лет Соловьев мог бы вложить – да собственно он это и делает – в уста Политика из «Трех разговоров», проповедника прогресса и мира во всем мире, основанного на вежливости (на плюрализме, сказали бы мы сегодня). В ответ этот тогдашний Френсис Фукуяма слышит от г-на Z, рупора автора, что «прогресс – это симптом» (с. 705), а ускоренный прогресс – симптом в квадрате. Симптом того, что быстрыми темпами готовится почва для произрастания беспримесного, хотя и замаскированного зла. Ревизия здесь еще глубже, чем полагал Трубецкой, сам кадет-прогрессист, стремившийся перевести прогресс (отбросив его абсолютизацию) в разряд относительных благ. Когда на открытии созванного императором-антихристом лжесобора оркестр играет «марш единого человечества» (с. 751), это означает только одно: идея прогрессирующей всеобщей солидарности видится Соловьеву как фальсификация и уловка.
За этим ни в коем случае не стоит отречение Соловьева от веры в ноуменальное единство человечества; с прежней страстью такая вера выражена в работе «Идея человечества у Августа Конта», создававшейся одновременно с подступами к «Трем разговорам». Но это единство, таинственное, мистериальное, не реализуется внешним ходом истории. «Смысл исторического процесса, или всемирного суда», – так формулирует Соловьев в одном из «пасхальных писем», ставших приложением к отдельному прижизненному изданию «Трех разговоров»[335 - Соловьев В.С. Слепота и ослепление // Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1914. С. 53.], – и это по-новому понятый смысл. Соловьев – как, видимо, суждено каждому христианину, если он хочет быть последовательным, – приходит к концепции «двух градов». Внешняя история и интраистория движутся параллельно, но разнонаправлено, до времени находясь в трудноразличимом смешении, но приходя к окончательному разделению, каковое и тождественно суду. От августинианства мысль Соловьева отличается тем, что он не отождествляет интраисторию с историей Церкви в ее внешней атрибутике[336 - Вопрос о «хилиазме» Соловьева остается для нас открытым. Ясно, что он не отождествлял предреченное в Откровении Иоанна Богослова тысячелетнее царство Христа и его святых с каким-либо периодом бытия Церкви в историческом прошлом. Но и беглое указание в «эпилоге» Повести об антихристе: «…казненные антихристом евреи и христиане <…> ожили и воцарились с Христом на тысячу лет» (с. 761) – нельзя считать принципиально значительным (как, например, был историософски принципиален хилиазм о. Сергия Булгакова в конце его жизни). Скорее, этой фразой обозначено нежелание автора «Трех разговоров» переходить от волновавшей его в тот момент темы «конца истории» к теме «конца света» (о чем мною будет сказано ниже).]. Как не мной замечено, у каждого христианского вероисповедания, по Соловьеву, обнаруживается собственный «антихрист», разделение проходит по церковному телу, при конце собираются два собора – разбойничий и истинный.
Соловьеву не медля стали пенять на то, что в «Трех разговорах» он отказался от задачи положительного исторического творчества и впал в эсхатологический пессимизм, отвергнув тем весь пафос своей прежней деятельности. Это неверно – Соловьев, в свете изменившейся историософии, попросту сместил акценты активизма. «Очевидно, Иисус Христос, чтобы восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве», – пишет он своему католическому корреспонденту Евгению Тавернье в середине 1896 года[337 - Соловьев В.С. Письма. Т. 4. Пг., 1923. С. 221.], когда тема антихриста, тема реальной силы зла, впервые встала перед ним как рабочая. Это – сотрудничество в копилку интраистории, – хоть бы и затем, чтобы те «сорок пять миллионов христиан» (с. 746), что останутся верными в эпоху квазирелигиозного синкретизма и оккультного блуда, не сбились с пути, составив ядро Богочеловечества[338 - При этом Соловьев остается верен своему давнему постулату насчет необходимости ввести «веру отцов» в область разумного сознания. К концу истории эта интраисторическая задача реализуется: «Если огромное большинство людей остается вовсе неверующими, то немногие верующие по необходимости становятся мыслящими, исполняя предписание апостола: будьте младенцами по сердцу, но не по уму» (с. 740). Более того, мыслить они непременно станут, переросши «ступень философского младенчества», то есть в духе антично-шеллингианского уклонения от библейской веры – уклонения, столь свойственного космологии самого Соловьева: «таким понятиям, как Бог, сделавший мир из ничего, перестают уже учить и в начальных школах» (там же). 1 89]. И такая работа не сводится исключительно к церковному или даже философско-богословскому просвещению – это и злободневный «мониторинг», слежение за политической и культурной симптоматикой текущего дня, применение к ней того же меча, отсекающего зло от добра. «Моя задача здесь скорее апологетическая и полемическая», – пишет Соловьев в предисловии к «Трем разговорам» (с. 646), и он исполняет эту двуединую задачу, не брезгуя той санитарной работой (напоминающей некоторые страницы «Дневника писателя» Достоевского), которая была бы нелогична, когда б философ отрекся от соработничества с Богом в историческом настоящем. «Замыслы смелые крепнут в груди»[339 - Из первоначальной редакции стихотворения «Вновь белые колокольчики» (июля 1900 г.) – см.: Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 267.], – скажет он, как духовный воин, даже на пороге предчувствуемой «бледной смерти».
Поскольку «Краткую повесть об антихристе» следует читать в контексте трех диалогов (о чем нередко забывают[340 - Среди современных работ, где «Краткая повесть об антихристе» прочитана контекстуально, – кн.: Сербиненко В.В. Владимир Соловьев: Запад, Восток и Россия. М., 1994.]), при охвате того и другого натыкаешься на вопрос о соотнесенности с диалогами Платона, над переводом и изданием которых философ работал до конца дней. Не силясь поднять эту тему, ограничусь принципиальным сомнением в однозначном выводе биографа, Соловьева-младшего. Тот пишет: «Если занятия Платоном в 1875 г. вдохновили Соловьева на сочинение маленького диалога “Вечера в Каире”, то теперь, окунувшись снова и глубже прежнего в вечно свежий поток Платонова творчества, Соловьев задумывает изложить свои воззрения в трех диалогах, построенных по образцу Платона…»[341 - Соловьев С.М. Указ. соч. С. 358.]. Мне кажется, однако, что Соловьев столько же подражал этому образцу, сколько отталкивался от него. Об этом, в частности, позволяет догадываться лукаво-двусмысленная реплика, открывающая «Разговор первый»: «Сочинять из своей головы по образцу Платона и его подражателей я не решился…» (с. 645). Этой ремаркой автор и отсылает к образчику (точнее, дает понять, что такое сравнение не может не прийти в голову), и сигнализирует о нежелании во всем ему следовать.
Суть же в том, что умственный стиль диалогов Соловьева отличен от Платоновых. В них, конечно, есть элементы сократической иронии и сократической майевтики – там, где г-н Z методично загоняет в угол толстовца Князя (точно так, как в «Вечерах в Каире» г-н NN припирал к стенке позитивиста доктора[342 - См.: Лукьянов С.М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы. Материалы к монографии. Т. 2. Кн. 3. Вып. 1. М., 1990. «Вечера в Каире» сочинялись Соловьевым совместно с его другом и оппонентом кн. Д.Н. Цертелевым.]). Но в целом г-н Z не выступает в качестве «Сократа» этих диалогов, то есть лица, всегда получающего возможность путем рационального расщепления волоса доказать свою правоту перед вынужденным поддакивать или капитулировать собеседником. Г-н Z (а не любопытствующая Дама, как думал племянник-биограф[343 - «Дама средних лет, любопытная ко всему человеческому» (с. 640) и принадлежащая к «сливкам общества», скорее всего олицетворяет в «Трех разговорах» публику – того рода публику, которая когда-то собиралась в Соляном городке слушать соловьевские «Чтения о Богочеловечестве». Однако в 1900 г. в Петербургской думе Соловьев оказался перед лицом публики совсем иного состава и настроения.]) – вот кто шут в среде собеседников, шут в высоком смысле этого слова, человек без места и занятий, со странным не то светским, не то семинарско-академическим прошлым, друг юродивых и прозорливцев. Шут, – а точнее, парадоксалист. Своими замечаниями он не столько руководит собеседником, сколько ставит его внезапно в тупик, схлопывает его рассуждение, показывая, что оно не объемное, а плоское. Больше того, парадоксалистами оказываются в той или иной мере и другие участники диалогов, не чуждые автору: боевой Генерал, аттестующий свое христолюбивое (без кавычек) воинство как сущих разбойников, и даже Политик, негаданно ставящий вежливость выше десяти заповедей[344 - Хотя в предисловии Соловьев декларирует свое равное отношение к этим двум собеседникам: «…мог с одинаковым беспристрастием передавать противоположные суждения и заявления политика и генерала» (с. 640) – признавая за их точками зрения, «религиозно-бытовой» и «культурно-прогрессивной», «относительную правду», но в самом тексте очевидны его откровенное сочувствие генералу и ирония в адрес политика. Тут сказалась и его трогательно-наивная любовь к недоступной ему военной профессии. При чтении в кругу родных разговора о войне он «речи генерала произносил с пафосом. <…> Речи “политика” Соловьев произносил искусственным голосом старого бюрократического фата, подражая министру Горемыкину» (Соловьев С.М. Указ. соч. С. 351). 19 1]; лишен этих движений ума лишь «отпетый тип» (с. 639), Князь, чей рассудок всегда следует по спрямленной колее, не выкидывая ни одного коленца. Этот парадоксализм, свойственный великим христианским апологетам Нового времени (обращавшимся к светской публике), А.К. Толстому, Достоевскому, Соловьеву, Г.К. Честертону, – имеет корни в парадоксализме и антиномизме евангельском и отличен от, так сказать, методик античной мудрости: «эллинам безумие…».
Можно утверждать, что, описав жизненную драму Платона, Соловьев следующим шагом противопоставляет его Государству свой взгляд на этот круг тем, а, воспользовавшись Платоновым приемом – сменой диалога вставным монологическим рассказом-легендой, – Платонову этиологическому мифу в «Тимее» сополагает эсхатологический миф «Краткой повести…».
Но нельзя пройти мимо еще одной, косвенной ссылки на Платона в разбираемом сочинении. Диавол обращается к будущему антихристу с посвятительной формулой: «Как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе» (с. 743). Напомню, что «рождение в красоте» – платоническая философема, вдохновлявшая соловьевскую теорию эроса. Теперь она (с авторским выделением слова «красота») вложена в уста злого духа. Не берусь комментировать это поразительное обстоятельство[345 - Ни в коей мере не утверждаю, что Соловьев к концу жизни «отрекся» от Платона; хорошо известно, что с работой над переводами из него связаны последние годы и даже дни жизни Соловьева. Разумеется, именно Платон (а, скажем, не Аристотель, не Гегель) оставался для Соловьева – как и для всего русского свободного богомыслия – Философом. Но в годы работы над последним сочинением произошло, на мой взгляд, некое «атмосферическое» смещение мыслительного стиля Соловьева от Платона к новозаветным образцам.]. Единственно, оно наводит на мысль, что перелом, приведший к «Трем разговорам», имел поводы не исключительно идейные, связанные с крахом «внешних замыслов». В самом деле, в авторском предисловии Соловьев говорит об «особой перемене в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться» (с. 636). Я бы посмела предположить интимное и впрямую не зависящее от внешних фактов вступление души философа в область покаяния.
Дело в том, что об образе своего антихриста Соловьев мог бы сказать словами Достоевского о Ставрогине: «Я из сердца взял его», – и эта аналогия будет точной, потому что и там, и здесь речь идет о выявленном саморефлексией уклонении сердца, а не о деянии воли[346 - Едва решившись на это сравнение, я наткнулась в книге биографа-племянника на место, ассоциирующее молодого Соловьева со Ставрогиным: «В Москве уже тогда (в 1872 и 1873 гг. – И.Р.) Соловьева начали окружать “странные люди”, мистики <…> видевшие в молодом философе существо “сверхчеловеческое”. ”Неужели они думают, – говорил как-то Владимир Сергеевич моему отцу, – что у меня не хватило бы пороху основать секту?” <…> В общем, это окружение странными энтузиастами напоминает окружение Николая Ставрогина в романе Достоевского “Бесы” и не один Шатов мог бы с горечью воскликнуть: “Много вы значили в моей жизни, Владимир Сергеевич!”» (Соловьев С.М. Указ. соч. С. 54).]. Давно замечено, что универсалистское сочинение «грядущего человека» (с.745) – антихриста – несет печать автопародии. Но суть не только в ревизии идей. Тот, кто припомнит окрыленные разговоры юного Соловьева с Катей Поливановой[347 - См.: Лукьянов С.М. Указ. соч. Т. 2. Кн. 3. С. 55.], кто заглядывал в его мистико-теософский трактат «La Sophie», не сможет уйти от мысли: были у Соловьева моменты, когда он в глубине души считал Христа Альфой, а себя – Омегой, Христа – Первым, а себя – последним, завершителем Христова дела. Это именно тот пункт, с которого начинает свое падение во глубины адовы гениальный апостат в «Краткой повести об антихристе»[348 - Ведя в упомянутом трактате (1876) диалог с Sophie, Философ с настойчивой тревогой спрашивает, является ли та вселенская религия, откровение коей ему вручено разработать и проповедать, – является ли она христианством. И получает ответ, уклончивое лукавство которого нудит подставить на место собеседницы другого персонажа: «Разве я не освободила тебя от власти громких фраз?» (Соловьев В.С. Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. Т. 2. М., 2000. С. 75).]. «Вечный завет», о коем говорит Философ (персонаж диалога) в этом трактате, должен был стать усовершением и завершением Нового Завета[349 - Там же. С. 177.].
Любовь ко Христу удержала Соловьева на душеопасной грани – и удерживала всю жизнь. Не соглашусь поэтому с мнением (в частности моего покойного коллеги, замечательного исследователя наследия Соловьева, А.А. Носова), что христианская проповедь, эту жизнь сопровождавшая, была лишь внешним одеянием «вселенской религии», камуфляжем, вынуждаемым строгостями духовной цензуры. Но темная точка в душе оставалась и время от времени давала о себе знать заносчивыми утопическими протуберанцами. В «Трех разговорах», принося личную жертву Христу, Соловьев отсекает эту часть своей души. Он раскрывает глаголанную апостолом Павлом «тайну беззакония» (2 Фес. 2:7) со стороны экзистенциальной психологии «человека греха» (2 Фес. 2:3), изнутри духовных искушений «горделивого праведника» (с. 742) – и дает художественный пассаж, сопоставимый по выразительности с Поэмой о великом инквизиторе. Как всегда бывает после акта очищения, грех, уходящий из души, овнешняется и предстает как сторонний факт. Таково было явление ему Анны Шмидт с седьмым членом ее кредо, где Соловьев объявлялся вторым воплощением Логоса[350 - «…вторично воплотившегося на земле в 1853 г. человеческим естеством, божеское же естество вторично принявшего в 1876 г. при видении Церкви в Египте, и скоро грядущего судить живых и мертвых, Его же царствию не будет конца» (цит. по: Соловьев С.М. Указ соч. С. 374).].
Можно констатировать, что «Три разговора» совмещают в себе черты историософского трактата, приуроченного к злобе дня, антиутопии с профетическим финалом и покаянной исповеди, объективированной художественным вымыслом. И все это – при удивительном искусстве переходов от ракурса к ракурсу, от стиля к стилю, от общих планов к средним и крупным, сохраняя заявленную раму «случайного светского разговора» (с. 636).
Аналитики находили внутри этой рамы резкие нестыковки. И Г.П. Федотов, и Е.Н. Трубецкой спрашивали, почему в диалогах такое большое, а в предисловии – даже преобладающее внимание уделено разоблачению толстовской проповеди, между тем как антигерой «Краткой повести…», сверхчеловек с ницшеанским гибрисом, властелин, тиран и насильник, вовсе не похож на анархиста-непротивленца графа. Если Трубецкой все-таки считал, что неувязка здесь мнимая, ибо обе персоны объединяет подделка христианства, христианство без Христа, то Федотов в алогичном будто бы преувеличении роли толстовства видел старозаветную недальновидность Соловьева, не дожившего до чудовищ ХХ века.
Между тем диалоги соединяет со вставной повестью ряд сквозных линий. Даже детали резонируют: так, сообщение повести о том, что в последние времена произошло объединение твердых православных с лучшей частью староверов, предварено рассказом генерала о начетчике-старообрядце, отпевшем убиенных солдат. Но что, безусловно, пронизывает весь массив текста, включая повесть, так это вопрос о государстве.
По преобладающему мнению, когда Соловьев говорит в предисловии о своем существенном следовании «Слову Божию» и «древнейшему преданию» (с. 641), он имеет в виду в первую очередь Откровение Иоанна Богослова. На деле не совсем так. Данные Иоаннова Откровения стали у Соловьева объектом свободной импровизации, а там, где он желает построже воспроизвести церковные представления об этом таинственном предмете, он обращается, наряду с толкованиями Отцов Церкви, к евангельскому так называемому «малому Апокалипсису» (Мф. 24; Мр. 13)), к 1-му Посланию ап. Иоанна (оно Соловьевым цитируется) и 2-му Посланию ап. Павла фессалоникийцам. Знаменитый текст из его 2-й главы гласит: «…день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога <…>. И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, – и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет дыханием уст своих и истребит явлением пришествия своего…» (ст. 3-8).
Вокруг «удерживающего теперь» шла и идет напряженная богословская пря. Два главных толкования таковы: либо это внешняя власть, имперская или какая-то еще, либо благодатная власть Св. Духа, которая за грехи будет отъята от человеческого общежития. Соловьев скорее склонялся к первому. Он был среди тех, кто «под удерживающим как силою, препятствующей явлению антихриста, разумеют политическое или государственное устройство общества, основанное на законах, порядок и строй политической, государственной и общественной жизни». Формулировка, приведенная в цитате, заимствована из труда «О безбожии и антихристе», принадлежащего профессору Московской духовной академии А.Д. Беляеву, изданного как раз в 1898 году и вряд ли прошедшего мимо внимания Соловьева[351 - Беляев А.Д. О безбожии и антихристе. Ч. 2. Сергиев Посад, 1898. С. 995. Кстати, профессор считает такой взгляд скорее заимствованным из протестантской теологии его века, сам же склоняется ко второму из названных.]. (Вообще, в ознаменование конца века, богословской и церковно-исторической литературы на тему вышло предостаточно[352 - Например, Виноградов Н. О конечных судьбах мира и человека. Критико-экзегетическое и догматическое исследование. М., 1887. 2-е изд. М., 1889; Оберлен К.А. Пророк Даниил и Апокалипсис св. Иоанна. Пер. с нем. Тула, 1882; Bousset W. Der Antichrist in der ?berlieferung des Judenthums des neuen Testaments und der alten Kirche. Ein Beitrag zur Auslegung der Apokalyps. G?ttingen, 1895. Книга Вильгельма Буссе (1860—1920), хорошо извесная проф. Беляеву (не исключено, что и Соловьеву), впоследствии была широко использована в труде С.Н. Булгакова «Апокалиптика и социализм» (1910—1911), почтительно отмечена и в вышеупомянутой полемической статье Г.П. Федотова.], но публика, хлопавшая глазами на лекции Соловьева, была отделена от этой субкультуры китайской стеной.)
Так вот, все тематическое развертывание трех диалогов и затем вводный очерк повести об антихристе – это не последним образом рассказ о том, как «удерживающий», или «удерживающее», или «держай» (каким бы переводом ни воспользоваться) – изымается из среды общежития. Ведь яростная атака на Толстого, триумфально завершающаяся опровержением его лже-евангелия: «Воскресение – вот документ истинного Бога» (с. 733), – начинается именно с критики его антиэтатизма и анархизма. Критики, пускающей в ход не только логику, но и эмоциональную патетику (рассказ генерала об истязаниях, учиненных над армянами, и справедливой кары за них). Соловьев увидел в Толстом зеркало русской революции задолго до Ленина, как зеркало еще одной революции он углядел в Ницше[353 - Из воспоминаний Андрея Белого: «Он говорил, что идеи Ницше – это единственное, с чем надо теперь считаться как с глубокой опасностью, грозящей религиозной культуре». Разговор происходил у брата Соловьева Михаила Сергеевича как раз перед чтением повести об антихристе (цит. по: Книга о Владимире Соловьеве, М., 1991. С. 282). На этом фоне (наряду с многими другими фактами) выглядит весьма неосновательным утверждение Федотова, что Ницше «не замечен» Соловьевым (Федотов Г.П. Лицо России. С. 40—41).].
В статье Соловьева «Византизм и Россия» (1896) Трубецкой находит «торжественное исповедание идеала неограниченной монархии»[354 - Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 2. С. 17.] – это и год приступа к теме антихриста. Но дело не собственно в монархии. Устойчивое государство с его неотъемлемым атрибутом – армией, имеющей, как и оно само, религиозную или по крайней мере идеальную санкцию, – вот что с сердечной страстью защищает Генерал в «Разговоре первом». Этот тип прошлого государства обречен пасть под ударами «панмонгольского» нашествия, свидетельствует повесть. На смену ему приходят государства либерально-секулярного типа, признающие в армии атавистическую необходимость, улаживающие противоречия средствами дипломатической вежливости и тяготеющие к слиянию. Тут – идеал Политика из «Разговора второго»: власть в роли лишенного харизмы наемного «ночного сторожа», как сказали бы сегодня. Это – в повести – этап «европейских соединенных штатов», когда государственность уже не обладает внутренней верой в себя, «удерживающий» слабеет и под конец мирно самоупраздняется, уступая дорогу антихристову вселенскому империализму. Трубецкой комментирует сие следующим образом: «В том будущем, которое провидят Z и отец Пансофий, государство перестает служить добру и окончательно становится орудием зла»[355 - Там же. С. 28.]. Комментарий неточен, ибо сделан до исторического опыта тоталитаризма. Царство антихриста уже не есть государство, то есть правовой страж человеческого общежития. Оно имеет целью власть над личностью и совестью человека в масштабах, немыслимых ни при каком авторитаризме и византизме. «Царствование, или, вернее, тирания», – многозначительно уточняет св. Иоанн Дамаскин[356 - Цит. по: Федотов Г.П. Лицо России. С. 36.] вид правления антихриста. Тирания – своего рода упразднение государства как власти, как бы ни устроенной, но идущей от Бога; это нелегитимность и, соответственно, аномия (по-русски объединенные одним понятием: «беззаконие).
В тотальной антихристовой империи – предельном концентрате зла – находит свой финал внешняя история человечества. Но в этой империи сохраняется очаг инакомыслия: это оставшиеся верными христиане, агенты интраистории, дающей всей трагедии человечества смысл и исход. К их судьбе как к своей кульминации устремляется соловьевский текст.
Г. Федотов, желая «деканонизировать» повесть об антихристе как опус, понапрасну принимаемый за пророческий и на пророчества не опирающийся, отметил отступления Соловьева от церковного предания. Отметил не все, но мы должны быть благодарны ему за постановку вопроса, поскольку центральная «весть» сочинения связана с этими отступлениями не в меньшей мере, чем с его «традиционностью». Два «свидетеля», умерщвленные зверем-антихристом, в Откровении Иоанна не поименованы, но церковная традиция предлагает видеть в них воскресших для новой проповеди ветхозаветных пророков. Чаще всего в одном из них признают Илию[357 - Об Илии-пророке в Четьих Минеях говорится: «Избежав прежде от меча Иезавелина, постраждет в то время от меча антихристова, и не токмо яко пророк, но яко мученик большия славы сподобится от праведного мздовоздаятеля Бога» (цит. по: Беляев А.Д. О безбожии и антихристе. Ч. 1. С. 340).]. Отвращение народа еврейского от антихриста и обращение ко Христу традиция связывала именно с проповедью этих пророков. У Соловьева «свидетелями» выступают предстоятели Восточной и Западной Церквей Иоанн и Петр, а евреи, в обращение которых Соловьев горячо веровал, восстают на антихриста, проведав, что он не обрезан: остроумный выход из затруднения, которое Соловьев сам создал своим сценарием.
Наконец, и это принципиально, антихрист у Соловьева сбрасывает маску и приступает к человекоубийству только после того, как он публично уличен в своей ненависти к Спасителю мира и изобличен как лжемессия еврейством. Согласно церковным экзегетам он действительно должен носить христоподобную маску добродетели и святости до прихода к власти, но, достигнув могущества, он не может не обнаружить всю безбожность и бесчеловечность своей тирании. Между тем царство антихриста выглядит в повести Соловьева, повторю, как некое мирное и сонное царство мнимого благополучия и загипнотизированности народных масс, чей голод и праздное любопытство прочно удовлетворены. Анафематствование антихриста ведет к пробуждению от чар и становится кличем к последнему бою. Это то главное деяние человеческой воли в богочеловеческой синергии, без которого действие воли Божественной – поглощение антихристова войска огненным озером – осталось бы, по Соловьеву, событием чисто внешним, стало быть, недостаточным для подлинной победы Добра над Злом.
Как видим, Соловьев сгруппировал традиционные элементы церковной апокалиптики по-своему – так, чтобы они, втянутые в новую художественную логику, окружали площадку, расчищенную для центрального события не только «Краткой повести…», но и всего сочинения, – события соединения Церквей. «Так совершилось соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном месте» (с. 759) – в мистериальном пространстве интраистории, – сопровождаемое и утверждаемое видением облеченной в солнце Жены, то есть ноуменального человечества в его лично-собирательной сущности, «простейшее имя» которого «по-христиански есть Церковь», как написал философ в «Идее человечества у Августа Конта»[358 - Соловьев В.С. Соч. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 581.].
В этом месте автор искусно прерывает чтение г-ном Z рукописи Пансофия, чтобы стало ясно, что точка, а верней – восклицательный знак, поставлены именно здесь, а дальнейший беглый пересказ апокалиптических событий имеет функцию не более чем эпилога. Притом специально подчеркнуто, что повесть «имеет предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку нашего исторического процесса» (с. 761). Иначе говоря, Соловьев совершенно отказался от превосходного повода начертать преображение космоса в красоте, от темы «нового неба и новой земли», которая руководила его мистико-эволюционной космологией и его эстетикой на протяжении целой жизни. Может быть, это самоограничение – наибольшая жертва в его последней творческой акции.
Что касается самого акта соединения церквей, как он здесь изображен, дополню многократно откомментированное несколькими чертами. Принято утверждать, что Соловьев отказался от мечты о преодолении церковной схизмы в ходе человеческой истории и вынес в воображении своем это событие за пределы исторического времени. Тут вкралась аберрация. Последний вселенский собор, где истинное соединение совершается, – это смысл и зрелый плод истории человечества, ее телос и результат. Он принадлежит времени и вместе с тем являет исход из прежнего течения времени. Первое пришествие Христово и основание Его Церкви по церковному учению понимается уже как начало последних времен. И вот в эти «последние времена» история, по Соловьеву, как бы описывает концентрические круги все большего радиуса, захватывая в свои пределы весь земной шар, чтобы конец последних времен расширенным образом совпал с их началом. Апостол Петр, Симон сын Ионин, возрождается в лице Петра II, Симоне Барионини[359 - Чтобы сходство «Петра II» с евангельским предшественником-прототипом было как можно более полным, Соловьев награждает его грубовато-простонародной внешностью и простонародным происхождением «из Неаполитанской области», т.е. приморья, что, конечно, заставляет вспомнить рыбака-галилеянина Петра.], а апостол Иоанн, по преданию предположительно не вкусивший смерти, объявляется среди верных вторично.
В изображении предстоятелей Церквей Соловьев, несомненно, продумывал каждую деталь, действительно стремясь выразить свой окончательный взгляд. Знаменательно подчеркивается их иерархическое равенство: Иоанн – не просто старец, а «епископ на покое» (с. 750), ну а Петр, в прошлом «архиепископ могилевский» (там же; знак сочувствия автора униатам?), ставший папой, – тем не менее тот же епископ: Церковь знает лишь три степени священства. И первый, обнимая второго, называет его братом. Профессор же Паули, этот добросовестный наследник пауликианской теологии, окликает обоих «батюшки» (V?terchen), не претендуя на церковный сан.
Биографические данные Иоанна намечены с удивительным художественно-символическим тактом. Автор понуждает нас с равной вероятностью предполагать и то, что это не увидевший смерти патмосский отшельник, и то, что это русский наставник святости. Его неведомое прошлое и непрерывное странничество можно равно принимать за черты мистического жития и за свойства именно русского благочестия. Обращение «детушки» – столь же коренным образом евангельское, сколько русифицированное. И лишь словечко «напоследях» вносит в его облик и речи народно-русскую черту. Короче, Соловьев рисует православного вождя, который может оказаться русским человеком. Те, кто с умилением переводят эту возможность в действительность, упрощают соловьевский рисунок[360 - Е.Н. Трубецкой хотя и восхищается тем, «как естественно просто и гармонично сочетается мистический образ апостола Иоанна с живой, ярко народной фигурой русского старца Иоанна», но тут же торопится воскликнуть: «В этом старце Россия находит свой подлинный огненный язык» (Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 2. С. 312). Н.А. Бердяев еще категоричнее полагает, что через образ старца Иоанна « в новом, апокалипсическом сознании осмысливается Соловьевым русский мессианизм» (Бердяев Н.А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева // Книга о Владимире Соловьеве. С. 371). Относить Православие к сфере национально-русского бытия – кто этим не грешил?].
Не могу не присоединиться к тому, что уже сказано соловьевскими толкователями. Иоанн воплощает всю полноту духовного ясновидения, сохраненную церковным Востоком. Он опознает антихриста. Петру дана власть ключей: он антихриста анафематствует. Паули, евангелически преданный писанному слову, закрепляет проклятие письменным вердиктом. Иоанн – дивная белая свеча духа, рассеивающая обман, Петр – энергическое пламя этой свечи, духовно сожигающее обманщика[361 - О. Сергий Булгаков, к тому времени уже давно вышедший из-под влияния Соловьева и «изменивший» ему с о. Павлом Флоренским, в своем труде «Св. Петр и Иоанн, два первоапостола» (1923), в богословском отношении достаточно дерзком, не мог не воодушевиться импульсом, исходящим от этих страниц повести об антихристе. Преемственность идей косвенно обнаруживается в одном из авторских примечаний: «Даже и Вл Соловьев в “Повести об антихристе” первое опознание и обличение антихриста влагает в уста старца Иоанна, вождя восточного христианства, в котором он, очевидно, сам видит апостола Иоанна. Художественная форма затрудняет здесь точное уразумение богословских идей Вл. Соловьева, но мы не умеем иначе его понять, как в духе учения о двух перво-апостолах, двойном примате вселенского христианства» (Paris, 1936. С. 86—87). Слово «даже», с которого начинается этот пассаж, свидетельствует о заведомо подозрительном отношении к Соловьеву как к прокатолическому автору.]. Соловьев так и читал в кругу семьи это средоточное патетическое место – читал, приподымаясь из кресла вместе с прозорливцем Иоанном и яростно выкрикивая троекратную анафему вместе с Петром[362 - См.: Соловьев С.М. Указ. соч. С. 370. Ср. в воспоминаниях Андрея Белого (Книга о Владимире Соловьеве. С. 282).].
Добавлю, что Соловьев в своей повести счел нужным указать календарную дату открытия псевдособора – 14 сентября. По юлианскому календарю, от которого Соловьев, вероятно, здесь не отступил, – это праздник Крестовоздвижения. День, избранный богоотступником, надо думать, со злобной иронией, становится днем его духовного низвержения силою хоругви, незримо воздвигнутой посреди «мерзости запустения», – силою Честнаго и Животворящего Креста.
Еще добавлю, что Соловьев испустил дух в час начала другого церковного праздника – Происхождения древ Честнаго и Животворящего Креста Господня, в народе именуемого первым Спасом.
Р. Гальцева
Николай Бердяев
Вступительный портрет[363 - Литературная газета. 1989. 2 августа.]
Bрусской культуре существует что-то вроде литературно-философской эстафеты, а, быть может, и шире – эстафеты искусства и философии. Они не текут здесь по отдельным рукавам, но, объединившись, переливаются, на крутых поворотах, из одного русла в другое, перенося набранную мощь из художественного созерцания в область философского рассуждения и наоборот. Об изначальной сращенности умозрения с искусством в отечественной культурной традиции напоминает нам замечательный мыслитель Е.Н. Трубецкой: «Отдаленные наши предки мысли свои» о прекрасном прообразе вселенной и о высшем смысле жизни «передавали не в словах, а в красках» икон и в храмовых архитектурных формах; и та же вдохновенная настроенность народной души «впоследствии явилась миру и в классических произведениях русской литературы». Русская классика родилась в результате сшибки традиционной культуры с западной цивилизацией, когда, по летучей формуле А.И. Герцена, «на вызов Петра Россия ответила явлением Пушкина». Вобрав в себя, частично преоборов и по-своему переплавив плоды обмирщенной европейской образованности, национальный гений России расцвел, открыв «золотой век» русской литературы. Затем настал черед ей, «святой русской литературе» (как назвал ее Т. Манн), питать отечественную философскую мысль, которая подвела ей итоги и явилась творческим преодолением очередного искуса со стороны нигилистического «духа времени» – родился русский религиозно-культурный ренессанс конца XIX – начала ХХ века. Правда, в нем была огромная доля, принадлежащая чистой словесности, потому время это зовется также литературным Серебряным веком.
Но Серебряный век русской литературы – по ее наклону к моральной двусмысленности и дионисийскому заигрыванию с без днами – не дотягивал до нравственной высоты современного ему «золотого века» русской философии, потому, вероятно, и влекущего к себе сегодня умы больше и прежде всего. Надо, конечно, признать, что в «перестроечном» философском буме действует и фактор внезапного разрешения «запретного плода», срывания печатей с сундуков и незамедлительной отправки прежде опечатанного в печать, – чего не скажешь все же о давно и постепенно просачивающейся в нее поэзии и прозы Серебряного века. С другой стороны, не будем представлять дело так, что, распечатывая творчество русских мыслителей, мы рождаем их на свет. Если все это время от периодических философских изданий нельзя было добиться правдивого слова об этих узниках, то это не значит, что в нашей стране не существовало, пусть неширокой, но непрерывающейся в течение десятилетий струи, неискаженно отражающей их облик. Загляните в 5 (да и в 4-ый) том «Философской энциклопедии», в «Краткую литературную энциклопедию», перелистайте некоторые номера «Вопросов литературы» прошлых лет, а также и несколько малотиражных сборников… Но вернемся к существу дела.
У истоков «золотого века» русской философии стоял Владимир Соловьев, так же как у истоков «золотого века» русской литературы – Пушкин. Сравнение двух зачинателей по их месту в отечественной культуре приходило на ум и раньше. Но можно добавить: и тот, и другой оказался не только истоком, но и вершиной порожденного им движения. Обоим был присущ тот универсализм духа, которому доступен прекрасный прообраз мира как всеединства: отдельные начала – разум и воля, личное и всечеловеческое, истина и свобода – находят тут свое место, гармонически восполняя друг друга; эту же панораму открывала их собственная душа. Меж тем можно заметить, как среди блестящей плеяды идущих вслед и Пушкину, и Соловьеву универсализм сменяется не только определенной «специализацией», но и упором на одном начале, извлеченном из равновесия с противоположным.
Именно таковым наследником оказался Н.А. Бердяев, родственный Соловьеву в его рыцарственной защите христианского гуманизма. Но есть и существенные различия. Если Соловьев, обеспокоенный тем, что интеллектуальное просвещение разошлось с верой в безусловные основы бытия, ставит своей задачей ввести истину христианства «в новую соответствующую ему, т.е. разумную <…> форму», охватив ею тем самым всю человеческую жизнь, то следующий за ним Бердяев стремится ввести в сознание идею примата человеческой свободы перед всем остальным, видя в ней самодовлеющую истину. Контраст в подходах вовсе не значит, что у Соловьева свобода была какой-то золушкой, – напротив, теоретическому и практическому отстаиванию свободы совести и вообще индивидуальной свободы он пожертвовал часть своей жизни. Однако в мысли Соловьева свобода занимает место, которое положено ей в большом и богатом хозяйстве всеединого целого, и выходит на сцену тогда, когда оказывается, что без признания личной независимости гибнет и сама истина, поскольку свобода входит неотъемлемой частью в ее состав. Бердяев же, настаивая на безграничных прерогативах человеческой личности, по сути нарушает соловьевский баланс между личной свободой и истиной.
Формально баланс этот у Бердяева сохранялся в самой его позиции христианского экзистенциалиста, заключающей в себе фундаментальную двойственность: между утверждением сверхличной нравственной истины и, пафосом ничем не ограниченной, «шипучей» игры человеческих сил, между признанием божественного всемогущества и ограничением его со стороны «ничто», или Ungrund, между христианским «мир во зле лежит» и его надо спасать и романтически-гностическим «мир есть зло» и его надо упразднить, между призывом хранить «благородную верность» высоким ценностям культуры и жаждой революционистской расправы с воплощенными формами мирового бытия. Однако ясно, что равновесие подобных антитез лишь видимое, и заветная идея Бердяева о не знающем границ, «дерзновенном» творчестве, к которому призван человек, не может не нарушать кажущуюся гармонию, не оставляя места для истины. Ведь бердяевский апофеоз творчества требует разрыва творческого акта с внеположными творцу смысловыми абсолютами. «Творческий акт, – заявляет мыслитель, – есть самооткровение, не знающее над собой внешнего суда», «гений не заинтересован в спасении», а сам спасает своей гениальностью от гибели весь мир. Объявленная Бердяевым теургическая задача, то есть содействие человека божественному творению, находится, таким образом, в русле идей Вл. Соловьева и шире – в русле вообще всей русской культуры, чувствующей себя ответственной за состояние мира. Однако в философии творчества задание это приобретает апокалиптические черты. Программ-но выраженная в «покорительно талантливой», но «опрометчиво своевольной», по характеристике Вяч. Иванова, книге «Смысл творчества» (1916), захватывающей с первых же строк: «Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю “миром”, мировой данностью, необходимостью», – она объявляет о титаническом прорыве к созиданию «нового бытия», свободного от земных законов «тяжести и рабства» у необходимости, и тем самым превращает освобождение мира в освобождение от мира, в результате сводя творческий акт к переживанию экстаза и парения нестесненного духа (судьбе утопического замысла Бердяева о сверхкультурном творчестве посвящен мой обзор «Sub specie ?nis» – под знаком конца, – помещенный в настоящей книге).
Односторонний акцент бердяевской мысли, выявившийся уже в первые годы столетия, мог бы показаться (и поначалу многим казался) просто модернистской причудой, если бы не ближайшие исторические события, положившие конец довоенным допотопным временам. Как экзистенциальный мыслитель, впрочем, как и вся «философия существования», сейсмографически регистрирующая глубинные сдвиги в человеческой судьбе, Бердяев своим отчаянным будированием метафизических прав и абсолютной автономии личности готовил ее к абсолютной стойкости, как бы предчувствуя с самого начала, что вскоре ей предстоит небывалое испытание – встреча с невиданным врагом. И действительно, этому новому врагу, тоталитаризму, нацеленному на тотальный захват и поглощение самих недр человеческой души, не сможет противостоять тот, кто не постигнет всем своим существом не только евангельское: что душа дороже всего мира, но и, как не без вызова формулирует философ, что «весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой». Тот избыточный упор, который делает Бердяев на угрозе, исходящей для личности буквально от всех вещей (среди прочего он говорит о «рабстве у Бога» и «у самой себя»), раскрывается перед лицом нового порабощения как подготовка к ее самостоянию. Он чувствует, что идет сдача человеческого духа. «Человек как будто устал от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, которая устроит его жизнь внутренне и внешне», – со скорбью подытоживает он свои давние раздумья, обозревая «духовное состояние современного мира» в докладе 1931 года. Закалку личности в свободе экзистенциальный мыслитель демонстрировал в своем творческом и жизненном стиле, явившись в мир как принципиальный оппонент и оппозиционер.
Свою правду он лучше всего выяснял в отталкиваниях от чужого заблуждения («мысль моя зреет в полемике», – подчеркивал он), свое политическое местонахождение определял прежде всего через отказ присоединяться к окружению. «Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил <…> Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком», – вспоминает Бердяев в философской автобиографии «Самопознание» (1949). При всем том человеческая свобода, будучи центром притяжения его мысли, не является единственной ее сферой, – иначе Бердяев оказался бы философом в духе Льва Шестова, любопытным, интересным, но вовсе не столь существенным и влиятельным мыслителем, каким на самом деле он был.
В интеллектуальных кругах и идеологических сферах – по ту и по эту сторону границы – имя Н.А. Бердяева всегда занимало стабильное место среди наиболее упоминаемых имен мыслитлей XX столетия.
Бердяев родился в 1874 году в Киеве в семье, принадлежавшей к «старой военно-монашеской России» Юго-западного края. По линии отца, кавалергардского офицера, предводителя дворянства и почетного мирового судьи, предки его – генералы и георгиевские кавалеры (о которых сообщает Брокгауз в т. 6); дед, М.Н. Бердяев, – атаман войска Донского, защитник казачьих вольностей, герой Отечественной войны; прадед, генерал-аншеф Н.М. Бердяев, – новороссийский военный губернатор (его переписка с Павлом I публиковалась в «Русской старине»). По материнской линии – члены княжеских и графских домов: Кудашевых, де Шуазель, Потоцких, Баратовых, Красинских, Браницких, Лопухиных-Демидовых, Мусиных-Пушкиных. Атмосфера в семье, где доминировал французский язык, а воспитательницей служила бывшая крепостная, была смешанной: культ военной героики сочетался с духом старинной православной истовости, а также с идущими от матери западническо-католическими, а от деда отца – еще и либеральными веяниями. Но выходец из аристократической семьи военных, ученик кадетского корпуса, Бердяев не любил военного сословия и уже в пятнадцать лет внутренне порвал с высшим светом. Воинственность предков он целиком перенес на поле борьбы идей, аристократизм же сохранил в области вкусов. Увлечение марксизмом, который импонировал Бердяеву-студенту глобальным размахом, обещающим радикальные перемены, участие в революционных демонстрациях вынудили его оставить Киевский университет и отбыть ссылку, после чего он погрузился в идейную публицистическую борьбу, а затем и в философские писания. Бердяев проделал банальный для российских интеллектуалов первого десятилетия путь – «от марксизма к идеализму», а от него к «новому религиозному сознанию» («Новое религиозное сознание и общественность», 1907), прилагающему христианство к общественным вопросам таким образом, что решения их в виде «свободной теократии» направлены и против старого мира с его религиозным традиционализмом, и против атеистической «социал-демократической лжерелигии», опору в борьбе с которой Бердяев находил у Достоевского в Поэме о великом инквизиторе. Пересмотр марксистского мировоззрения сопровождался у неустанного искателя истины критикой, прежде всего в сб. «Вехи» (1909), по адресу радикальной, социалистической интеллигенции за измену «метафизическому духу» великих русских писателей и за подчинение личности общественно-утилитарным целям. В 1910-х годах произошло окончательное творческое самоопределение – «новое религиозное сознание» Бердяева как бы расщепилось надвое: основная философская интуиция вылилась в метафизику свободы, в духе Я. Бёме и немецких мистиков («Философия свободы», 1911, а затем «Философия свободного духа», 1927, «О рабстве и свободе человека», 1939 и др.); его социальное реформаторство на религиозной почве переплавилось как раз в мистическую утопию творчества. Позже, живя за границей, философ вернул себе и социалистический идеал своей молодости, только уже в версии «персоналистического социализма», который, по сути, представлял собой лишенный правовых гарантий корпоративный строй. Из-за расхождений с господствующей советской идеологией Бердяев вместе с большой группой культурных деятелей был выслан в 1922 году из России; он попал сначала в Берлин, а с 1924 года жил в Париже до самой смерти в 1948 году.
На Западе Бердяев оказался наиболее известным из русских мыслителей, будучи воспринят одновременно как живое олицетворение русского духовного мира и как блестящий провозвестник увлекающего в XX веке умы трагического настроения. Его называли «русским Гегелем XX века», «одним из величайших философов и пророков нашего времени», «одним из универсальных людей нашей эпохи», «великим мыслителем, чей труд явился связующим звеном между Востоком и Западом, между христианами разных исповеданий, между христианами и нехристианами, между нациями, между прошлым и будущим, между философией и теологией и между видимым и невидимым».
Он вывез из России и новый опыт, и вместе с тем старые духовные ориентиры. Обозревая свое прошлое, Бердяев пишет: «Я принес эсхатологическое чувство судеб истории», «мысли, рожденные в катастрофе русской революции, о конечности и запретительности русского коммунизма, поставившего проблему, не решенную христианством», «сознание кризиса исторического христианства», «сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего»; «принес также русскую критику рационализма, изначальную русскую экзистенциальность мышления <…> Я принес с собой также своеобразный русский анархизм на религиозной почве, отрицание религиозного смысла принципа власти и верховной ценности государства. Русским я считаю также понимание христианства как религии Богочеловечества».