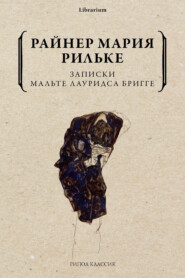скачать книгу бесплатно
que j’ai aimеs, ?mes de ceux que j’ai chantes, fortifiez-moi, soutenez-moi, еloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde; et vous, Seigneur mon Dieu! accordez-moi la gr?ce de produit quelques beaux vers qui me prouvent a moi-meme que je ne suis pas le dernier des hommes que je ne suis pas infеrieur ? ceux que je mеprise».[25 - Отрывок из «Стихотворений в прозе» Бодлера: «Наскуча всем, наскуча самим собой, я желал бы вновь обрести себя, вновь гордиться собой в тиши одиноких ночей. Души любимых мною, души воспетых мною, укрепите меня, даруйте силы, отдалите от меня ложь и едкий чад земли. А ты, о Господи Боже мой! Сподоби меня написать несколько счастливых стихов, которые бы мне доказали, что я не самый последний из людей, что я не хуже тех, кого презираю».]
«Люди отверженные, люди без имени, отребье земли! Их-то сделался я ныне песнью и пищею разговора их!
… они направляют гибельные свои пути ко мне…
… все успели сделать к моей погибели, не имея помощника.
… И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня.
Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя.
С великим трудом снимается с меня одежда моя; края хитона моего жмут меня…
Мои внутренности кипят и не перестают; встретили меня дни печали…
И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя – голосом плачевным»[26 - Библия. Книга Иова. 30:8 – 31.].
Доктор не понял меня. Ничего не понял. Да и трудно было рассказывать. Решили попробовать лечение электричеством. Что же. Дали мне талончик: к часу явиться в Salperiere[27 - Сальпетриер – клиника в Париже.]. Явился. Миновал длинный ряд бараков, прошел несколько дворов, где люди в белых колпаках, как преступники, стояли под опустелыми деревьями. Наконец я оказался в длинном темном помещении вроде коридора, где по одной стене четыре тусклых зеленоватых окна перемежались широкими черными простенками. Под окнами тянулась деревянная скамья, и на ней сидели мои знакомцы, и они ждали. Да, все они были в сборе. Освоившись с полумраком, я разглядел, что среди плотного бесконечного ряда попадался, кажется, иной люд, просто мелкий люд – ремесленники, горничные, ломовые извозчики. Дальше, в узком конце коридора, развалясь на отдельных стульях, беседовали две толстухи, вероятно консьержки. Я глянул на часы: без пяти час. Еще пять, ну, десять минут, и меня вызовут. Что ж, ничего, ничего. Тяжкий, гнилой дух дыханья мешался с запахом старого платья. В одном месте из дверной щели рвался крепчающий холод эфира. Я принялся ходить взад-вперед. Вдруг я сообразил, что ведь меня направили на этот общий прием. Так сказать, впервые официально признали мою принадлежность к отребью. Значит, доктор догадался? Но я к нему приходил в пристойном костюме, я ему посылал свою карточку. А он все равно как-то узнал, или я сам себя выдал. Но поставленный перед фактом, я решил, что, в сущности, дело не так уж скверно. Все сидели смирно и не замечали меня. Некоторые страдали от боли и, раскачиваясь, старались ее утишить. Кто-то из мужчин уткнулся лицом в ладони, другие тяжко спали, и у этих были тупые, застылые лица. Толстяк с красной, взбухшей шеей сидел подавшись вперед, уставясь в пол и время от времени смачно плевал в облюбованную точку. Хлюпал в углу ребенок; длинные тощие ноги он подобрал под себя на скамье и тискал, будто навеки с ними прощался. Щуплая, блеклая женщина с черными цветами на съехавшей набок черной креповой шляпке удерживала улыбку на бедных губах, а слезы капали с больных век. К ней подсадили девушку, круглолицую, гладкую, с выпученными глазами, лишенными выраженья; у нее был разинут рот, видны белые рыхлые десны и порченые старые зубы. И много было тут повязок. Повязки, слой за слоем окутывавшие голову, оставляя на виду лишь один, одинокий, уже ничей глаз. Были повязки, которые скрывали, и повязки, которые выпячивали то, что под ними. Бинты, которые развязались, и в них, как в грязной постели, лежала рука – уже не рука. А то забинтованная нога выпирала из ряда, огромная, как весь человек. Я ходил взад-вперед и пытался успокоиться. Я занялся стеною напротив. Разглядел, что в ней несколько одностворчатых дверей, что она не доходит до потолка и, стало быть, не совсем отделяет коридор от расположенных за нею комнат. Я глянул на часы: я уже час ходил взад-вперед. Потом явились доктора. Сперва прошмыгнули двое юнцов с безразличными минами, и наконец тот, к которому я обращался, – в светлых перчатках, щегольской шляпе, безупречном пальто. При виде меня он приподнял шляпу и улыбнулся рассеянно. Теперь-то, я решил, меня сразу вызовут, но прошел еще час. Уж и не помню, чем я его заполнил, – он прошел. Появился старик в грязном фартуке, похожий на сторожа, и тронул меня за плечо. Я шагнул в одну из одностворчатых дверей. Мой доктор и двое юнцов сидели за столом и смотрели на меня. Мне пододвинули стул. Так. А далее я должен был отчитываться в том, что со мной приключилось. Как можно короче, s’il vous plaot[28 - Пожалуйста (франц.).]. Господам некогда. Мне сделалось не по себе. Юнцы оглядывали меня с высокомерным профессиональным участием, которому их учат. Мой знакомый доктор поглаживал черную острую бородку и улыбался рассеянно. Я думал, я расплачусь, но, против ожидания, вдруг услышал, как говорю по-французски: «Я уже имел честь, мосье, рассказать вам все в подробностях. Если вам представляется необходимым в них посвятить своих коллег, вы, разумеется, можете это сделать в немногих словах на основании нашей беседы, мне же это было бы трудно». Доктор поднялся с вежливым смешком, отвел ассистентов к окну и сказал им несколько слов, которые сопровождал горизонтально-волнистым трепетаньем ладоней. Через три минуты один юнец, близорукий и нервный субъект, метнулся к столу и спросил, стараясь придать строгости своему взору:
– Хорошо ли вы спите?
– Нет, плохо.
После чего он снова устремился к группе у окна. Они еще некоторое время посовещались, потом доктор вернулся ко мне и уведомил, что меня вызовут снова. Я заметил ему, что мне назначено было явиться к часу дня. Он усмехнулся и проделал белыми пухлыми ладонями ряд быстрых скачущих жестов, призванных означать, что он выше головы занят. И я вернулся в коридор, теперь еще более затхлый, и принялся снова мерить его шагами, хотя смертельно устал. Наконец от влажных спутанных запахов меня стало мутить, я остановился у входной двери и чуть приоткрыл ее. Я увидел яркий день снаружи, высокое солнце, и мне невыразимо полегчало. Но тотчас меня окликнули. Особа, сидевшая за столиком в двух шагах, шипела на меня. Кто велел открывать дверь? Я отвечал, что задыхаюсь. Это уж мое дело, а дверь придется закрыть. Нельзя ли в таком случае отворить окно? Нет, это запрещается. Я решил возобновить свое хождение взад-вперед, оно отупляло меня, никому не причиняя вреда. Но особе за столиком теперь и это пришлось не по вкусу. Что у меня – места нету? Да, к сожалению. Ходить запрещается. Придется поискать место. Одно-то наверняка найдется. И она оказалась права. Место тотчас нашлось – подле девушки с выпученными глазами. И я сел, чувствуя, что сейчас неотвратимо стрясется нечто ужасное. Слева от меня, значит, была та девушка с гнилыми деснами. Что было справа, я понял только несколько позже. То была недвижная глыба, обладавшая лицом и тяжелой, застылой, громадной рукой. Обращенная ко мне сторона лица была пуста, лишена черт и воспоминаний, и, к моему ужасу, одежда на глыбе сидела как на обряженном покойнике. Так же свободно и безлично повязан был вокруг ворота галстук, и сюртук явственно напялен на безвольное тело кем-то другим. Рука, как ее выложили, так и лежала на брючине, и даже волосы, словно расчесанные обмывальщицей трупов, стлались туго и тускло, как шерсть на зверином чучеле. Я все это разглядел со вниманием, и мне пришло в голову, что мне недаром указано это место, ибо пора уж понять, что я достиг в своей жизни станции назначения. Да, странными путями бродит судьба.
Вдруг совсем близко несколько раз подряд испуганно, сдавленно вскрикнул ребенок, а потом тихонько, удерживаясь, зарыдал. Пока я силился определить, откуда идет звук, снова затрепетал слабенький задушенный крик, и я услышал спрашивающие голоса, приглушенный властный голос, и где-то, ни на что не обращая внимания, безразлично зашуршала машина. Тут я вспомнил о не доходящей до потолка перегородке и понял, что звуки идут из-за дверей и там ведется работа. В самом деле, время от времени появлялся служитель в грязном фартуке и делал знак. Я уж и надеяться перестал, что он может относиться ко мне. Хотя – не ко мне ли? Нет. Появились двое с каталкой. Погрузили в каталку глыбу, и тут только я разглядел, что это старик паралитик, обладавший и другой, опавшей, изношенной стороной лица с открытым, мутным, тоскливым глазом. Его увезли за дверь, рядом со мною сразу освободилось много места. И я стал гадать, что, интересно, станут они делать со слабоумной девушкой, будет ли она тоже кричать. Машина за стеной урчала мирно, уютно, как фабричный станок, не предвещая зла.
Но вдруг все замерло, и в этой тишине надменный, самодовольный голос, показавшийся мне знакомым, произнес:
– Riez![29 - Смейтесь! (франц.)]
Пауза.
– Riez. Mais riez, riez[30 - Смейтесь. Смейтесь, смейтесь же (франц.).].
Я уже хохотал. Было необъяснимо, отчего упорствует тот, за перегородкой. Машина зажужжала, тотчас захлебнулась. Был обмен замечаниями, затем прежний энергичный голос вновь возвысился и приказал:
– Dites-nous le mot: avant[31 - Скажите нам слово: вперед (франц.).].
И по складам:
– A-vant[32 - Вперед (франц.).].
Тишина.
– On nentend rien. Encore une fois…[33 - Ничего не слышно. Еще раз… (франц.).]
И вот под рыхлый и теплый лепет за перегородкой впервые после многих, многих лет ко мне вернулось оно. То, что вселило в меня первый глубокий ужас, когда ребенком я лежал в жару: Большое. Да, так твердил я, когда мою кроватку обступили, мне щупали пульс, спрашивали, что меня напугало: Большое. И когда послали за доктором, он пришел, успокаивал меня, я просил только об одном – прогнать Большое и ничего мне тогда не надо. Но он был как все. Он не мог его прогнать, хоть я был такой маленький и помочь мне было так просто. И вот снова оно тут. Потом оно оставалось вдали, даже в горячечные ночи оно меня не посещало, и вот снова оно тут, хоть у меня нет жара. Оно снова явилось. Разрасталось во мне как опухоль, росло из меня, как вторая голова, было неотторжимо от меня, хотя не могло быть моей частью – такое большое. Как огромный мертвый зверь, который раньше, живьем, был рукой моей или ногою. И моя кровь обращалась во мне и в нем как в одном общем теле. И сердце мое с неимоверным усилием проталкивало кровь в Большое. И уже не хватало крови. И она нехотя втекала в Большое и возвращалась – больная, отравленная. А Большое вспухало, взбухало на моем лице как горячая синяя шишка, росло изо рта, и тень от его края уже легла на мой уцелевший глаз.
Не помню, как я унес ноги всеми теми дворами. Был вечер, я плутал по чужим местам, брел бульварами, вдоль бесчисленных стен, все в одну сторону, но этому не было конца, и я брел обратно, и я вышел на какую-то площадь. Свернул в какую-то улицу, и там оказались еще незнакомые улицы, еще, еще. Жестко, тряско позвякивая, слепяще проносились трамваи. Но на боках у них были неведомые мне названья. И я не знал, в каком я городе, и есть ли у меня здесь кров, и что мне делать, чтобы больше не бродить.
А теперь еще вдобавок эта болезнь, всегда настигающая меня так странно. Я уверен – ее недооценивают. Точно так же, как преувеличивают значение иных болезней. У ней нет определенных признаков, у этой болезни, она принимает признаки того, кого поражает. С сомнамбулической уверенностью вытягивает она из каждого избегнутую опасность и ставит вновь перед ним – близкую, грозную, неминучую. Мужчины, в школьные годы предававшиеся жалкому пороку, надругаясь над бедными, жесткими обманутыми мальчишескими руками, снова впадают в него, или вновь страдают от болезни, которой переболели в детстве, или к ним возвращается побежденная привычка, какой-нибудь робкий, годами мучивший поворот головы. И что бы ни воротилось – облеплено путаницей воспоминаний, как мокрыми водорослями затонувший предмет. Незнаемые жизни всплывают со дна, перемешиваются с тем, что в действительности существовало, и теснят прошедшее, считавшееся достоверным; ибо в том, что выныривает из глуби, есть свежая, отдохнувшая сила, а то, что было всегда, увяло от слишком частых воспоминаний.
Я лежу в постели у себя на пятом этаже, и день мой, не перебиваемый ничем, похож на циферблат без стрелок. Как давно потерянная вещь однажды поутру вдруг оказывается на месте, в целости и сохранности и чуть ли не новее, чем до пропажи, будто ее отдавали подновить, – так и на моем одеяле вдруг, новехонькое, оказывается что-нибудь затерянное в детстве. Все затерянные страхи тут как тут.
Страх, что крошечная шерстинка, торчащая из одеяла, – твердая, твердая и острая, как стальная игла; страх, что пуговка на моей ночной рубашке больше моей головы – огромная, тяжелая; страх, что хлебная крошка, упав с моей кроватки, стеклянно расколется, и давящая тоска оттого, что с ней вместе расколется все – все и навеки; страх, что оборванный край вскрытого письма прячет запретное, чего никому нельзя видеть, и невообразимо важное, для чего во всей комнате нет надежного места; страх, что я проглочу во сне выпавший из печи уголек; страх, что спятившее число пойдет разрастаться у меня в мозгу и уже перестанет там умещаться; страх, что я лежу на граните, на сером граните; страх, что я буду кричать, к моей двери сбегутся, ее взломают; страх, что я выдам себя, выболтаю свои страхи, и страх, что я слова не смогу из себя выдавить, ведь словами их не передашь – и еще страхи… страхи. Вот я молил о детстве, оно и вернулось ко мне, и я чувствую, что оно такое же тяжкое, как прежде, и не к чему было взрослеть.
Жар у меня вчера спал, а нынешний день начался как весна, как весна в картинках. Попробую-ка я выйти, пойду в Bibliotheque Nationale, к моему поэту, давно я его не читал, и потом, может быть, прогуляюсь садами. Сейчас, наверное, ветер рябит большой пруд с самой что ни на есть настоящей водою и дети пускают с алыми парусами кораблики.
Сегодня – вот уж не ожидал; я вышел так храбро, словно это проще простого и само собой разумеется. И опять, опять меня подхватило как бумагу, скомкало и смело – на сей раз несусветное что-то.
Бульвар Saint-Michel, пустой и просторный, полого стлался мне под ноги. В вышине со стеклянным звяканьем отворили окно, и через улицу белой птицей перепорхнул блеск. Скользила мимо карета на ярко-красных колесах, дальше кто-то нес что-то светло-зеленое. Лошади, посверкивая сбруей, цокали по темной от поливки, чистой мостовой. Ветер, взволнованный, новый и нежный, взвихривал всё: запахи, выкрики, звоны.
Я проходил мимо одного из тех кафе, в каких поют вечерами поддельные, ряженые цыгане. Из верхних окон, стыдясь собственной нечистоты, крался вчерашний дух. Прилизанные официанты расчищали мусор у входа. Один, согнувшись, горстями сыпал под столы желтый песок. Вдруг его поддел локтем прохожий и кивнул в конец улицы. Официант, красный как рак, с минуту остро вглядывался в указанном ему направлении, и наконец смех растекся, как выплеснутый, по его безбородым щекам. Он окликнул других официантов и поводил из стороны в сторону смеющейся физиономией, как бы приглашая всех позабавиться, но и сам боясь что-нибудь упустить. И вот они стояли и смотрели вдоль улицы, кто улыбаясь, а кто досадуя, что пока ничего смешного не наблюдается.