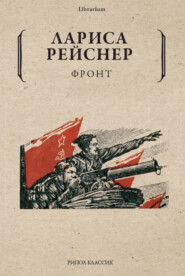скачать книгу бесплатно
Бац! В это время над нашей головой снова разорвался снаряд. У меня сердце задрожало от сумасшедшего пляса красных веселых чертей, а пристав, оставив высшие стратегические рассуждения до другого раза, надел на себя вторую пару теплых брюк и со всеми домочадцами спрятался в баню. Вот тут-то мы и познакомились с подвальными соседями.
Я их застала на верхней ступеньке лестницы. Приподняв голову над низким порогом, женщины и дети с каким-то одеревеневшим ожиданием посматривали то в небо на кудрявые разрывы, то на дверь бани, из-за которой тревожно блеяла запертая коза. Поняли мы друг друга с полуслова. Жена последнего, только этой ночью арестованного рабочего подвинулась ближе, шепотом спросила фамилию и, подумав:
– Нет, этот убежал, в газетах писали, что убежал, зря вы пришли сюда.
Поправила ребенка, который никак не мог поймать ртом широкий и коричневый сосок ее худой груди, и опять стала молча слушать артиллерийские раскаты.
– А как думаете, моего уже расстреляли? Если сегодня войдут красные – ослобонят или уже поздно? – И, не ожидая ответа (ответ уже был в ней самой, плоский, деревянный, темный, как потолок подвала), погрузилась в симфонию наступления, от которой дрожал весь дом.
Сперва громы в се приближались. Они разражались долгими залпами, уверенно покрывая более мелкие и частые волны ответного огня. Потом откуда-то с другого берега вступили новые, отрыгающие железо, железные глотки. Сперва они били как бы наугад, потом с ужасающей правильностью. Свои или чужие? Увы, мы слышали только специфический гром залпа, в котором нельзя ошибиться. Разрывы их приходились не на Казань, значит… значит, над нашими. Еще около часу бушевала гроза в голубом солнечном небе – потом как будто отодвинулась. Все реже и реже рвались над городом снаряды, потом затихли совсем. И только издали, уже не уходя, по и не приближаясь, как черта бурунов, пенилась далекая стрельба. Час, два, а может быть, и дольше, пролежала моя соседка, положив голову на порог, не шевелясь, не говоря ни слова. Теперь она подняла лицо. На нем были следы слез, размазанная грязь и наше поражение. Взяв со ступенек уснувшего ребенка, каменная, прямая, она спустилась обратно в подвал.
Нужно ли говорить, что два слова на ухо приставу могли спасти эти семьи от белого террора и что никто из семнадцати подвальных жителей не пожелал воспользоваться этим средством.
Ни вечером, ни утром следующего дня не вернулся мой спутник. Я осталась одна, без денег и без документов.
Пристав заволновался, но затем решил, что моего «мужа» как офицера-добровольца могли просто мобилизовать в штабе, куда он явился, – и посоветовал съездить в город, навести справки.
Знакомые улицы, знакомые дома, и все-таки их трудно узнать. Точно десять лет прошло со дня нашего отступления. Все другое и по-другому. Офицеры, гимназисты, барышни из интеллигентных семейств в косынках сестер милосердия, открытые магазины и разухабистая, почти истерическая яркость кафе – словом, вся та минутная и мишурная сыпь, которая мгновенно выступает на теле убитой революции.
В предместье трамвай остановился, чтобы пропустить подводу, груженную все теми же голыми, торчащими, как дерево, трупами расстрелянных рабочих. Она медленно, с грохотом, тащилась вдоль забора, обклеенного плакатами: «Вся власть Учредительному собранию». Вероятно, люди, налепившие это конституционное вранье, не думали, что их картинки станут частью такого циничного, общепонятного революционного плаката.
Белый штаб помещался на Грузинской улице. В общем, без особого труда удалось получить пропуск в канцелярию; мимо меня пробежали штабные офицеры, всего несколько дней тому назад служившие в Реввоенсовете. У всех дверей часовые – гимназисты, мальчики пятнадцати-шестнадцати лет. Вообще вся провинциальная интеллигенция встрепенулась, бросилась в разливанное море суетливой деловитости, вооружилась и занялась государственными делами в масштабе любительского Красного Креста, любительского шпионажа и самопожертвования на алтарь отечества, декорированного лихими галифе, поручичьими шпорами и усами.
Боже, как хорош белый режим на третий день от своего сотворения! Как бойко стучат машинистки, какие милые, интеллигентные женские лица над ремингтонами. У дверей кабинета два лихача-солдата, вроде тех, что каменели в старину у царской ложи, и из этих дверей порою выплывает в свежей рубашке, в распахнутом кителе и душистых усах, о, какой если не генерал, то вроде него – полковник или капитан, и как нежно, одухотворенно и скромно плавают на чиновничьей и военной поверхности жирные, хотя и редкие, пятна истинного просвещения; как кокетливо выглядывают из-за обшлага наши университетские значки.
О, alma mater, гнездилище российской казенной учености, и твой тусклый луч позлащает сии эполеты, аксельбанты и шпоры. В одно из посещений штаба мне даже довелось видеть в приемной поручика Иванова, этого Мадемуазель Фифи белогвардейской Казани, настоящего профессора, в крылатке, в скромной шляпе с мягкими полями, с теми пышными и чистыми сединами, какие после Тургенева носили все ученые-народолюбцы, кумиры «чуткой передовой молодежи», который вполголоса быстро-быстро сообщал лениво и пренебрежительно слушавшему его юнкеру всякие особые секреты по части неблагонадежных элементов, спрятавшихся в его квартале…
Дня два продолжались мои визиты на Грузинскую; от нескольких секретарей и дежурных удалось окончательно узнать список расстрелянных и бежавших друзей. Пора было подумать об обратном исходе.
Пристав, тщетно прождав моего без вести пропавшего «мужа», начал проявлять признаки беспокойства; денег не было ни гроша, и мои подвальные соседи настойчиво советовали уходить, пока не поздно. Да и жизнь в постоянной лжи, в ежедневном разговоре на тему о жидах, коммунистах и грядущих победах святого православного оружия становилась невыносимой. Однажды утром я тихонько оделась, ощупала в кармане засохшую корку хлеба, в которой окаменел запрятанный в мякиш пропуск, и решила уйти из дому, чтобы уж не возвращаться в него никогда. Жена рабочего успела всунуть мне в руну трехрублевую бумажку. Но у ворот меня остановил пристав:
– Вы куда, сударыня, в такое раннее время?
– В штаб, сегодня обещали дать точную справку.
– Позвольте вас проводить, я помогу, окажу, так сказать, протекцию.
– Да не беспокойтесь, я отлично доеду сама…
– Какое тут беспокойство? Нет уж, разрешите старику поухаживать за дамой.
Как я ни отговаривалась, пристав стоял на своем, и мои слова прилипали к его сладкой настойчивости, как мухи к сахарной бумаге.
В штабе точно из-под земли вынырнул расторопный секретарь, а пока мы с ним проходили через общую залу, за спинами просителей и барышень, с любопытством провожавших нас глазами, блеснул уже белесый холодок штыка.
Кабинет поручика Иванова помещался наверху, в трех маленьких комнатах. Первая из них, приемная, была густо набита просителями, арестованными, родственниками всякого рода и часовыми. Пока мой почетный конвоир бегал докладывать Иванову, тому самому, который «за революцию» бил по пяткам казанских железнодорожных рабочих, я успела оглядеться.
И вот в двух шагах, лицом ко мне, группа знакомых матросов из нашей флотилии. Матросы, как все матросы восемнадцатого года, придавшие Великой русской революции ее романтический блеск. Сильные голые шеи, загорелые лица, фуражки «Андрея», «Севастополя» и просто «Красный флот». Боцман смотрит знакомыми глазами, пристально, так, что видно его голую душу, которая через двадцать минут станет к стенке, – его рослую душу, широкую в плечах, с крестиком, который болтается на сапожном шнурке, – не для бога, а так, на счастье.
Стучит, стучит пульс: секунда, две, три, не знаю сколько. И глаза, громко зовущие к себе на помощь, уже не смотрят. Они, как орудия в сырую погоду, покрылись чем-то серым. Стукнули приклады – матросов уводят. В дверях боцман осторожно оборачивается. «Ну, – говорят глаза, – прощай». Комната вертится, как сумасшедшая; откуда в ней этот блеск воды, блеск моря в ветреный день, с такой короткой, сердитой, серебряной рябью.
Зеленый стол, за ним три офицера. Конечно, этот слева и есть Иванов. Бледная лысая голова, до того белая, что кажется мягкой, как яйцо, сваренное вкрутую. Светлые глаза без бровей, белый китель, белые чистенькие руки на столе. Второй – француз; его лица не помню. Так, нечто любопытно-брезгливое и бесконечно холодное. Смотрит кругом, стараясь все запомнить связно, так, чтобы потом можно было остроумно рассказать у себя дома. Третий – протокол. Перо, прямой пробор, заглавная буква вверху листа с размашистым, нафиксатуаренным хвостиком.
– Ваша фамилия? Возраст? Общественное положение?
На мои ответы Иванов улыбается широкой, почти добродушной улыбкой.
– А Раскольникова вы знаете? – На моем лице отражается невинная и беззаботная веселость прокурора.
– Рас-коль-ни-ко-ва? Нет, а кто это?
– Один крупный прохвост.
– Господин поручик, нельзя же знать всех прохвостов, их так много. – Француз смотрит на нас, как на водевиль.
– Всех не всех, а одного вам все-таки придется вспомнить.
Я молчу.
И вдруг этот человек, только что выдержавший такие художественные паузы, жеманившийся, как сытый кот с ненужной ему мышью, подмигивавший офицеру-иностранцу на белье, снятое с меня во время предварительного обыска и аккуратно сложенное перед чернильницей Иванова, – вдруг этот изящный, небрежный, остроумный прокурор треснул кулаком по столу и заорал по-русски, вскочив с места от истерического бешенства: «Я тебе покажу, так твою мать, ты у меня запоешь, мерзавка». И грубо офицеру-иностранцу, имевшему бестактность засидеться на отеческом допросе: «Идите вниз, когда можно будет, позову». Француз прошел мимо легкими шагами, полоснув меня и своего коллегу и союзника презрительными, равнодушными, почти злорадными глазами.
И опять Иванов заговорил спокойно, со всей прежней мягкой, двусмысленной, неверной улыбкой: «Одну минуту, нам не обойтись без следователя».
В комнате было три двери. Направо та, через которую вышел Иванов; посредине – зимняя, заколоченная войлоком, запертая. И третья, крайняя слева, – в приемную. Возле нее – часовой.
Бывают в жизни минуты сказочного, безумного, божественного счастья. Вот в это серое утро, которое я видела через окно, перекрещенное безнадежным крестом решетки, случилось со мною чудо. Как только Иванов вышел, часовой, очевидно доведенный до полного одурения нервной игрой поручика, его захватывающими дух переходами от вкрадчивой и насмешливой учтивости к животному крику в упор, – часовой наполовину высунулся за дверь «прикурить». В комнате остались только растопыренные фалды его шинели и тяжелая деревянная нога винтовки. Сколько секунд он прикуривал? Я успела подбежать к заколоченной средней двери, дернуть ее несколько раз – из последних сил – она открылась, пропустила меня, бесшумно опять захлопнулась. Я оказалась на лестнице, успела снять бинт, которым было завязано лицо, и выбежать на улицу. У окна общей канцелярии, спиной ко мне, стоял пристав и в ожидании давил мух на стекле.
Мимо штаба неспешной рысцой проезжал извозчик. Он обернулся, когда я вскочила в пролетку.
– Вам куда?
Не могу ему ничего ответить. Хочу и никак не могу. Он посмотрел на мой полупрозрачный костюм, на лицо, на штаб, стал на облучке во весь рост и бешено хлестнул лошадь. С грохотом неслись мы по ужасной казанской мостовой, все задворками и переулками, пока сивка-бурка, вспотев до пены и задрав кверху редкий хвост, не влетела в ворота извозного двора. У моего извозчика сын служил в Красной Армии, а кроме того, он был мужем чудесной Авдотьи Марковны – белой, красной, в три обхвата, теплой, как печь, доброй, как красное солнце деревенских платков и сказок. Она меня обняла, я ревела как поросенок на ее необъятной материнской груди, она тоже плакала и приговаривала особые нежные слова, теплые и утешные, как булочки только что с жару. Потом прикрыла мне голые плечи платком, и тут же на крыльце, выслушав всю историю с самого начала, таким матом покрыла яснейшего поручика Иванова, что пышные петухи, крепкой лапой разрывавшие теплые от солнца навозные кучи, загорланили от восторга.
– Идем, мать, чаек покушаем.
Через часа два, завернутая в платок с розанами, имея при себе фунт хлеба и три рубля деньгами, я уже выходила за казанскую заставу. Занятый осмотром проезжавшего воза, дозорный пост меня легко пропустил; мимо другого я пробралась кустами.
Попутчик-крестьянин, который согласился меня подвезти до первой деревни, еще раз милостиво даровал мне жизнь в этот счастливейший день моей жизни. Протрусив рысцой верст шесть, он сказал голосом, который был голосом моей подвальной соседки, и рыжебородого извозчика, и Авдотьи Марковны, и всей российской бедноты, которая в те дни первоначальной революционной неурядицы, поражений и отходов, безусловно, была на нашей стороне и нашу победу спасла так же просто и крепко, как меня, как тысячи других товарищей, разбросанных по ее большим дорогам:
– Ну, слезай, девка. Полно врать, я вижу, кто ты есть за птица, иди в село налево – там твои. А направо вон ходит облачко, будто черное; это чехи, кавалерия.
Пробежав полем версты две, я действительно встретила нашу передовую цепь. Один из красноармейцев, очевидно узнавший меня по штабу товарища Юдина, сел рядом на ком вспаханной земли и деликатно, делая вид, что не замечает моих расстроенных чувств, сказал, скручивая цигарку:
– Ну, что, нашла ты своего мужика?
Казань – Сарапуль
I
Ночные склянки, отбивающие часы на палубе миноносца, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости.
Но вместо Невы, величаво отдыхающей, вместо тусклого гранита и золотых шпилей, отчетливый звон осыпает необитаемые берега, чистые прихотливые воды Камы, островки затерянных деревень.
На мостике темно. Луна едва озаряет узкие, длинные, стремительные тела боевых судов. Поблескивают искры у труб, молочный дым склоняется к воде белесоватой гривой, и сами корабли, с их гордо приподнятым носом, кажутся среди диких просторов не последним словом культуры, но воинственными и неуловимыми морскими конями.
Редкое освещение: отдельные лица видны, и отчетливо видны, как днем. Бесшумны и так же отчетливы позы. Эпические, годами воспитанные и потому непринужденные, как в балете, движения комендора, снимающего тяжелый брезент с орудия одним взмахом, как срывают покрывало с заколдованной и страшной головы.
Пляшущие руки сигнальщика с его красными флажками, красноречивые и лаконические, танцующие в ночном ветре условный, обрядовый танец приказаний и ответов.
И над сдержанной тревогой судов, готовящихся к бою, над отблеском раскаленной топки, спрятавшей свой дым и жар в глубине трюма, – высоко, выше мачты и мостика, среди слабо вздрагивающих рей, восходит зеленая утренняя звезда.
Давно пройден и остался за поворотом реки наш передовой пост, лодка под самым берегом, и командир Смоленского полка, Овчинников, спокойный, всегда неторопливый и твердый, отчетливый и немногословный – один из славной стаи Азинской 28-й дивизии, прошедшей с боем всю Россию, от холодной Камы до испепеленного желтыми ветрами Баку.
Где-то справа мелькнул и исчез лукавый огонек, – может быть, белые, а может быть, один из отрядов Кожевникова, шаривший в глубоком тылу у белых и иногда совершенно неожиданно вылезавший навстречу нашей «Межени» из непролазной чащи кустарника, запутавшего обрывистый камский берег.
При первых лучах рассвета необычайна красота этих берегов. Кама возле Сарапуля широкая, глубокая, течет среди желтых глинистых обрывов, двоится между островов, несет на маслянисто-гладкой поверхности отражение пихт – и так она вольна и так спокойна. Бесшумные миноносцы не нарушают заколдованный покой реки.
На мелях сотни лебедей распростирают белые крылья, пронизанные поздним октя брьским солнцем. Мелкой дробной тучкой у самой воды несутся утки, и далеко над белой церковью парит и плавает орел. И хотя противоположный луговой берег занят неприятелем – ни одного выстрела не слышно из мелкорослых кустарников. Очевидно, нас не ждали в этих местах – и не успели приготовиться.
Из машинного люка до пояса выставляется закопченный и бледный моторист и, стирая с лица черноту и пот, с наслаждением вдыхает острый утренний воздух, за одну ночь ставший осенним и северным.
Лоцман на мостике, всклокоченный и крепкий, похожий в своих сединах и овчинном тулупе на лешего, пророчит ранний мороз.
«Снегом пахнет, воздух – снегом пахнет», – и опять молча отыскивает узкую дорогу кораблей среди предательской ряби отмелей, тумана и камней. За эту ночь пройдено больше ста верст, и вот вдали показался кружевной железнодорожный мост и белые макушки Сарапуля. Команда отдыхает, полощется возле крана, дразнит двух черных щенят, взращенных с великой любовью среди пушечной пальбы и непрерывных походов.
Резкий крик наблюдателя:
– Люди на левом берегу, – и снова напряженное ожиданье. Но те, на берегу, уже разглядели нас, и в воздухе радостно пляшут красные полотнища. И дальше, на берегу, и на мосту, и за песчаным прикрытием вспархивают и трепещут красные флажки. Малые фигуры пехотинцев в серых шинелях бегут по берегу, машут, кричат и перебрасывают на железные палубы миноносцев какие-то благословляющие приветствия.
Прошли мост, повернули левее, а за последним судном, идущим в стройной кильватерной колонне, уже трещит ружейная перестрелка. Это белые обстреливают охрану моста, сбежавшуюся посмотреть на проход нашей флотилии.
В бинокль ясно видна набережная Сарапуля, занятого дивизией Азина, Сарапуля, со всех сторон обложенного белыми и наконец, благодаря приходу флотилии, соединенного с нижележащими армиями.
Подходим ближе. На крыше поплавка, на перилах, на дороге – красноармейцы, чуйки, платочки и бороды, и все это радостно изумленное, свое, дружеское. Оркестр на пригорке гремит марсельезу, барабан, заглядевшись на корабли, образует брешь в мелодии, труба несется далеко впереди рассерженного дирижера, радостно играя громовыми переливами и не останавливаясь ни на чем, как конь, сбросивший всадника. Уже приняты концы, борт плавно примкнулся к пристани, матросы высыпали на берег, и пошли разговоры:
– Как же вы прорвались? Побили их корабли?
– И побили, отец, и в реку Белую загнали.
– Врешь.
– Да не вру.
Чрез толпу пробивается молодая еще женщина, вся в слезах. «Матроска», – говорят окружающие. И начинаются новые причитания. Плач матери и жены, пронзительный однообразный вопль: «Моего увели на барже, на барже стащили. Матросом был, как вы». Платочек мечется от одного моряка к другому, слепнет от слез, гладит шершавые рукава бушлатов, это последнее свое воспоминание. Да, жестокая штука война, гражданская – ужасна. Сколько сознательного, интеллигентского, холодного зверства успели совершить отступающие враги.
Чистополь, Елабуга, Челны и Сарапуль – все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны в историю революции жгучими знаками. В одном месте сбрасывали в Каму жен и детей красноармейцев, и даже грудных пискунов не пощадили. В другом на дороге до сих пор алеют запекшиеся лужи, и вокруг них великолепный румянец осенних кленов кажется следом избиения.
Жены и дети этих убитых не бегут за границу, не пишут потом мемуаров о сожжении старинной усадьбы с ее Рембрандтами и книгохранилищами или о неистовствах Чеки. Никто никогда не узнает, никто не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых течением в илистые мели, прибитых к нежилому берегу. Разве был день – вспомните вы, бывшие на борту «Расторопного», «Прыткого» и «Ретивого», на батарее «Сережа», на «Ване-коммунисте», на всех наших, зашитых в железо, неуклюжих черепахах, – разве был хоть один день, когда мимо вашего борта не проходила эта молчаливая спина в шинели, этот солдатский затылок с такими редкими куцыми волосами (всё после тифа) и танцующей по воде рукой, то всплывающей, то опущенной ко дну. Разве было хоть одно местечко на Каме, где бы не выли от боли в час вашего прихода, где бы на берегу, среди счастливых и обезумевших, которые так неумело (рабочие ведь не моряки) принимали ваши «чалки», не было десятка осиротелых баб и грязных, слабых и голодных детей рабочих. Помните этот вой, которого не могло заглушить даже лязгание якорной цепи, даже яростный стук сердца, даже красный от натуги голос предисполкома, который еще издали, за полверсты, кричал вам, что Самара взята Красной…
Между тем к первой женщине подошла вторая, совсем маленькая и старая. На ее лице те же шрамы горя. «Не плачь, расскажи толком». И мать рассказывает, но слова ее теряются в причитаниях, ничего нельзя понять.
А дело вот в чем: отступая, белые погрузили на баржу шестьсот человек наших и увезли – никто не знает куда, кажется, в Уфу, а может быть, и к Воткинскому заводу.
Через час пронзительная сирена собирает на пристань разошедшихся матросов, и командующий отдает новое приказание: флотилия идет вверх по реке на поиски баржи с заключенными. И, подгоняя команды, как-то особенно отчетливо повторяет: «Шестьсот человек, товарищи».
II
Они нас не ждали: окопы, проволочные заграждения, пикеты, все это оказалось неприкрытым со стороны реки и, видно, как на блюдечке. Медленно скользя вдоль берега, миноносцы выбрали удобное место, и комендоры отыскивают цель. В кают-компании полуоткрыт люк в пороховой погреб, и оттуда быстро передают наверх снаряды. Раздается команда:
– Залп.
Из дула выплескивается огненная струя, с легким металлическим звоном падает пустая гильза, и через десять – пятнадцать секунд в бегущей цепи неприятеля подымается пепельно-серый и черный дымовой фонтан. Управляющий огнем изменяет прицел:
– Два больше, один лево. Залп.
Вот и на «Ретивом» открыли огонь, и «Прочный» из кормового орудия зажег церковь.
Пользуясь всеобщим смятением, мы засветло будем в Гальянах (тридцать пять верст выше Сарапуля).
Еще один переход в десять верст, и мы у цели. Красные флаги спущены, решено всех взять врасплох, выдавая флотилию за белогвардейскую – адмирала Старка, которую с таким нетерпением до сих пор поджидали себе на помощь ижевцы. Из-за островка и поворота Камы суда полным ходом появляются перед пристанями Гальян, проходят село, расположенное на горе, и выше его делают поворот, разворачиваются – маневр очень трудный на таком узком и мелком месте.
– Без приказаний не открывать огня, – передает сигнальщик с одного миноносца на другой.
Обстановка следующая: в двадцати – тридцати саженях на берегу, возле церкви, ясно видно тяжелое шестидюймовое орудие. Дальше на пригорке много любопытных крестьян и среди них кучки вооруженных солдат. На колокольне второе орудие; быть может, пулемет. Под левым берегом баржа с десантом белогвардейцев. В кустах мелькают белые палатки лагеря, расстилается дымок походных кухонь, и, отдыхая, солдаты лежат на берегу, с любопытством следя за маневрами миноносцев. Посредине же реки, охраняемая караулом, целая плавучая могила, безмолвная и недвижимая.
Рупор с «Прыткого» вполголоса передает порядок действий на другие суда. «Ретивый» подходит к барже и, не выдавая себя, удостоверяется в присутствии драгоценного живого груза. «Прыткий» наводит орудия на шестидюймовую пушку, с тем чтобы разбить ее в упор при первом движении неприятеля, но одновременно наблюдает за пехотой.
Но как же снять с якоря баржу, как вытащить ее из узкой ловушки, образуемой мелями, островом и перекатом? К счастью, тут же у пристани дымит неприятельский буксир «Рассвет». Наш офицер в блестящей морской фуражке передает его капитану безапелляционное приказание.
– Именем командующего флотилией адмирала Старка приказываю вам подойти к барже с заключенными, взять ее на буксир и следовать за нами через реку Белую на Уфу.
Приученный белыми к беспрекословному повиновению, капитан «Рассвета» немедленно исполняет приказание: подходит к барже и берет ее на буксир. Бесконечно медленно тянутся эти минуты, пока неповоротливый пароход, шумно шлепая колесами-жабрами, подходит к барже, укрепляет тросы, дымит и разводит пары. Команда наша замерла, люди страшно бледны, и верят и не смеют поверить этой сказке наяву, этой обреченной барже, такой близкой и еще бесконечно далекой. Шепотом спрашивают друг у друга:
– Ну что, двигается или нет? Да она не двигается.
Но «Рассвет», напуганный строгим окриком капитана, чудесно исполняет свою роль. На барже заметно движение. Сам караульный начальник и его команда, сложив винтовки, помогают выбирать якорь. И понемногу тяжелая громада выходит из равновесия, трудно разворачивается ее нос, натянутые канаты слабеют и снова тянут свою упрямую спутницу. «Прыткий» окончательно успокаивает смущенных тюремщиков.
– Именем командующего приказываю вам сохранять полное спокойствие, мы пойдем впереди и будем вас конвоировать.
– У нас мало дров, – пробуют возражать с «Рассвета».
– Ничего, по дороге погрузите, – отвечает комфлот, и миноносцы, не торопясь, чтобы не вызвать подозрения у наблюдающих с берега белогвардейцев, начинают отходить к Сарапулю.
А там, в трюме баржи, уже началась тревога: «Зачем везут, куда и кто?» По отвратительному, грязному полу пробирается на корму один из заключенных, матрос. Там в толстой доске перочинным ножом проверчена дырка, единственный просвет, в который видно кусок неба и реки. Долго и внимательно наблюдает он за таинственными судами и их молчаливой командой. Читая луч надежды на его лице или новое опасение, искаженные лица окружающих кажутся одним общим лицом, неживым и неподвижным.
– Да ведь они все одинаковые, серые, длинные. Белогвардейские или нет? Смотри внимательно, смотри скорее.
– Да нет.