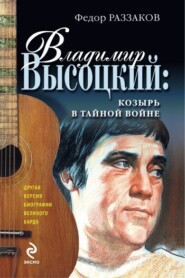скачать книгу бесплатно
Володю после концерта караулили иностранные студенты часа два, а мы с Двориным улизнули через аудитории. Дворин благодарил Володю, жал ему руку, а на меня косил смущенный, добрый и перепуганный глаз…»
Здесь отметим несколько моментов. Во-первых, присутствие на рядовом, в общем-то, мероприятии (на клубном концерте) такого высокопоставленного деятеля, как Петр Поспелов. Он относился к «русской партии» в Президиуме ЦК (державник-государственник) и по роду своей деятельности (идеология) вынужден был внимательно следить за тем, чем живет общество. А там, как я уже отмечал, вовсю набирала популярность бардовская песня (тогда ее называли «гитарной»), а также уголовной фольклор. Поэтому понятно возмущение Поспелова блатным репертуаром Высоцкого и появление за кулисами взвинченного сотрудника «девятки».
Отметим, что для Поспелова его взгляды обернутся весьма печальным образом: осенью 1961 года, когда на XXII съезде КПСС Хрущев поведет новую широкомасштабную атаку на Сталина и державников, Поспелов будет выведен из состава кандидатов в члены Президиума и отправлен в почетную ссылку – директорствовать в Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС. А Высоцкий, как мы знаем, благополучно продолжит свою карьеру на гитарном поприще. Это к реплике мемуариста о том, что у Высоцкого была «запретная-перезапретная биография». Видимо, не такая она была и запретная. Впрочем, об этом речь еще пойдет впереди.
Другой интересный момент того концерта – желание иностранных студентов, присутствовавших на концерте, пообщаться после него именно с Высоцким. Чем же так привлек наш молодой герой иностранцев, которые наверняка мало что понимали в блатной лирике, исполняемой им? Думается, интересовала их личность самого певца, который в их глазах выступал полпредом полузапрещенного искусства в СССР. Запад вообще очень много станет уделять внимания исполнителям советской бардовской песни (посредством своих русскоязычных печатных изданий и радиоголосов) и особенно певцам «блатной» и социальной тематики. Ларчик здесь открывался просто: популяризация уголовного фольклора представляла прекрасный шанс западным идеологам, во-первых, отвращать советских людей от официального искусства и приобщать их к будущему торжеству зэковской морали (той самой, что восторжествует в России после развала СССР), во-вторых – на этом поприще легче было стричь купоны на теме «ужасов тоталитаризма».
Что касается вхождения Высоцкого в большой кинематограф, то там ситуация выглядела еще проще: чуть ли не половину тамошних работников составляли евреи, которые чаще всего помогали друг другу в карьерном продвижении. Как известно, первая роль Высоцкого в кино состоялась в 1959 году и ничем особенным не запомнилась. Может быть, потому, что режиссер был русского происхождения – Василий Ордынский с «Мосфильма». Фильм назывался «Сверстницы». Работу в нем Высоцкого можно назвать настоящей разве что условно: он появился на экране всего на несколько секунд и с одной-единственной фразой «Сундук или корыто». А вот его первая действительно большая роль состоялась год спустя в фильме двух других режиссеров, причем дебютантов: еврея Льва Мирского и армянина Фрунзе Довлатяна, «Карьера Димы Горина» на Киностудии имени Горького. Однако расскажем обо всем по порядку.
Летом 60-го Высоцкий с успехом закончил Школу-студию МХАТ и в качестве места работы выбрал Театр имени А. Пушкина. Его прельстило то, что в этот театр пришел новый режиссер – Борис Равенских (Ровенский). Был он родом из Курской области, а азы актерского и режиссерского мастерства постигал в Москве у двух выдающихся евреев: Всеволода Мейерхольда (Равенских считался одним из его самых любимых учеников) и Соломона Михоэлса.
Слава пришла к Равенских в самом начале 50-х, когда он поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Свадьба с приданым» (эту постановку тогда же перенесли на широкий экран). В 56-м последовала новая удача режиссера – спектакль «Власть тьмы» по Л. Толстому на сцене Малого театра, который стал заметным явлением в советской театральной жизни. В нем явственно звучала мысль об опасности потребительской идеологии, которая главенствовала на Западе и могла в будущем захватить также и советский социум. Как писала театровед Т. Забозлаева:
«Равенских связал категорию социального зла в спектакле не с нищетой и бесправием личности (то, что всегда выпячивали либералы. – Ф. Р.), а с напором потребительских инстинктов в человеке, с его жаждой урвать от жизни больше, нежели положено тебе твоим трудом и талантом (именно эта идеология и победила в постсоветской России. – Ф. Р.). Не случайно знаменитый спор о банке оказался одним из центральных эпизодов спектакля. «Банка», как говорил Аким – своеобразный сказочный горшочек с кашей, – явился в спектакле символом безбедного существования: идут проценты, и пахать-сеять не надо. Но столь желанная и наконец обретенная освобожденность от труда обернулась опустошенностью души, беспросветным, пугающим мраком…»
«Власть тьмы» стал первым советским спектаклем, который два года спустя был показан в Париже. Естественно, когда Равенских возглавил Театр имени А. Пушкина, то многими это было воспринято как новая ступенька талантливого режиссера на пути к вершинам. Подумал так и Высоцкий, но очень быстро разочаровался. По его же словам: «Приглашали туда, и сюда… Я выбрал самый худший вариант из всего, что мне предлагалось. Я все в новые дела рвусь куда-то, а тогда Равенских начинал новый театр, наобещал сорок бочек арестантов, ничего не выполнил, ничего из этого театра не сделал, поставил несколько любопытных спектаклей, и все».
На мой взгляд, разочарование Высоцкого было вполне закономерным. И дело тут было не только в том, что ему там не находилось больших ролей. Высоцкого уже тогда начал терзать внутренний конфликт (как с его собственным внутренним Я, так и со средой, его окружавшей), и ему для выброса эмоций нужны были созвучные этому пристанища. В песне таковым стал блатной репертуар, а вот с театром тогда вышла неувязка – он его не нашел («Таганка» тогда хоть и существовала, но это был театр сугубо прогосударственный, творивший в жанре социалистического реализма, а в либеральный «Современник» Высоцкого, когда он надумает туда попасть, просто не возьмут, о чем речь еще пойдет впереди). Короче, Высоцкий оказался в чуждом для него месте. Театр имени А. Пушкина при Б. Равенских взял крен в зрелищную, балаганную сторону, а Высоцкому нужен был театр социальный, конфликтный. Как писала все та же Т. Забозлаева:
«…Используя драматургический материал как сценарий для режиссерских импровизаций, Равенских попытался поставить спектакль-праздник, спектакль-зрелище, откровенно балаганный („Свиные хвостики“) или плакатный („День рождения Терезы“). Само собой разумеется, без психологической разработки характеров, без претензии на глубокомыслие, с обилием музыки, песен, танцев. Первые постановки Равенских в Театре Пушкина имели как бы несколько „культпросветное“ значение. Но уровень, на котором эти режиссерские задачи были выполнены, оказался значительным, что не преминула отметить чуткая критика 1960-х. И главное, конечно, – в театр пошел зритель, над окошечком кассы появились аншлаги…»
Высоцкий от этого успеха был далек. В Пушкинском театре он с самого начала оказался на подхвате, балаган этот не разделял и в итоге практически никому там оказался не нужен. Разве что знаменитой актрисе Фаине Георгиевне Раневской – еврейке, которая, судя по всему, понимала его чувства и сочувствовала им, поскольку «балаган» под управлением Равенских тоже резко не одобряла. Как вспоминает первая жена Высоцкого И. Жукова:
«В театре у него была заступница – великая женщина и великая актриса, единственная женщина, к которой я по молодости ревновала Володю. Это – Фаина Георгиевна Раневская. Они обожали друг друга. И как только его увольняли, Фаина Георгиевна брала его за руку и вела к главному режиссеру. Видимо, она чувствовала в этом тогда еще, по сути, мальчишке, который в театре-то ничего не сделал, большой неординарный талант».
Итак, в театре Высоцкому помогала Фаина Раневская. Замечательная актриса, но продержавную советскую власть не любившая буквально до животных спазмов. Нелюбовь эта зиждилась не только на политической платформе, но и на личной. Уже тогда ходили слухи, что Фаина Георгиевна придерживалась нетрадиционной сексуальной ориентации, а это дело в СССР сурово каралось – вплоть до тюрьмы. И хотя в богемной среде практически никого за это не сажали, однако страх наказания все равно существовал. Во многом из-за этого страха в том же 61-м из страны сбежал ленинградский балерун Рудольф Нуриев. Раневская его примеру не последовала, но сам этот шаг очень даже поддерживала. Например, известен случай, который произойдет чуть позже – когда из страны надумает уехать Павел Леонидов (двоюродный брат Высоцкого). Вот как он сам опишет это в своих мемуарах:
«На площади Маяковского встречаю Фаину Георгиевну Раневскую. Эту актрису не смогла погасить даже советская власть. Актриса небывалой яркости, она играет и в жизни. Идет, сама целый мир, не видя мира вокруг, но это только кажется. Метра за три она кричит: „Уезжаешь?“ Я отвечаю, что да, уезжаю. „Ну и дурак“. Смотрю на нее вопрошающе, хочу пояснений. Они не заставляют себя ждать. Посреди страны стукачей она кричит: «Из этого дерьма надо не уезжать, а улетать!«…»
Но вернемся в самое начало 60-х.
Итак, в кино руку помощи Высоцкому протянули еврей Лев Мирский и армянин Фрунзе Довлатян (последний вполне мог знать, что мачеха у Высоцкого – женщина с армянскими корнями Евгения Лихолатова). Оба режиссера вспомнили о Высоцком в тот самый момент, когда он уже не надеялся попасть в их картину. А началось все в середине июля 60-го, когда Высоцкий принял участие в пробах на одну из ролей в фильме (они проходили в Большом ботаническом саду в Москве). Высоцкий пробовался сначала на роль шофера Софрона – шебутного парня из бригады монтажников, а потом – на роль бригадира монтажников Дробота.
Однако эти пробы Высоцкого не произвели должного впечатления на двух начальников с киностудии: ее директора Бритикова и худрука Сергея Герасимова. Отметим, что последний, как и Высоцкий, был полукровка – наполовину еврей, наполовину русский. Однако киношные евреи его откровенно нелюбили, поскольку Герасимов всегда и всюду в открытую поддерживал державников, за что удостоился от еврея Сергея Эйзенштейна прозвища «красносотенец». Короче, эти люди Высоцкого забраковали в обоих случаях. Но последнее слово оказалось отнюдь не за ними.
В начале осени съемочная группа отправилась на натурные съемки в Карпаты, в город Сколе (полтора часа на электричке от Львова). Съемки там начались 17 сентября и шли вполне благополучно. Но спустя неделю у молодых режиссеров стали возникать проблемы дисциплинарного характера. Особенно много хлопот стал доставлять им актер Лев Борисов (брат актера Олега Борисова; в 90-е Лев прославится ролью Антибиотика в телесериале «Бандитский Петербург»), который играл шофера Софрона. Мало того, что он постоянно учил дебютантов, как надо снимать кино, так он еще и дисциплину нарушал – позволял себе приходить на съемочную площадку «подшофе». В итоге терпение режиссеров лопнуло. 26 сентября Борисову объявили, что договор с ним расторгнут и он может уезжать обратно в Москву. А в столицу полетела срочная телеграмма на студию, чтобы в Сколе был прислан другой исполнитель – Высоцкий. И это при том, что режиссеры прекрасно были осведомлены о том, что тот тоже любил «заложить за воротник», однако ему этот грех был милостиво прощен. Так в послужном списке нашего героя оказалась первая относительно крупная роль в кино – шофер монтажников Софрон.
Кстати, свою вторую заметную роль в кино – матроса в «Увольнении на берег» (1962) – Высоцкий заполучил благодаря помощи его бывшего соседа по дому №15 в Большом Каретном переулке Левона Кочаряна (он был вторым режиссером фильма) и Феликса Миронера (режиссер-постановщик). То есть опять Высоцкого приютил интернациональный еврейско-армянский тандем. Все было в полном соответствии с аббревиатурой из четырех букв – СССР, которая расшифровывалась как Союз Советских Социалистических Республик. В этом Союзе подавляющее большинство наций (а их было больше сотни) жили в дружбе и согласии, деля на всех одну общую судьбу. Определенное этническое размежевание существовало в высшей советской элите (отсюда и существование группировок державников и либералов), однако в низах общества люди все-таки старались жить дружно и сплоченно. И стержнем этой дружбы были именно русские – титульная нация в СССР. Все как у А. Пушкина, который писал: «Русская душа, гений русского народа, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения… Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите…»
Та интернациональная компания, в которой с детства вращался Высоцкий, была тому ярким примером. Среди ее участников в ходу было следующее четверостишие, придуманное ими же самими:
И артисты, и юристы
тесно держим в жизни круг,
есть средь нас жиды и коммунисты,
только нет средь нас подлюг!
Один из участников той компании – сценарист Артур Макаров – впоследствии так прокомментировал эти стихи, названные «Гимном тунеядцев»: «Я был и остаюсь убежденным интернационалистом… Это сейчас я пообмялся, а тогда при мне сказать „армяшка“ или „жид“ – значило немедленно получить по морде. Точно так же реагировали на эти вещи все наши ребята. Так вот, в этой компании подлюг действительно не наблюдалось. Крепкая была компания, с очень суровым отбором».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
НИЩЕЕ ВРЕМЯ – ПРЕДДВЕРИЕ СЛАВЫ
Осенью 61-го Высоцкий снялся в своей третьей крупной кинороли, а также круто изменил свою личную судьбу – познакомился с женщиной, которая не только стала его второй женой, но, главное, родила ему впоследствии двох детей. Речь идет о ленфильмовской ленте «713-й просит посадку» и актрисе Людмиле Абрамовой. Отметим, что и в этом случае без «еврейской руки» не обошлось: и ее, и Высоцкого в эту картину привел (вернее привела) один человек – второй режиссер фильма Анна Давыдовна Тубеншляк (главным режиссером был Григорий Никулин). Вот как она сама вспоминает об этом:
«Володю Высоцкого я нашла раньше: договор на съемки мы с ним подписали еще в июле… Как-то я была в московском Театре Пушкина и обратила внимание на молодого человека с гитарой – у него было очень любопытное, неординарное лицо. Если честно говорить, я даже не помню, в каком спектакле я его видела – у него там была проходная роль (как почти во всех спектаклях Театра Пушкина, где он принимал участие. – Ф. Р.). Вот так я и познакомилась с актером этого театра Володей Высоцким, записала его координаты и сказала, что обязательно вызову его на пробу. Всенепременно. Мы с ним распрощались.
Тут же меня встретил Борис Петрович Чирков, с которым я очень много лет была в самых дружеских отношениях – мы даже одно время вместе работали в ленинградском ТЮЗе. Он в это время работал в Театре Пушкина и спросил меня: «Кого выудила?»
– Высоцкого.
– Он парень очень одаренный, но ты с ним натерпишься.
– Ну что ж – не он первый, не он последний, – сказала я.
Володя работал в Театре Пушкина только второй сезон, но, очевидно, показал себя в каких-то делах не лучшим образом, я так полагаю. Я не стала выяснять, в каких именно, потому что, честно говоря, меня это не волновало: меня интересовал прежде всего сам актер… (Замечу, что на роль американского морского пехотинца, помимо Высоцкого, претендовало еще несколько молодых актеров, среди которых был и его приятель Михаил Туманишвили. Но выбрали в итоге именно Высоцкого. – Ф. Р.).
А с Людмилой Абрамовой дело вышло так. На главную женскую роль была утверждена актриса Нинель Мышкова, но она уехала в Киев, пробовалась там в какую-то двухсерийную картину – ей это показалось значительно интереснее нашей работы, и перед началом съемок, когда все актеры были уже утверждены, мы остались без главной актрисы. Надо было в срочном порядке искать нужную даму, и меня отправили в Москву…
Первым учреждением, в которое я кинулась, был ВГИК. Поначалу я стала смотреть старшекурсников, потому что, согласитесь, дама на такую роль должна быть неизвестной, интересной, «зазывной» – я бы даже сказала. Мне предложили курс… честно говоря, я уже не помню, у кого училась Люся. Я увидела барышню высокого роста, с очень любопытным лицом, посмотрела на нее и решила: «Это то, что нам надо!» Мы поговорили, сели в какой-то городской транспорт, поехали к ней домой, предупредили бабушку и маму, и, испросив разрешения во ВГИКе, мы в тот же день уехали в Ленинград…»
Знакомство Высоцкого и Абрамовой произошло при весьма необычных обстоятельствах. Собственно, любая другая девушка при них наверняка зареклась бы знакомиться с Высоцким и обходила бы его потом стороной. Но Абрамову, которая в институте была провозглашена первой красавицей и удостоилась титула «Мисс ВГИК», эти обстоятельства почему-то нисколько не смутили, а даже наоборот – подстегнули сойтись ближе с, в общем-то, невзрачным на вид Высоцким, да еще угодившим в пьяный скандал. Впрочем, послушаем ее собственный рассказ об этом:
«Оформить-то меня в Ленинграде оформили, но пока поставят на зарплату, пока то, пока се… А я уже самые последние деньги истратила в ресторане гостиницы „Европейская“, в выставочном зале.
Поздно вечером 11 сентября я поехала в гостиницу, ребята меня провожали. У каждого оставалось по три копейки, чтобы успеть до развода мостов переехать на трамвае на ту сторону Невы. А я, уже буквально без единой копейки, подошла к гостинице – и встретила Володю.
Я его совершенно не знала в лицо, не знала, что он актер. Ничего не знала. Увидела перед собой выпившего человека. И пока я думала, как обойти его стороной, он попросил у меня денег. У Володи была ссадина на голове, и, несмотря на холодный дождливый ленинградский вечер, он был в расстегнутой рубашке с оторванными пуговицами. Я как-то сразу поняла, что этому человеку надо помочь. Попросила денег у администратора – та отказала. Потом обошла несколько знакомых, которые жили в гостинице, – безрезультатно.
И тогда я дала Володе свой золотой перстень с аметистом – действительно старинный, фамильный, доставшийся мне от бабушки.
С Володей что-то произошло в ресторане, была какая-то бурная сцена, он разбил посуду. Его собирались не то сдавать в милицию, не то выселять из гостиницы, не то сообщать на студию. Володя отнес в ресторан перстень с условием, что утром он его выкупит. После этого он поднялся ко мне в номер, там мы и познакомились…»
Через несколько дней после этой встречи Высоцкий отбил телеграмму в Москву другу Анатолию Утевскому: «Срочно приезжай. Женюсь на самой красивой актрисе Советского Союза». Самое интересное, жениться Высоцкий собирался, не только не оформив развода с первой женой Изой, но даже не поставив ее в известность о своем новом увлечении. И эту новость он скрывал от жены почти полгода – до марта 62-го. Потом Иза узнала об этом сама – в Ростов-на-Дону позвонил кто-то из ее знакомых и буквально ошарашил новостью о том, что ее муж не только живет с другой женщиной (в квартире последней), но и то, что та беременна от него (и это при том, что ровно год назад, когда забеременела сама Иза, мама Высоцкого устроила ей скандал, из-за которого у нее случился выкидыш). Короче, официальной жене Высоцкого было от чего впасть в отчаяние. Она немедленно связалась с мужем: «Это правда?». – «Нет, – соврал Высоцкий. – Я вылетаю к тебе и все объясню». – «Как влетишь, так и вылетишь», – последовал лаконичный ответ, после чего Иза повесила трубу. А чтобы муж-изменник ее не нашел, она уволилась из ростовского театра и переехала в Пермь. И в течение двух лет она с Высоцким не общалась, он даже адреса ее нового не знал.
Вообще в те дни Высоцкому казалось, что его жизнь идет наперекосяк: он живет с новой женщиной, не расторгнув своего официального брака с первой женой, уходит из второго театра (Миниатюр), не проработав в нем и месяца. Он, кажется, ловит свою птицу удачи, не имея представления, что она из себя представляет и где обитает.
Давая определение тем годам в жизни Высоцкого, его жена Людмила Абрамова с горечью отметит: «…начало 60-х – такое время темное, пустое в Володиной биографии… Ну нет ничего – совершенно пустое время».
Об этом же и слова Олега Стриженова: «До „Таганки“ оставалось еще почти два с половиной года безработицы, скитаний по киностудиям с униженным согласием играть любые мелкие роли, какие-то кошмарные изнурительные гастроли на периферии…»
Да и сам Владимир Высоцкий запечатлел свое тогдашнее состояние в песнях.
Так зачем мне стараться?
Так зачем мне стремиться?
Чтоб во всем разобраться,
Нужно сильно напиться.
Кстати, о песнях Высоцкого. Именно в начале 62-го слава о нем как о певце блатной романтики начинает выходить за пределы Москвы. То есть совсем недавно, в конце 50-х, когда он только начинал свою песенную карьеру, блатной темы в его творчестве практически не было, а теперь она стала основой его песенного репертуара. Почему? На мой взгляд, здесь было несколько причин, причем все в той или иной мере лежали в плоскости политики.
Начнем с того, что именно в конце 50-х – начале 60-х в советском обществе началась широкомасштабная кампания по борьбе с преступностью, ставившая целью не просто снизить ее уровень, а… вообще искоренить в ближайшие два десятилетия (об этом чуть позже официально заявит Н. Хрущев). К этому делу были подключены не только органы МВД, но и общественность. В ноябре 1958 года по инициативе ленинградских рабочих в стране возникли первые Добровольные народные дружины. К середине следующего года в стране уже было 84 тысячи таких дружин, насчитывающих в своих рядах более 2 миллионов человек. Это чуть позже ДНД в массе своей превратятся в показушное мероприятие, за участие в котором людям приплюсовывали три лишних дня к отпуску, а тогда, в 50-х годах, это была реальная поддержка милиции в борьбе с уличной преступностью.
В том же 1958 году свет увидели «Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик», которые заменили собой действовавшие с 1924 года Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Особенностью «Основ» 58-го года являлось сужение и смягчение ответственности за деяния, не представляющие большой опасности для общества и государства. Вместе с тем «Основы» усиливали ответственность за некоторые наиболее тяжкие преступления. В частности, они предусматривали ужесточение наказания для рецидивистов и других опасных антиобщественных элементов.
В советских СМИ эта кампания освещалась самым широким образом, причем первое время эйфория от нее была такая, что многие преступники реально «завязывали» со своим преступным прошлом и заявляли об этом публично на всю страну (посредством СМИ). Первым такую инициативу проявил некий четырежды судимый вор-рецидивист, который написал покаянное письмо самому Хрущеву (дело было в начале 1959 года). В письме сообщалось следующее:
«Начать свою старую преступную жизнь я не могу и не могу вернуться к семье, так как бросил ее без денег и в долгах. За пять лет, как я уехал, я не совершил ни одного преступления.
Я не боюсь ответственности и прошу Вас ответить советом, как мне быть. Я буду ждать ежедневно в течение этого времени, как только у меня хватит силы воли, буду ждать беседы с Вами. Если сочтете нужным меня арестовать, я и с этим согласен…»
Получив это письмо, Хрущев пригласил автора к себе. Их встреча состоялась через несколько дней и была, можно сказать, исторической. Глава государства, выслушав горести бывшего вора, пообещал ему помочь. Хрущев, в частности, сказал: «Я позвоню секретарю горкома партии, попрошу его, чтобы обратили внимание на вас, устроили на работу, помогли бы приобрести квалификацию… Вам дадут кредит, чтобы вы построили себе домик, или же попрошу, если есть возможность, чтобы вам дали квартиру, и тогда вы будете платить меньше…»
Как глава государства сказал, так, естественно, все и было сделано. Бывшего вора приняли на работу, он получил новую квартиру.
В конце мая того же года об этом случае Хрущев рассказал участникам Третьего съезда писателей СССР. А уже через три недели в ЦК КПСС родилась записка, в которой излагалась реакция заключенных страны на этот эпизод из речи Хрущева. Вот лишь небольшие отрывки из той записки:
«Выступление на III съезде писателей товарища Хрущева Н.С., и особенно в той части речи, где он говорил о приеме на личную беседу бывшего вора, привлекло исключительное внимание заключенных, содержащихся в местах заключения МВД РСФСР.
Подавляющее большинство заключенных положительно высказываются об этом выступлении, заявляя о том, что их судьба не потеряна, о них все больше проявляют заботу руководители партии и правительства.
Так, заключенный Ш., содержащийся в ИТК Свердловской области, говорил: «Действительно, жизнь в нашей стране в настоящее время изменилась, это видно из речей руководителей правительства. В настоящее время есть забота о тех лицах, которые раньше совершали преступления, их устраивают на работу, оказывают материальную помощь. Такой заботы нет ни в какой капиталистической стране…»
Заключенный П. (Кемеровская область) заявил: «Такого еще не было, чтобы руководители партии и правительства уделили внимание бывшему вору. А вот Н. С. Хрущев это сделал».
Заключенный Б., 1929 года рождения, осужденный к 3 годам ИТК, сказал: «Н. С. Хрущев верит нам, заключенным. Это не просто выступление, а указание, чтобы к нам, заключенным, после освобождения не относились так, как относились раньше. Теперь, после этого выступления, наверное, будет легче с пропиской, отразится и на новом кодексе, сроки будут давать меньше… Вот говорили, что Н. С. Хрущев жесткий представитель власти, а он нет, принял нашего брата и помог ему, это просто надо быть душевным человеком. Нет, что и говорить, а Хрущев все-таки голова, все он видит и везде успевает…»
В ИТК № 9 УМЗ Горьковской области заключенный П., 1935 года рождения, подлежащий условно-досрочному освобождению, ознакомившись с речью Н. С. Хрущева на съезде писателей, сказал: «Эта речь приведет к значительному уменьшению преступности. Я вырезал эту часть речи, где говорится о воре, и ношу ее на груди. Когда я освобожусь и поеду устраиваться на работу, она мне поможет…»
Все эти события не могли остаться без внимания заокеанских идеологов «холодной войны», которые вовсе не были заинтересованы в том, чтобы преступность в СССР пошла на снижение. Нет, рецидивистов на парашютах они к нам из-за океана не забрасывали, однако популяризировать тот же уголовный фольклор принялись весьма активно. Так, на западных радиостанциях, вещавших на СССР, было увеличено количество часов, отведенных блатным песням и рассказам о них, а в антисоветских издательствах начали печататься книги и брошюры на эту же тему, которые потом тайно привозились в СССР по различным каналам.
Руку помощи Западу в этом деле протянули и советские либералы-западники, которые ко многим подобным инициативам, спускаемым с кремлевского верха, относились, мягко говоря, скептически. Не могли они остаться в стороне и теперь, когда дело касалось такой проблемы, как борьба преступностью, где западники занимали однозначную позицию: советская власть сама преступна по своей сути, и все беды страны происходят от этого. А в качестве убойного аргумента приводили свою излюбленную тему – гулаговскую.
Отметим, что блатные песни всегда были популярны в СССР, однако у этой популярности были свои взлеты и падения. Причем к взлетам этим руку прикладывали все те же либеральные интеллигенты. В первый раз это случилось во времена НЭПа (20-е годы). Тогда одним из самых известных деятелей на этом поприще был писатель Исаак Бабель, который написал сценарий к первому советскому фильму «про бандитов» – речь в нем шла о легендарном одесском налетчике-еврее Михаиле Винницком, известном как Мишка Япончик (у Бабеля он был выведен под именем Бени Крика). Фильм по этому сценарию в 1927 году снял режиссер Борис Шумский, однако власти в самый последний момент запретили его к показу, обвинив в романтизации уголовного мира.
На тогдашней советской эстраде одним из самых известных популяризаторов уголовной романтики был опять же еврей Леонид Утесов (Васбейн), который пел эти песни с середины 20-х. Однако в самом начале следующего десятилетия те же власти запретили ему (как и другим его коллегам, исполняющим подобный репертуар) это делать. И Утесов весьма успешно переквалифицировался в певца лирического направления.
Второй взлет интереса к блатной тематике выпал на конец 50-х – начало 60-х (будет еще третий взлет – в 70-х). Он был связан с тем, что в те годы началась широкая реабилитация жертв сталинских репрессий и на свободу стали выходить тысячи бывших зэков. Все они несли с собой в гражданскую жизнь лагерные привычки, в том числе и тамошний фольклор: блатную «феню», песни. Тогда даже выражение такое появилось, запущенное с легкой руки поэта-либерала Евгения Евтушенко: «Интеллигенция поет блатные песни» (то есть даже в среде интеллигентов стала модной романтизация уголовной жизни). При этом немалую роль в приобщении широких масс к подобному фольклору играли именно евреи, многие из которых были склонны к различным нарушениям закона. Видимо, поэтому в дореволюционные времена именно они составляли большинство политических преступников (насчитывая среди населения России всего 4,2%, евреи тогда среди «политических» составили аж 29,1%!), а также среди уголовников и разного рода мошенников (одна знаменитая Соня Блювштейн, она же Сонька Золотая Ручка, чего стоит!). Кстати, и блатную «феню» придумали именно они – евреи.
Одним из неофициальных популяризаторов блатной песни в среде либеральной интеллигенции был педагог Высоцкого по Школе-студии МХАТ Андрей Синявский, который на эту тему написал целый трактат под названием «Тюремная консерватория». В нем он, в частности, писал:
«…Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (и не только физиономии вора), и в этом качестве во множестве образцов может претендовать на звание национальной русской песни, обнаруживая – даже на этом нищенском и подозрительном уровне – то прекрасное, что в жизни скрыто от наших глаз…»
Согласимся с автором в том, что блатная песня – это слепок души народа. Возразим в другом: что это слепок отнюдь не лучшей стороны человеческой души, так сказать, ее темной стороны. И беда тому обществу, которое возьмет в качестве своего ориентира именно эту сторону. В сегодняшней России так и получилось: здесь блатная – и ее верная сестрица приблатненная – песни по сути стали законодательницами мод в искусстве, вытеснив на периферию русскую народную песню. Скажете, случайно это произошло? Уверен, что нет, если учитывать, кто именно строит нынешний капитализм: господа либералы, духовные ученики того же А. Синявского. В том же своем трактате тот заметил:
«Славен и велик народ, у которого злодеи поют такие песни. Но и как он, должно быть, смятен и обездолен, если ворам и разбойникам дано эту всеобщую песню сложить полнее и лучше, чем какому-либо иному сословию. До какой степени поднялся! До каких степеней упал!..»
Слова-то верные, но одно хотелось бы спросить у их автора: зачем же надо было так активно помогать ворам и разбойникам сложить блатную песню полнее и лучше? Впрочем, вопрос этот неуместный, учитывая, к какому лагерю принадлежал Синявский – к либерально-западному. А именно его представители, как уже говорилось выше, и «курировали» блатную песню, активно выдавая ее за национальную (правда, без уточнения, какая именно нация имеется в виду). В то же время подлинную русскую народную песню пропагандировали представители противоположного легеря – державного. И не случайно, что именно с конца 50-х, параллельно росту популярности блатной песни, новый импульс для своего развития получил на советской эстраде и русский фольклор, где тогда засверкали новые имена (взамен старых в лице Лидии Руслановой и Марии Мордасовой, которые отошли на второй план). Это были: Ольга Воронец (в 1956 году она стала солистской Москонцерта, а с начала 60-х обрела всесоюзную славу, появившись на экранах ТВ), Людмила Зыкина (в 1960 году, уйдя из хора имени Пятницкого, она стала выступать сольно), Александра Стрельченко (ее слава началась после 1962 года, когда она, пройдя стажировку в ВТМЭИ, пришла работать в Москонцерт в качестве исполнительницы русской народной песни).
Так что даже на поприще массовой песни борьба двух течений (державного и либерального) происходила не менее интенсивно, чем в политике. И так же, как и там, была скрыта от широких глаз – то есть имела подковерный характер. Владимир Высоцкий в этой борьбе играл далеко не последнюю роль, поскольку именно с начала 60-х избрал для себя в качестве любимого песенного жанра блатную песню. Она оказалась ему особенно близка, так как все свое детство он провел в неблагополучном, с точки зрения правопорядка, районе. Окрестности вокруг Каретных улиц – Малюшенка, Косая, Бутырка – были буквально нашпигованы хулиганскими компаниями. Вечерами, а то и днем, приличному человеку там было пройти опасно – легко можно было нарваться на какого-нибудь уркагана или отмороженную шпану. Например, в соседнем с Большим Каретным Лиховом переулке «мазу держали» братья Долбецы, а в помощниках у них были персонажи с весьма колоритными кликухами: Мясо, Фара, Бармалей. Вспоминая о знакомых Левона Кочаряна (он жил в том же доме, что и Высоцкий, но несколькими этажами выше), тот же А. Утевский пишет:
«Круг Левушкиных знакомств был весьма пестрым, полярным и многоплановым. Некоторые его приятели составляли далеко не самую интеллектуальную часть общества. Скорее они примыкали к криминогенной, авантюрной его части. Со многими из них я был знаком. Кое-кого знал и Володя, которому тогда весьма импонировал их авантюрный образ жизни, возможность разными путями легко зарабатывать деньги и так же лихо, с особым шиком и куражом прокутить их. Днем они занимались какими-то сомнительными делишками, а вечером собирались в модных тогда ресторанах „Спорт“, „Националь“, „Астория“, „Аврора“. Эти ребята, несмотря на принадлежность к блатной среде, были фигурами весьма своеобразными, добрыми по своей натуре и обладавшими чертами справедливых людей. Авторитет Левы был у них огромен…»
Драматургия блатных песен позволяла Высоцкому ставить в них проблемы социальные, в частности – высвечивать конфликт отдельного индивидума не только со средой, но и со всем социумом (советским, естественно). Этот конфликт с определенного момента стал особенно бередить бунтарское нутро Высоцкого. Причем взгляд на этот конфликт у него формировался под влиянием либеральных, а не державных воззрений, которые прямо вытекали из той среды, в которой он продолжал вращаться, – то есть среды по большой части интеллигентско-еврейской. Она включала в себя его родственников по линии отца, а также ближайшее окружение: семьи Утевских, Яковлевых, Абдуловых, Ардовых и т. д. Сюда же входила и студенческая среда – преподавательский состав Школы-студии МХАТ почти весь состоял из либеральной интеллигенции, вроде того же Андрея Донатовича Синявского, которого Высоцкий не просто любил, а боготворил.
Много жаргонных словечек, пригодившихся Высоцкому в его блатном творчестве, он почерпнул из общения со своим отцом и дядей (младшим братом отца) Алексеем, который жил на Украине – сначала в Гейсине, потом в Мукачеве, куда юный Высоцкий приезжал отдыхать. Оба Высоцкие-старшие любили блатные песни, особенно нэпманских времен. Например, от них он узнал и выучил куплеты Зингерталя «На еврейском, на базаре», которые впоследствии использовал в спектакле Театре на Таганке «10 дней, которые потрясли мир» (правда, несколько изменив начальные строчки – заменив «еврейский базар» на «Перовский»).
Короче, Высоцкий должен был прийти в блатную тему, и он в нее пришел. Это было предопределено с самого начала, чего сам он, кстати, не скрывал. Еще на заре своей песенной карьеры он сочинил песню под названием «Сорок девять дней», которую можно смело назвать гражданско-патриотической: в ней речь шла о подвиге четырех советских моряков, которые волею судьбы оказались на барже в открытом море и продержались там 49 дней, пока к ним не пришла помощь. Однако эта песня оказалась единственной в своем роде и по сути была «проклята» Высоцким с самого начала. Вот как он сам охарактеризовал ее тогда же, выведя недрогнувшей рукой следующее резюме: «Пособие для начинающих и законченных халтурщиков». И далее: «Таким же образом могут быть написаны поэмы о покорителях Арктики, об экспедиции в Антарктиде, о жилищном строительстве и о борьбе против колониализма. Надо только взять фамилии и иногда читать газеты».
Таким образом, уже тогда Высоцкий выразил свое главное творческое кредо – никаких сделок с официозом. Отметим, что кредо это родилось на фоне поистине грандиозных свершений, которые тогда происходили в СССР и которые многих сверстников нашего героя вполне искренне завораживали. Например, в тех же газетах и журналах публиковались весьма простенькие стихи непрофессиональных поэтов, которые славили многие тогдашние начинания: целину, освоение космоса, ту же борьбу с преступностью и т. д. и т. п. Взять, к примеру, будущего коллегу Высоцкого по «Таганке» Леонида Филатова. В конце 50-х он подвизался писать в одной из ашхабадских газет (он жил там до своего переезда в Москву) гражданско-патриотические басни, призывающие молодых людей осваивать самые разные профессии. Другой их будущий коллега по актерскому цеху – Георгий Бурков – в те же годы задумал писать трактат о… грядущей победе коммунизма. Короче, многие молодые люди в те годы были по-настоящему увлечены пафосом грандиозного строительства, которое велось в СССР. Однако Высоцкий этого энтузиазма оказался практически начисто лишен, о чем наглядно свидетельствует история с песней «Сорок девять дней». Зато блатная тема захватила его, что называется, с головой.
Есть масса свидетельств того, что многим людям, кто слушал ранние песни Высоцкого, они нравились (будь иначе, наш герой вряд ли бы стал это дело продолжать). Причем в числе его почитателей были не только люди простые (что называется, «от сохи»), но и достаточно образованные. Среди последних, например, был уже упоминавшийся выше педагог Высоцкого в Школе-студии и будущий известный диссидент Андрей Синявский. По словам однокурсницы Высоцкого М. Добровольской:
«Синявский весьма ценил эти первые песни Володи. „Это был воскресный день“ или „Татуировка“… Да, ведь Андрей Данатович вместе с женой Марией Розановой сами прекрасно пели блатные песни!
Синявский был большим знатоком и ценителем такого рода народного творчества, и именно это он ценил в Володе. Как мне кажется, именно Синявский заставил Высоцкого серьезно этим заниматься… Он считал, что Володино раннее творчество ближе к народному. И до сих пор – мы недавно с ним разговаривали – Андрей Данатович думает, что это у Володи самое главное, настоящее…»
Обратим внимание на последнее утверждение. Синявский считал настоящим в творчестве Высоцкого блатной репертуар, а, скажем, не военный. Это не случайно, учитывая то, что для многих либерал-интеллигентов военная тема была поистине ненавистной. Особенно заметно это стало с середины 60-х, когда кремлевское руководство, возвращая руль государственного управления в державно-патриотическую сторону, стало повышенное внимание уделять теме Великой Отечественной войны (именно тогда был возвращен из опалы маршал Г. Жуков, открыт мемориал Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, стал широко отмечаться праздник 9 Мая и т. д.). С этого момента либералы объявили открытую войну советскому военному официозу, противопоставив ему свой ответ – так называемую «окопную правду». Песни Высоцкого о войне по сути родились из этого ответа, но, как видим, они не всех либералов удовлетворяли. Для того же Синявского они, оказывается, были «не самыми настоящими».
Возвращаясь к блатным песням Высоцкого, отметим, что сам он отдавал им должное, считая их прямым мостиком к своим последующим, более серьезным произведениям. По его словам (сказанным им за два года до смерти):
«Я начал со стилизации так называемых „блатных“ песен. Они мне очень много дали в смысле формы. Меня привлекала в них несложная форма с весьма незатейливой драматургией и простой идеей – без хитрого и сложного подтекста. Эти песни окрашены тоской по человеческой близости. Окуджава, который писал иные песни, выражал эти чувства другими средствами. Я же (сам, кстати, выросший на задворках) отражал в песнях „псевдоромантику“ и брожение беспокойного духа пацанов проходных дворов».
Об этом же и слова второй супруги Высоцкого Людмилы Абрамовой: «А почему он начал писать песни, которые – Володя Высоцкий? А что делать актеру, когда ему нечего играть? А что делать Актеру с самой большой буквы – Великому Актеру! – когда ему нечего играть? Он сам себе начал делать репертуар. То есть не то чтобы он делал его сознательно: „Дай-ка я сяду и напишу себе репертуар…“ Так не было. А вот когда есть потребность себя высказать, а негде: в „Свиных хвостиках“, что ли, или в „Аленьком цветочке“ (в перечисленных спектаклях Театра имени А. Пушкина Высоцкий играл в массовке. – Ф. Р.)? Вот он и зазывал своих друзей, придумывал всякие штучки-дрючки, чтобы актеры похохотали. Это не уровень актерского творчества, это уровень актерских забав. А кто бы ему написал такую пьесу, да еще гениальную, про то, как шли в Монголию, про двух «зека»? Кто? Да еще дал сыграть одного «зека», да другого, да повара с половничком? Кто бы ему тогда написал пьесу про штрафников?»
Безусловно, что Владимир Высоцкий искал самовыражения как актер, но на сцене этого не находил. Ведь в Театре миниатюр были задумки поставить спектакль по его песне «Татуировка», но дальше проекта дело так и не пошло, поскольку организаторы этого действа вовремя осознали, что власти вряд ли разрешат подобную постановку, как пропагандирующую блатную романтику. Поэтому единственным средством самовыражения для Высоцкого оставалось его песенное творчество, ведь песни его были нечем иным, как своеобразными мини-спектаклями.
Была еще одна причина, по которой Высоцкому самой судьбой была уготована участь петь блатные песни, – голос «с трещиной». Человек с таким голосом, кажется, был просто рожден для того, чтобы петь «Нинку» или «На Большом Каретном». И не зря поэтому сам Высоцкий, отвечая в июне 70-го на вопрос анкеты: «Чего больше всего боитесь в жизни», ответил: «Потери голоса».
А мы-то, пацаны 60-х–70-х, слушая песни Высоцкого, думали, что голос его не иначе как «пропитой». Да и сам Высоцкий как-то однажды рассказал следующее: «Я со своим голосом ничего не делаю, потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда-то вот таким маленьким пацаном и читал стихи каким-то взрослым людям, они говорили: „Надо же – какой маленький, а как пьет!“ То есть у меня всегда был такой голос – как раньше говорили, „пропитой“, а теперь из уважения говорят – с „трещинкой“.
Когда в 56-м Высоцкий поступал в Школу-студию, о нем тогда говорили: «Это какой Высоцкий? Хриплый?» И Высоцкий тогда пошел к профессору-отоларингологу, и тот выдал ему справку, что голосовые связки у него в порядке и голос может быть поставлен. А то не видать бы Высоцкому актерской профессии как собственных ушей.
Но вернемся в начало 1962 года, когда песни Высоцкого начинают широко гулять по Москве и ее окрестностям, а то и дальше. Слава эта самого молодого певца пугает, и не случайно: дело в том, что именно тогда начались официальные «наезды» на гитарную песню, которые во многом были вызваны повышенным интересом к ним западных идеологов. Главным объектом нападок стал кумир Высоцкого Булат Окуджава – наиболее талантливый исполнитель из числа либерал-еврейской интеллигенции.
Кампания в прессе против него началась в конце ноября 1961 года, когда в ленинградской газете «Смена» была опубликована большая статья И. Лисочкина под названием «Цена шумного успеха», которую весьма оперативно – 6 декабря – перепечатала центральная и многомиллионная «Комсомольская правда». Автор заметки, побывав на концерте Окуджавы в ленинградском Дворце искусств имени К. С. Станиславского, так описывал увиденное (привожу рассказ с некоторыми сокращениями):
«И мы пошли, судьбы своей не чая, не подозревая того, что налицо окажутся все компоненты „литскандала“. Двери дворца были в этот день уже, чем ворота рая. Здесь рвали пуговицы, мяли ребра и метался чей-то задавленный крик: „Ой, мамочка!..“ Поскольку по непонятной причине пропусков оказалось по крайней мере в три раза больше, чем мест в зрительном зале, и большое число желающих так и не смогло проникнуть внутрь дворца, есть смысл рассказать о том, что происходило дальше за его закрытыми дверями…
На сцену вышел сам поэт – довольно молодой темноволосый человек с блестящими глазами. Он прочел первое стихотворение «Не разоряйте гнезда галочьи…». В зале воцарилась неловкая тишина. Прочел «Стихи о Родине». Опять тишина. «Двадцатый век, ты страшный человек» – тишина снова. После «Осени в Кахетии» один из слушателей, не выдержав, хлопнул в ладоши, и поэт застенчиво сказал:
– Не надо…
Пятое стихотворение «Воспоминание о войне» понравилось. Похлопали. Так и пошло. Тому, что нравилось, хлопали, тому, что не нравилось, – нет. «Шумного успеха» не было. Было ощущение большой неловкости и, если хотите, стыдности того, что происходило и происходит. В зале сидели мастера искусств, люди, великолепно знающие настоящую поэзию, огромную, великую, необозримую, которая бурей врывается в сердца и умы. Рассчитывать на то, что они начнут рыдать от игриво-салонного «Я надышался всласть окопным зельем», было несерьезно.
Стихи сменились «напеванием». Это несколько оживило обстановку. Во втором отделении из публики требовали откровенно кабацких «Петухов», а автор лукаво утверждает, что он забыл текст и что эта песня ему уже не нравится.
А потом все кончилось. Мнения после концерта высказывались разные. Один бросил категорично и зло:
– Ерунда и шарлатанство!