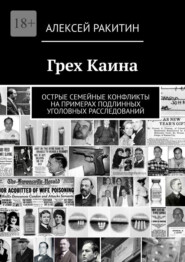скачать книгу бесплатно
Впрочем, тут мы немного забежали вперёд. Мальчик прошёл долгий курс реабилитации, во время которого не мог посещать школу. Учился он по учебникам самостоятельно, кроме того, предоставленный самому себе на долгие часы, имел возможность много читать. Тяга к чтению всемерно поощрялась родителями, благо отец, как уже было отмечено, сам занимался самообразованием и считал, что оно способно заменить формальное обучение в школе и университете. Тяжелая болезнь, связанные с нею страдания, одиночество и тяга к чтению обусловили формирование у юного Фрица Ангерштейна довольно специфического характера – он рос нелюдимым, задумчиво-мрачным, целеустремленным и настойчивым. За внешней сдержанностью и малообщительностью, однако, скрывался темперамент взрывной и малоуправляемый.
К 1905 г. Фриц восстановился уже в полной мере. В свои 14 лет он превратился в достаточно высокого для того времени (рост 168 см) сутулого юношу, экстерном сдавшего учебный курс средней школы. У него не было друзей-сверстников – он просто не успел их найти ввиду болезни и лечения, – а потому подросток оказался лишён многого из опыта социализации мальчиков. Конечно, этот недостаток он компенсировал вежливостью и воспитанием, но некоторые аспекты поведения в обществе нужно постигать только личным опытом, не так ли? У Фрица всю жизнь были проблемы с женщинами и корни этого, видимо, уходили как раз в пору юности. Школьное образование его в возрасте 14 лет было закончено, отец решил, что сын получил уже достаточно академических знаний и пора начинать приносить в дом деньги.
Что и говорить, подход был по-немецки рационален и даже циничен, но для того времени это считалось нормой. Многие сверстники Фрица в этом возрасте бросали школы и шли обучаться ремеслу: плотничать, столярничать, класть кирпич… Поскольку Фриц фактически был инвалидом и не мог выполнять тяжёлую физическую работу, отец договорился, чтобы его взяли на обучение в страховую компанию.
Устроили Фрица учеником сюрвейера, особого человека, проверяющего и оценивающего имущество перед заключением договора страхования. Опыт этот оказался очень полезен – Ангерштейн увидел страховой бизнес изнутри, приобщился к азам работы финансовых компаний, понял как и из чего делаются деньги. Работа помогла молодому человеку завести полезные связи, поскольку его семья была хорошо известна в округе, а теперь и он сам вступал в деловые отношения с местными жителями. Набравшись опыта, Фриц был допущен к самостоятельной работе и несмотря на отсутствие специального бухгалтерского образования, дела у него пошли очень даже неплохо. Главная проблема в жизни Фрица Ангерштейна того времени заключалась, пожалуй, в его одиночестве. У него не было друзей, ему не с кем было пропустить кружечку-другую пива вечером трудного дня, а старшие сёстры и братья мало могли ему в этом помочь – у всех была своя жизнь.
Впрочем, к двадцати годам Фриц вроде бы отыскал человека, способного скрасить его одиночества, но выбор этот, как показали дальнейшие события, явился главной ошибкой всей его жизни.
Ангерштейн познакомился с Кетэ Барт в 17 или 18 лет, когда явился осмотреть дом, в котором проживала семья девушки, с целью его последующего страхования. Кетэ была на год младше Фрица. Довольно долго встречи их носили характер эпизодический и ничего не значащий. Лишь в 1911 г. Фриц активизировался и стал ухаживать за девушкой так сказать формально, т.е. назначать свидания, провожать и демонстрировать символические знаки внимания. Женитьба, наверное, могла бы помочь Фрицу обрести душевный комфорт, но в качестве объекта своей привязанности молодой человек выбрал девушку, мягко говоря, неподходящую.
Трудно сказать, что именно с Кетэ Барт было «не так», но девушка была явно проблемная и проблемы эти лежали в области психиатрии. Наверное, сейчас бы ей поставили диагноз шизофрения, но в первом десятилетии 20-го века не существовало ни этого термина, ни понятия об этой болезни. То, что сейчас понимают под шизофренией, тогдашняя психиатрия разделяла на несколько различных заболеваний. Нельзя исключить того, что причина расстройства здоровья Кетэ крылась в дурной наследственности и отклонения в её поведении были связаны вовсе не с душевной болезнью, а органическим поражением мозга.
Впоследствии – т.е. уже после убийства матери и дочери – высказывались предположения о том, что Катарина, мать Кетэ, в дни молодости занималась проституцией и если в те годы она перенесла венерическую болезнь, то вызванные ею осложнения вполне могли передаться детям. Не будем забывать, что речь идёт о 19-м столетии, то есть таком времени, когда лечение сифилиса ртутьсодержащими препаратами подрывало здоровье лишь немногим менее самой болезни. К сожалению, о молодых годах Катарины Барт известно крайне мало, имеются лишь невнятные свидетельства о её высоком росте, красоте, властном характере… Дамочка эта умела управляться с мужчинами и тем удивительнее то обстоятельство, что по меркам своего времени замуж она вышла довольно поздно – аж в 27 лет! – а детей рожала ещё позже (всего Катарина родила четырёх девочек). В общем, нельзя исключать того, что проблемы Кетэ связаны не лично с нею, а лишь являются следствием бурной молодости матери.
Вернёмся, впрочем, к Кетэ. Девушка никогда не обследовалась у психиатров, а потому и считалась по умолчанию здоровой. Между тем, это было совсем не так. Настроение девушки было подвержено резким переменам, она время от времени переживала странные обморочные состояния, надолго отказывалась от еды и без всяких внешних причин подолгу испытывала тоскливое раздражение. Иногда же она, наоборот, без всяких внешних к тому предпосылок словно расцветала и её начинала переполнять энергия. «Я питаюсь солнечным светом», – написала Кетэ в одном из своих писем Фрицу и обстоятельства её жизни заставляют думать, что фразу эту следует понимать буквально. Девушка действительно надолго отказывалась от еды, её обуревали весьма странные фантазии, вроде, купания в лесном ручье, переезда для постоянного проживания на ледник в Швейцарию и т. п.
Неудивительно, что её здоровье было расстроено и в части женской физиологии (как раз удивительным оказалось бы то, если бы в этом отношении она была здорова). Кетэ не могла забеременеть, а если всё-таки зачатие изредка происходило – то не могла выносить плод. За 13 лет супружества она не смогла родить ни одного ребёнка и пережила по меньшей мере 6 выкидышей, что разрушительно сказывалось как на её физическом здоровье, так и психоэмоциональном состоянии. У Кетэ выпали зубы, она рано превратилась в измученную жизнью старушку, хотя на момент убийства была сравнительно молода (всего-то 32 года). Такая женщина не была счастлива и не могла сделать счастливым другого.
К сожалению, Фриц во время ухаживания не сознавал тяжести возможных последствий оного и никто из близких не указал ему на опасность необдуманного выбора такой жены. После довольно краткого, уложившегося всего три месяца, периода ухаживаний Фриц и Кетэ сочетались браком. Во многом период ухаживаний явился обычной данью провинциальному пониманию приличий, а потому Фриц не понял некоторых важных деталей, которые впоследствии стали неотъемлемым элементом его семейного быта. Прежде всего, Кетэ находилась под каблуком своей матери Катарины Барт, которая позволяла себе вмешиваться в её жизнь бесцеремонно и по любому поводу. Бессловесная и безвольная Кетэ так и не сделалась полноценной хозяйкой дома и после женитьбы Фриц с удивлением понял, что всем в его семье заправляет тёща. Со стороны можно было подумать, что Фриц женился вовсе не на Кетэ, а на её матери.
Но это было только полбеды! Другая проблема заключалась в том, что Катарина, подобно дочери, тоже вряд ли была вполне здорова психически. О возможном занятии ею проституцией в молодые годы упомянуто выше – это неизвестно достоверно, но ряд соображений заставляют думать, что дыма без огня не бывает. Катарина была не местной и никто толком не знал, где и как она провела свою молодость. Женщина была привлекательна и энергична, муж её – почтовый чиновник, – умер сравнительно молодым в возрасте 42 лет. Самое интересное в этой связи заключается в том, что Катарина постоянно нанимала в качестве домашней обслуги одиноких женщин средних лет, предлагая полный пансион, т.е. проживание под одной крышей. Периодически она заменяла обслугу… Фриц Ангерштейн рассказывал родным, что был очень недоволен работой этих женщин, которые всегда были плохими кухарками и неряшливыми горничными, но… их почему-то очень любила Катарина. Она не позволяла их увольнять и вела себя как работодатель этих женщин, хотя расплачивалась деньгами Фрица.
Трудно удержаться от подозрения, что отношения Катарины с женской обслугой были весьма и весьма далеки от деловых. В противном случае трудно понять странность предпочтений тёщи. Сам Ангерштейн никаких подозрений насчёт сексуальных наклонностей Катарины не высказывал, возможно, ему просто не приходили в голову мысли такого свойства. Жизненного опыта не хватало, элементарных для взрослого мужчины знаний, наконец, рядом с ним просто не оказалось людей, которые могли бы направить его размышления в нужное русло…
Поэтому когда Фриц сделался мужем Кетэ, то получил весьма и весьма неприятный «довесок» в виде наглой нахрапистой тёщи. Однако, этим список малоприятного «приданого» не исчерпывался. Ангерштейну пришлось терпеть в доме присутствие и младшей сестры своей жены – Эллы Барт. Элла на момент свадьбы была милым ребёнком, ей исполнилось тогда всего 5 лет. Сама по себе девочка злой не была и заметных проблем, наверное, не создавала, но по мере взросления ситуация менялась. Проблемы, связанные с материальным обеспечением Эллы незаметно, но прочно, оказались возложены на Фрица. Когда девочка подросла, именно ему пришлось изыскивать деньги на оплату её содержания в пансионе для девочек и всевозможные сопутствующие расходы.
В каком-то смысле положение Фрица Ангерштейна очень напоминало то, в котором оказался поэт Александр Пушкин после бракосочетания с Натальей Гончаровой. Пушкин, как известно, женился по любви, но он не только взял бесприданницу (приданое Натальи он тайно вручил её матери перед свадьбой, так что в виде приданого фактически получил обратно свои же собственные деньги!), но и надел на себя тяжкое ярмо в виде нищих родственников. Две сестры Натальи жили в петербургской квартире поэта, создавая весьма заметные бытовые обременения. Достаточно сказать, что Наталья – фактически хозяйка дома! – была вынуждена спать в проходной комнате… Вообще, бытовые условия Александра Сергеевича Пушкина являются чрезвычайно любопытной темой, всем, кто не в курсе, автор настоятельно рекомендует при первой же возможности сходить на экскурсию в Музей поэта на набережной Мойки в Санкт-Петербурге… узнаете очень много неожиданного про жизнь камер-юнкера николаевской эпохи и величайшего поэта России.
Так вот Ангерштейн оказался в положении, сильно напоминавшем положение Пушкина. Фриц постоянно работал, и вроде бы, неплохо зарабатывал, но деньги постоянно куда-то уходили. Кетэ не была полноценной хозяйкой дома и во всём полагалась на руководство матери, а мать, т.е. тёща Фрица, чужих денег не считала. Фрицу постоянно надо было что-то оплатить, погасить долг, внести платёж за рассрочку и т. п.
В общем, молодой человек, женившись, сильно просчитался и эта ошибка чёрной кляксой отметила всю его последующую жизнь.
При этом карьера Фрица складывалась неплохо. Поработав почти 10 лет в страховом бизнесе, он получил весьма выгодное предложение устроиться по схожей специальности в крупной компании «Нассаухше Бергбау АГ» («Nassauische Bergbau AG»). Это был консорциум предприятий добывающей промышленности, продукцией которых являлись рудные полезные ископаемые: железо, свинец, цинк. «Нассаухше Бергбау АГ» была в числе первой сотни стратегических компаний кайзеровской Германии, ковавших перед Первой Мировой войной могущество этого «локомотива Европы».
Ангерштейн устроился инспектором шахтного оборудования и со своим опытом сюрвейера оказался очень востребован. В его задачу входило оценивать состояние техники и давать рекомендации руководству компании по страхованию рисков (страхование было обязательно). Несмотря на молодость – ему шёл всего лишь 23-й год, – Фриц выполнял важную работу и пользовался уважением коллег. После начала Первой Мировой войны он избежал мобилизации ввиду перенесенного туберкулёза и операции и спокойно продолжал работу в тылу. Поскольку предприятия «Нассаухше Бергбау АГ» располагались по всей стране, Ангерштейну приходилось проводить много времени в командировках, что было выгодно в материальном отношении и служило прекрасным поводом для того, чтобы подолгу уезжать от семьи.
Впоследствии Фриц признавался, что годы работы в «Нассаухше Бергбау АГ» явились лучшей порой его жизни. Однако, с работой на выезде пришлось в 1917 г. покончить. Дело заключалось в том, что лазание по шахтам негативно отразилось на здоровье Фрица – всё-таки у него была сильно повреждена дыхательная система и для поддержания здоровья важно было избегать условий, чреватых легочными осложнениями. Понятно, что плохо вентилируемые, сильно запыленные и загазованные шахты самым пагубным образом влияли на здоровье Ангерштейна.
Руководство компании с пониманием отнеслось к проблемам перспективного сотрудника. Фрицу было предложено возглавить небольшое подразделение, занимавшееся добычей известняка немного южнее Хайгера. Строго говоря, там располагались три карьера, двумя из которых Ангерштейну предложили управлять (третий не принадлежал «Нассаухше Бергбау АГ»). Хайгер располагался поблизости к родному Диллендорфу, где проживали члены семьи Ангерштейна, так что предложение следовало признать выгодным во всех отношениях. Тем более, что компания-работодатель оплачивала переезд и предоставляла для проживания вполне достойный двухэтажный дом. Правда, первый его этаж должен был использоваться как служебное помещение, но это была нормальная для того времени практика. Многие магазины, банки, разного рода конторы обустраивались по такому же принципу – наверху жили сотрудники, а внизу располагались служебные помещения. Летом 1917 г. Фриц вместе с женою, тёщей и служанкой перебрался в Хайгер. Элла Барт, младшая сестра жены, в то время училась в гимназии и жила на полном пансионе отдельно.
Поражение кайзеровской Германии в Первой Мировой войне, революционные мятежи, последующее крушение монархии и становление Веймарской республики, самого, пожалуй, демократичного государства в мире вплоть до 1933 г., на укладе жизни Фрица Ангерштейна почти не отразились. Карьер не прекращал работу, строительные материалы оставались востребованы несмотря на послевоенный экономический кризис, так что Ангерштейн прожил несколько лет относительно благополучно.
Но в 1920 г. над «Нассаухше Бергбау АГ» стали сгущаться тучи. Экономический спад привёл к уменьшению закупок продукции компании промышленностью и руководство решило оптимизировать структуру бизнеса. Для этого следовало избавиться от непрофильных активов и известняковые карьеры в Хайгере относились к их числу. Покупателем явился крупный предприниматель ван дер Ципен, владевший уже аналогичным карьером. Сделка состоялась в 1921 г. и новый хозяин поначалу полностью сохранял все те условия, на которых Ангерштейн работал ранее. За ним даже остался дом в Хайгере, в котором Фриц и его семья продолжали жить фактически без арендной платы.
Однако, со временем новый хозяин принялся «закручивать гайки», объясняя это тем, что развитие бизнеса требует инвестиций и всемерной экономии. Трудно сказать, насколько ван дер Ципен был честен с подчинёнными, но фактом является то, что общая обстановка в стране никак не способствовала равномерной загрузке производства. В 1922 г. в Германии стала раскручиваться инфляционная спираль, что быстро отразилось на экономической ситуации. Предприятия сначало пытались приспособиться к росту цен, а затем начали закрываться и объявлять локауты (массовые увольнения). В течение года денежная масса в обороте увеличилась в 92 раза, розничные цены – в 185 раз, а курс доллара США – в 230. Если в 1921 г. 1$ стоил 190 марок (осредненно за год), то в январе 1923 г. – уже более 4300 марок. Все эти явления, хорошо известные жителям современной России, вызвали вполне очевидную цепь событий: производство стало снижаться, а сбережения населения и банковский капитал «побежали» в ликвидные деривативы, не подчинявшиеся властям Веймарской республики, т.е. в иностранную валюту, драгоценные металлы, ювелирные украшения.
Осенью 1923 г. грянул т.н. гиперинфляционный кризис, страна в течение нескольких месяцев пережила одну из самых катастрофичных инфляций в истории современной цивилизации. К концу ноября того года 1$ стоил 8 млрд. марок и это был отнюдь не потолок! Через месяц, к Рождеству 1923 г., на пике цен буханка хлеба продавалась за 430 млрд. марок, а 1 кг. сливочного масла – за 6 трлн. марок. Проезд в трамвае оставался сравнительно дёшев – всего-то 150 млрд. марок. Самая крупная в наличном обороте банкнота имела номинал 100 трлн. марок, что примерно соответствовало цене 25$ при покупке в коммерческом банке (на чёрном рынке доллар стоил дороже).
Первое немецкое моторизованное такси, фактически мотоцикл с коляской. После Первой мировой войны уровень благосостояния в Германии, несмотря на значительные репарационные выплаты, восстановился довольно быстро. В начале 1920-х гг. казалось, что страна встала на путь устойчивого роста благосостояния населения, явственным признаком которого явилось появление во многих городах Германии служб заказа такси. Однако в 1923 г. Веймарская республика оказалась ввергнута в жестокий кризис…
Вообще, обстановка в Германии той поры отлично описана в романах Ремарка…
В стремительно ухудшающихся условиях ведения бизнеса ван дер Ципен наделил Ангерштейна большими полномочиями по регулированию отношений с рабочими и клиентами. Но… возложив новые обязанности и предоставив новые возможности, забыл увеличить заработную плату. Фриц, считая, что хозяин его обманывает и фактически эксплуатирует его навык ведения дел, принял меры для должного «вознаграждения» самого себя. Начиная с первой половины 1923 г. он принялся искажать отчётность, завышая выплаты рабочим и занижая истинные объёмы некоторых поставок продукции. Получавшуюся маржу он клал себе в карман. Вполне возможно, что грешить этим Ангерштейн начал гораздо ранее, но аудитор, проверявший документы компании, видел лишь отчётность за полтора года. Провести же полную ревизию документации предприятия не представлялось возможным по причине её гибели в огне 1 декабря.
В условиях гиперинфляционного обвала Директор Имперского банка Ялмар Шахт, один из отцов будущего нацистского «экономического чуда», решился на меры шоковой терапии. В начале 1924 г. по его инициативе в оборот была введена новая валюта, т.н. «рентная марка», чей курс был жёстко привязан к курсу американского доллара (он составлял 4,2 марки за 1$). «Старые» кайзеровские марки обменивались на новые из расчёта 1 трлн. «старых» марок за 1 рентную.
Зарплата Ангерштейна в новых экономических реалиях составила 390 марок в месяц. Фриц считал её неадекватной и жаловался знакомым и братьям на скаредность ван дер Ципена. Насколько эти жалобы были оправданны, судить сложно, ведь Ангерштейн проживал в большом доме, не платя никакой арендной платы. Он оплачивал коммунальные платежи, как мы сказали бы сейчас, т.е. личное потребление электроэнергии, угля и воды. Для сравнения можно указать величину заработной платы балетмейстера театра в Марбурге в том же 1924 г.: таковая составляла 3500 рентных марок в год, т.е. 290 в месяц.[2 - Можно привести другое сравнение, показывающее адекватность заработка Ангерштейна условиям того времени. В июне 1929 г. английский шифровальщик из управления связи «Форин оффиса» Эрнест Олдхэм сделал попытку предложить свои услуги советской разведке. Доблестные чекисты, выученики Троцкого и Дзержинского, «кинули» бедолагу – шифр скопировали, а денег не заплатили, буквально вытолкав взашей потенциального агента-«инициативника». Впоследствии советская разведка поняла степень допущенной ошибки и с Олдхэмом было решено восстановить контакт. При первой встрече сотрудник советской разведки передал ему конверт с суммой эквивалентной 400$ – это была плата за шифр и компенсация за проявленное к англичанину неуважение. Зарплата шифровальщика в пересчёте на американскую валюту составляла тогда немногим более 2$ в неделю. Всего же Олдхэм за 4 года работы на Советский Союз получил 10 тыс.$, что, правда, не сделало его счастливым: в сентябре 1933 г. он покончил с собою, отравившись газом. Нас в данном случае интересует порядок денежных сумм, фигурирующих в печальной истории английского агента – сотрудник внешнеполитического ведомства, пусть и в маленьком чине, служил на ответственном посту за менее чем 10$ в месяц!] Нельзя не признать того, что на фоне такого заработка доход Ангерштейна смотрелся весьма достойно.
Тем не менее, денег Фрицу, судя по всему, действительно не хватало. И происходило это из-за наличия рядом с ним «семьи». Слово это взято в кавычки неслучайно – эту ораву сумасшедших женщин сложно называть семьёй в точном значении слова.
Обстановка в «семье» в последние годы сделалась совершенно депрессивной. Кетэ, жена Фрица, стала демонстрировать признаки истероидной психопатии (термин «психопатия» употреблён сейчас не в криминально-психологическом его понимании, а в чисто клиническом). Женщина переживала периоды затяжных депрессий, объясняя происходившее с нею самыми разными причинами: то она сетовала на собственную неспособность родить любимому мужу ребёнка, то страдала от болей в желудке, почках, позвоночнике или ужасных мигреней, то заявляла, что она – плохая дочь, не оправдавшая надежд матери. В её мозгу постоянно генерировались новые поводы для разнообразных страданий. Причём, мучения эти не должны служить поводом для улыбки или вызывать сомнения в искренности женщины – нет! – Кетэ на самом деле страдала. У неё открывалась кровавая рвота, не позволявшая по несколько суток принимать пищу, исчезали месячные, либо наоборот, открывались совершенно ненормальные менструальные кровотечения… Доктор, наблюдавший состояние Кетэ на протяжении почти 5 лет, заявил во время следствия, что женщина действительно переносила немалые мучения и о симуляции не может быть и речи. Но страдания её имели природу не физическую, а психическую, то есть, её желудок, почки и прочие органы оставались всё это время совершенно здоровы.
Ещё в 1921 г. – т.е. на 10 году супружества, – Кетэ предложила Фрицу развод, дабы тот мог найти новую женщину и стать отцом. Фриц благородно отказался. Почему он так решил, сказать сложно. С одной стороны, Фриц явно относился к Кетэ очень по-доброму и дорожил ею. С другой, не подлежит сомнению, что к тому времени он уже изрядно «наелся этой холодной перловой кашей», если пользоваться образным сравнением американского писателя Роберта Янга. К тому времени никаких иллюзий насчёт будущего счастья у Фрица быть уже не могло. Тем не менее, он не пожелал отделаться от жены что называется «малой кровью», хотя такой выход из положения был бы оптимален для всех.
О мотивации Ангерштейна, далеко не очевидной во многих случаях, мы поговорим ещё особо, пока же просто зафиксируем факт его нежелания разводиться с женою. Его ответ подтолкнул размышления Кетэ в направлении избавления от страданий и она… решила покончить с собою. Вполне понятный на первый взгляд ход мысли, вот только женщина и в этом сумела отыскать выход извращенно-ненормальный. Кетэ предложила Фрицу свести счёты с жизнью вместе с нею. Дескать, чтобы ты не страдал из-за моей смерти, давай умрём вместе.
Фриц подумал, подумал и… согласился. Летом того же 1921 г. он вместе с женой предпринял попытку утопиться в одном из горных озёр. Из этого ничего не вышло – когда они вошли в воду по горло с Кетэ приключилась истерика, она потеряла сознание и Фрицу пришлось её спасать. С точки зрения современного человека вся эта история звучит не просто противоречиво или недостоверно, а по-настоящему бредово и совершенно бессмысленно. Но сомневаться в том, что эти события действительно произошли, вряд ли следует.
Дело в том, что в день неудавшегося самоубийства супруги заехали к старшему брату Фрица, дом которого находился на пути в Хайгер. Брат видел портсигар с мокрыми деньгами, который Фриц взял с собою в воду, спрятав под майкой. Фриц рассчитывал, что деньги заберёт тот, кто будет вытаскивать его труп из воды – это будет своего рода плата за неприятный труд. История неудачного самоубийства, конечно же, рождает определенные сомнения в психическом здоровье самого Фрица Ангерштейна, поскольку нормальный человек вёл бы себя на его месте совершенно иначе и уж точно не полез бы топиться в озере вместе с нездоровой женой…
Родственники Фрица сообщили в декабре 1924 г. полицейским, что в 1923 г. имела место как минимум ещё одна попытка двойного самоубийства, но вполне возможно, что на самом деле таковых попыток было больше. Кетэ была нездорова и вряд ли могла остановиться самостоятельно, Фриц же не понимал, с кем имеет дело или попросту не находил рычагов воздействия на терявшую адекватность жену.
Другой проблемой, крайне обострившейся к концу 1924 г., явился конфликт Ангерштейна с тёщей из-за домашней прислуги. Минна Штоль, 44-летняя кухарка, чрезвычайно раздражала Ангерштейна. Кетэ жаловалась на пищу, приготовленную Минной, говорила, что не может её есть, чувствовала себя дурно и т. п. Фриц, будь его воля, давно бы рассчитал кухарку, но на защиту последней всякий раз горой вставал тёща. Почему Катарина Барт защищала кухарку, а не горячо любимую дочь, понять нельзя. Подоплёка этой странной интриги, видимо, никогда не будет раскрыта, поскольку все действующие лица, кроме Фрица, погибли в ночь на 1 декабря. Сам же Фриц в силу очевидных причин был заинтересован в том, чтобы представить события в выгодном ему свете.
Но как показал первый допрос раненого, тот не желал прислушиваться к голосу разума и полностью отрицал свою причастность к преступлению, вполне очевидную всем, кто хоть немного был знаком с теорией судебных доказательств. В принципе, Ангерштейна можно было судить уже при наличии одних только кровавых отпечатков пальцев на орудии убийства, но правоохранительным органам требовалось восстановить картину произошедшего. А сделать это без сотрудничества Фрица представлялось весьма затруднительно.
Трудно сказать, как развивались бы события далее, но… тут Судьба заложила очередной странный зигзаг и в конечном итоге ситуация получила в высшей степени неожиданное развитие.
Следственная группа собралась вечером 3 декабря для обсуждения дальнейших действий и, проводивший допрос Ангерштейна прокурор сделал краткое сообщение о полном нежелании подозреваемого давать признательные показания. Присутствовавший на этом совещании профессор Кильского университета Гюстав Донэ предложил довольно оригинальный способ подтолкнуть Ангенрштейна к сознанию. Ход размышлений профессора был примерно таков: подозреваемый является человеком рационально мыслящим, придерживающимся в любой нестандартной ситуации однажды продуманной и выбранной схемы поведения и если мы хотим получить его признание, нам надо сломать выработанную им модель принятия решений. Другими словами, Ангерштейна надо поразить доводами, которые он не сможет парировать, но доводы эти должны лежать не в плоскости юридически корректных улик – он их попросту не воспринимает – а должны опираться на «чистую науку». Рационально мыслящий Ангерштейн поверит «чистой» науке просто потому, что он привык ей верить.
Донэ предложил разыграть Ангерштейна и заявить тому, что получено совершенно неопровержимое свидетельство убийства им человека – изображение из глаза одной из жертв, т.н. оптограмма. Это фотография глазного дна, полученная особым способом, которая будучи предъявленной в суде, разрешит все сомнения присяжных. После некоторого колебания, члены следственной группы согласились с предложением профессора Донэ, которому и предстояло лично реализовать предложенную мистификацию.
О чём идёт речь?
Ещё в середине 19-го столетия судебные медики разных стран Европы обратили внимание на существовавшие в криминальной среде поверья или суеверия, связанные с тем, будто в глазах умирающего человека фиксируется изображение предмета, на который был направлен взгляд. С одной стороны, подобное казалось полнейшей глупостью и бессмыслицей, но с другой… уже получила широкое распространение фотография, фиксировавшая световой поток в тончайшем слое чувствительной эмульсии, и нельзя было исключить того, что человеческий глаз может в каком-то отношении вести себя подобно фотопластинке. По мнению учёных 19-го века глаз – это сложный орган, заполненный коллоидной жидкостью, передающей световой поток от хрусталика на зрительный нерв в донной части глазного яблока. В момент смерти химические процессы в глазу останавливаются и последнее изображение остаётся «законсервированным» на глазном дне. Такая механистическая теория была вполне в духе того просвещенного времени…
Первый достоверный случай попытки зафиксировать «застывшее в глазу» изображение относится к 1863 г., когда молодой английский фотограф Уилльям Уорнер (William Warner) заявил, будто ему удалось сфотографировать световое пятно, оставшееся в глазу умершего. Трудно сказать, мистифицировал ли Уорнер умышленно или он просто не понимал, с чем столкнулся, но его заявления о возможности «извлечь из глаза застывшее изображение» вызвали немалый переполох в бульварной прессе. Рассказы английского фотографа об успехах проведенных им экспериментов (так никогда и никем не подтвержденных) в немалой степени способствовали насаждению веры в реальность оптического феномена.
Видимо, по этой причине уже в следующем году прокурор Венеции официально обратился к местному фотографу Николо Алинари с просьбой попытаться получить изображение из глаз 3 человек, ставших жертвами тройного убийства. Это были члены семьи, убитые и ограбленные в один вечер и считалось, что они должны были видеть одного и того же преступника. Фотограф, стремясь оправдать возложенные на него надежды, использовал для фотосъёмки всевозможные приспособления и ухищрения. Однако, ни оптические линзы, ни гнутые зеркала, ни освещение различным цветом никакого практического результата не дали – изображений в глазных яблоках убитых не оказалось.
Информация о работе Алинари распространилась далеко за пределы Италии и уже в следующем – 1865 г. – парижский фотограф Бюрион (Bourion) представил на одном из научно-практических заседаний французского общества судебной медицины подборку из дюжины фотографий, якобы доказывавших долговременную фиксацию глазами умирающих людей неких оптических эффектов. Бюрион догадался вскрывать глазные яблоки, чтобы получить полный доступ к их донной части. Результат оказался, мягко говоря, неоднозначным. Какие-то изображения, вроде бы, на дне глазного яблока обнаруживались, но что они означают и действительно ли связаны с последним прижизненным взглядом, понять было трудно. Кое-кто высказал соображение, согласно которому, Бюрион использовал неверную технику работы с глазами и вся проблема упирается лишь в разработку надлежащей технологии обработки глаза. Дескать, теоретическое обоснование правильное, но надо научиться необходимым приёмам и методам работы.
Изыскания в этом направлении продолжили французские врачи Огюст Габриэль (Auguste Gabriel) и Максим Верно (Maxime Vernois). Последний, кстати, был довольно известным медицинским специалистом широкого профиля, помимо судебной медицины он работал в области гомеопатии, педиатрии, охраны труда. Верно вошёл в мировую историю медицины как врач, научно доказавший превосходство грудного молока над его искусственными аналогами. Считая, что оптограмма может быстро деградировать ввиду посмертного разрушения микроэлементов и окисления на воздухе при вскрытии глазного яблока, Верно и Габриэль разработали технологию обработки и консервации глаза, которая была призвана сохранять изображение. Для проверки предварительных выводов и отработки технологии, Верно последовательно умертвил 16 кошек и собак, после чего извлекал и исследовал их глаза. Во время смерти животных перед ними помещались хорошо освещенные предметы различной формы – круги, квадраты и пр.– которые должны были обеспечить получение чётких, хорошо распознаваемых оптограмм.
Результат работ, однако, не оправдал возлагавшихся надежд. Ничего похожего на светлые геометрические фигуры исследователи на дне глазных яблок убитых животных не обнаружили. В 1868 г. они представили научному сообществу доклад, в котором констатировалась полная безуспешность проведенных работ, и более к этой теме не возвращались.
На протяжении следующего десятилетия оптограммы продолжали оставаться одним из феноменов городского фольклора, пока в 1877 г. немецкий врач Вильгельм Кюне не заявил, что ему удалось получить подтверждение существования данного явления. Согласно утверждениям учёного, изучая устройство глаза умерщвленной в лаборатории лягушки, он увидел при сильном увеличении зафиксированное в области глазного нерва перевёрнутое изображение стены помещения, в котором находился. В этом изображении Кюне даже рассмотрел портрет, висевший напротив того места на столе, где находилась лягушка.
Надо сказать, что Вильгельм Фридрих Кюне (Wilhelm Friedrich Kuhne) являлся отнюдь не рядовым учёным, а человеком, обессмертившим своё имя открытием ферментов. С 1871 г. он руководил кафедрой физиологии в Гейдельбергском университете, одном из крупнейших центров академической науки того времени. Сообщение Кюне вызвало огромный интерес у криминалистов и судебных медиков всего мира. Участие крупного учёного в исследованиях таинственного явления, казалось, гарантировало их успех (тут можно заметить, что само слово «оптограмма» введено в оборот именно Кюне).
Вильгельм Кюне, выдающийся учёный, оставивший след в истории мировой науки. Сейчас мало кто знает, что на протяжении ряда лет он самым серьёзным образом изучал вопрос «извлечения из глаза застывшего в нём изображения» и верил в реальность такого процесса. Само слово «оптограмма» – т.е. изображение, зафиксированное на дне глазного яблока перед смертью – введено в оборот именно Кюне.
Учёный разработал собственную теорию появления оптограммы, согласно которой происхождение этого феномена связано с процессом обесцвечивания родопсина, светочувствительного белка, находящегося в особых палочках сетчатки глаза. Помимо упомянутого обесцвечивания (т.н. фотолиз) в ходе многообразных химических взаимодействий происходит и обратный процесс – т.н. регенерация родопсина. Высокая чувствительность родопсина к свету и огромное число палочек обеспечивает высокую детализацию изображения, которое в человеческом глазу полностью помещается на участке глазного дна, противолежащем хрусталику, размером всего 1,5 мм.*1,5 мм. В момент смерти все химические процессы останавливаются, после чего начинается деградация глаза (помутнение и высыхание), на этом этапе оптограмма может быть утрачена в силу естественных причин.
Кюне считал, что изображение с сетчатки глаза умершего может быть успешно снято, но это надлежит делать максимально быстро после смерти и в условиях, минимизирующих попадание света в глаз. Обработка глаза должна проводиться в условиях, напоминающих те, в которых работают со светочувствительными материалами фотографы, т.е. в тёмном помещении при неярком свете лампы, дающей красный свет (как вариант, Кюне считал возможным пользоваться лампой жёлтого цвета). В течение нескольких лет врач провёл ряд экспериментов с глазами различных животных и заявил, что ему удалось отработать на практике технику получения оптограммы. Требовалось поставить точку в научной работе Кюне, а именно – провести эксперимент с глазами умершего человека.
Оптограммы, зафиксированные Кюне в глазах подопытных животных – лягушек, кроликов и собак. Белые полосы – это различные световые фигуры, помещенные перед животными в момент умирания (умерщвлялись они очень быстро с использованием яда кураре). Надо поинмать, что изображения перевёрнуты, т.к. хрусталик действует подобно двояковыпуклой линзе. На втором слева изображении можно видеть окно лаборатории Кюне с расстекловкой на 9 стёкол.
Благодаря большому научному авторитету и личным связям в среде высшего чиновного аппарата, Кюне в 1880 г. получил возможность поставить эксперимент по фиксации оптограммы на человеке. В качестве первого подопытного объекта была использована… умершая жена самого Кюне. Правда, результат оказался неудовлетворителен, поскольку разрешение на извлечение глазных яблок из трупа, данное земельным министром юстиции, было получено с некоторой задержкой. С момента смерти женщины минули двое суток, прежде чем Вильгельм Кюне получил в своё распоряжение глаза жены. Оптограмму учёный зафиксировать не смог, объяснив неудачу промедлением с момента смерти и обусловленной этой задержкой необратимой деградацией родопсина в глазах. Кюне настаивал на повторении эксперимента, только на этот раз требовал предоставить ему «свежий» труп.
Министр юстиции снова пошёл навстречу знаменитому учёному. В качестве подопытного на этот раз был выбран ещё живой детоубийца Эрхард Рейф, которого согласно судебному приговору предстояло казнить путём декапитации (отсечения головы) в ноябре 1880 г. Он убил своих сыновей Вильгельма и Адольфа, утопив их в Рейне в местечке Махау, так что не будет ошибкой сказать, что Рейф был крайне несимпатичной личностью. Казалось символичным, что своей смертью убийца невольно поспособствует изобретению технологии, с помощью которой в будущем станут изобличать других убийц.
Казнь Рейфа была намечена на 16 ноября и Кюне получил возможность заблаговременно подготовиться к эксперименту. Учёный оборудовал лабораторию в одном из подсобных помещений в здании тюремной церкви, разместив там необходимое оборудование (медицинское, оптическое, фототехническое). В окна были вставлены красные и жёлтые стёкла, источником света должен был служить красный фонарь.
В ночь с 15 на 16 ноября приговорённый проспал лишь один час – с четырёх до пяти часов утра. Остальное время он читал и писал при свете сальной свечи. В 8 часов утра, с восходом Солнца, смертника вывели из камеры на плац, где уже стояла собранная гильотина.
Священник прочитал отходную молитву и благословил приговорённого. Во время этой процедуры Рейф несколько раз поднимал взгляд на священника, так что логично было бы ожидать, что именно лицо пастора окажется запечатлено оптограммой. После краткого духовного наставления на глаза Рейфу надели повязку и подвели к гильотине. Саму гильотину он видеть не мог, так как до этого стоял к ней спиной.
После отсечения Эрхарду Рейфу головы помощник Кюне тут же доставил её в заранее подготовленное помещение. Кюне лично снял с глаз повязку, хирургическим путём извлёк глазные яблоки и затем вскрыл их таким образом, чтобы получить доступ к глазному дну. По оценке Кюне уже через 10 минут с момента смерти Рейфа глаза последнего были подготовлены соответствующим образом к тому, чтобы зафиксировать на фотопластинку запечатленную в них оптограмму.
Кюне полностью выполнил весь технологический цикл, который сам же и разработал, получил оптограммы из обоих глаз и… не понял, что же на них видит. Вместо священника, на которого Эрхард Рейф смотрел в последние секунды до того, как ему завязали глаза, оптограмма изображала некое колоколообразное световое пятно, которое не только не походило на человека, но не соответствовало вообще ничему из того, что мог бы видеть Рейф в последние минуты жизни.
Вильгельм Кюне, крайне озадаченный полученным результатом, попросил провести его тем маршрутом, которым Эрхард Рейф шёл к гильотине. Эта экскурсия не помогла понять тайну изображения. Тогда Кюне стал демонстрировать полученные фотографии работникам тюрьмы, надеясь, что те сумеют объяснить какой же объект мог бы так выглядеть… Однако, никто из тюремщиков ничем помочь исследователю не смог. Отгадки так и не последовало.
Кюне был вынужден официально признать, что попытка зафиксировать оптограмму в «почти идеальных условиях» окончилась полным провалом. Даже если эффект посмертной фиксации изображения в глазу действительно существует, разработанная Кюне технология не позволяла этот эффект использовать практически. К чести Кюне следует, безусловно, отнести то, что он не стал делать тайны из своего провала и в обстоятельной статье изложил как ход эксперимента с глазами Рейфа, так и признал его безрезультативность. В дальнейшем Кюне к вопросу получения оптограмм не возвращался, хотя прожил ещё почти 20 лет, на протяжении которых вёл плодотворную научную работу.
Фрагмент одной из статей Кюне, в которой учёный показывает, как изменение размера зрачка влияет на оптограмму. Вводя подопытным животным атропин (с целью расширения зрачков) и быстро умерщвляя их ядом, Кюне фиксировал различные по степени детализации оптограммы. Это по его мнению доказывало объективное существование рассматриваемого феномена. Строго говоря, данное явление действительно имеет место быть и, возможно, с развитием медицинских технологий судебная медицина получит возможность извлекать образы из глаз умерших. Даже для нас, живущих в 21 столетии, такая технология представляется трудно достижимой, а уж в реалиях позапрошлого века это вообще кажется фантастикой покруче любых идей Жюля Верна…
Тем не менее, провал Кюне, признанный мировым научным сообществом, отнюдь не уничтожил городскую легенду, продолжавшую утверждать, будто в глазах убитого образ убийцы остаётся запечатлен навек. Люди малограмотные (и уголовники в их числе) продолжали искренне верить, что дыма без огня не бывает и что-то «такое хитрое» судебные медики умеют делать с глазами убитых… вот только не признаются в этом, чтобы преступники не прознали про это секретное оружие следствия.
Ярким примером живучести таких представлений может быть поразительная во многих отношениях история убийства в конце ноября 1927 г. английского полицейского Джорджа Уилльяма Гаттериджа. Последний остановил на просёлочной дороге в Эссексе автомобиль, угнанный получасом ранее сидевшими в нём Уилльямом Генри Кеннеди и Фредериком Гаем Брауном. Констебль услышал об угоне в участке перед тем, как отправиться в патрулирование, а потому, увидев подозрительных мужчин в машине, дал знак остановиться, попросил предъявить документы на транспортное средство и вытащил из кармана блокнот, чтобы записать номерной знак. Увидев, что полицейский собрался зафиксировать номер, Кеннеди вытащил револьвер и дважды выстрелил в голову стража закона, после чего с помощью Брауна оттащил тело с дороги и… выстрелил ещё дважды, выпустив пули глаза Гаттериджа. Убийца боялся, что его опознают по оптограмме!
При этом Кеннеди и Браун совершенно упустили из вида то обстоятельство, что в руках полицейского остались зажаты блокнот и карандаш. Между тем, именно эта деталь (а не мифическая оптограмма!) помогла следствию реконструировать картину произошедшего. Следователи поняли, что перед смертью Гаттеридж намеревался записать номерной знак автомашины, а стало быть, он явился жертвой автоугонщиков. Дальнейшие перипетии расследования оказались весьма интересны, но их детальное изложение выходит далеко за рамки нынешнего повествования. Можно лишь добавить, что в январе следующего 1928 г. преступники были схвачены и казнены в один день – 31 мая 1928 г.
Кстати, убийство констебля Гаттериджа интересно ещё и тем, что при его расследовании была назначена баллистическая экспертиза пуль, извлеченных из тела полицейского, и их сравнение с оружием, найденным при аресте подозреваемых. Экспертиза проводилась с использованием сравнительного микроскопа, позволявшего рассматривать одновременно два объекта. Это был новый для европейских криминалистов прибор (хотя к тому времени сравнительный микроскоп уже широко использовался в США). Его успешное применение в интересах ответственной экспертизы открыло дорогу для повсеместного внедрения в криминалистические лаборатории европейских государств этой ценной новинки.
Как видим, представления о «разоблачительной силе» оптограмм были не только очень живучи, но и широко распространены.
Поэтому задумка профессора Донэ разыграть Ангерштейна вовсе не выглядела заведомо провальной или бессмысленной – нет! – смысл она, безусловно, имела.
Так и решено было поступить. 4 декабря профессор явился в больничную палату, в которой под круглосуточным надзором полиции лежал раненый, представился и заявил, что исследуя глаза убитых садовника и его помощника, получил оптограмму, на которой хорошо видно, как Фриц Ангерштейн наносит удары топором. Это безусловно доказывает виновность Ангерштейна, а потому, если только тот желает сохранить себе жизнь, ему самое время задуматься над объяснением случившегося.
Раненый не проронил ни слова и остался совершенно бесстрастен, по крайней мере так казалось со стороны. Донэ решил не тратить время на убеждение, здраво рассудив, что излишняя словоохотливость может лишь усилить недоверие обвиняемого. Профессор повернулся и ушёл, оставив Ангерштейна наедине с тяжкими думами. Сам Донэ остался в твёрдой убеждённости, что замысел не сработал, однако события ближайших часов привели к совершенно неожиданной развязке.
После ухода Донэ из больницы к Фрицу явился его родной брат Зигфрид. До этого момента родственников не пускали к раненому, так что Зигфрид оказался первым, кто увидел его и получил возможность с ним поговорить. Брат ничего не знал о доказанной уже виновности Фрица и пребывал в твёрдой уверенности, что Фриц – чудом выжившая жертва нападения. Можно представить его изумление, когда в ответ на вполне безобидный тривиальный вопрос «что же там у вас случилось?» Фриц неожиданно расплакался и запричитал: «Они всё знают! Они всё знают!»
Эта сцена произошла на глазах полицейского в штатском, который стоял у дверей. Присутствие такого свидетеля не остановило Фрица, который заявил огорошенному брату, что он совершил все эти убийства потому, что не мог больше жить, как прежде. Таким образом замысел профессора Донэ сработал, хотя и с небольшой задержкой. Кстати, более Фриц Ангерштейн никогда не плакал, в дальнейшем он сохранял полное самообладание и никак не выражал свои чувства.
Понятно, что признание, сделанное Фрицем брату, предопределило дальнейший ход дела. Теперь он не имел ни малейшей возможности избежать суда. Получили необходимые разъяснения и некоторые детали, связанные с причинами случившегося и последовательностью ключевых событий.
Ангерштейн признал, что совершал хищения денег из кассы предприятия, но делал это не по злому умыслу, а с целью восстановления справедливости, поскольку владелец компании умышленно перекладывал некоторые издержки на плечи подчиненных. Поэтому воровство являлось не «воровством», а всего лишь «компенсацией» вынужденных затрат. Подобная «игра в слова» не имела большого юридического смысла, но объясняла причину того острого психологического кризиса, в котором Ангерштейн оказался в конце ноября 1924 г.
К этому времени Фриц по многим косвенным признакам уже понимал, что его подозревают в хищениях, но не знал, как правильно выйти из сложившейся ситуации. Внезапное появление аудитора субботним утром и результаты проведенной им проверки повергли Ангерштейна в состояние паники. Он понял, что должен придумать какой-то остроумный ход и… не придумал ничего хитрее, как устроить имитацию пожара. В огне должна была сгореть бухгалтерия и тем самым результаты работы аудитора лишались документального подтверждения.
Задумка с пожаром, завладевшая воображением Ангерштейна, стала обрастать необходимыми деталями и Фриц быстро сообразил, что требуется имитировать попытку хищения из дома. А поскольку в здании постоянно находились люди, то хищение само собой трансформировалось в грабёж. Ну, а от вооруженного ограбления до убийства совсем недалеко… Уже к полуночи 29 ноября Фриц пришёл к пониманию того, что ему необходимо будет кого-то убить просто в силу необходимости придать достоверность картине ограбления. Рядом с Фрицем находились люди, которых он был готов уничтожить ради спасения собственного благополучия, не задумываясь – речь идёт о ненавистной тёще Катарине Барт и её фаворитке, ещё более ненавистной Минне Штолль. Однако, в воскресенье 30 ноября события приобрели неожиданный для злоумышленника характер.
Поначалу он планомерно готовился к реализации задуманного, в частности, отправился на грузовой автомашине в Хайгер и купил там две канистры с бензином, которые затем скрытно занёс в дом. Бензин он планировал использовать для быстрого поджога. Поскольку рядом с его участком находились другие домовладения, необходимо было обеспечить по возможности скорейшее распространение огня, в противном случае соседи могли успеть загасить пожар до того, как он разгорится. Уже после этого Фриц сообразил, что сам может погибнуть в огне, поэтому надумал размонтировать подводку воды к умывальнику в уборной первого этажа (что и сделал). В этом, конечно, убийца продемонстрировал полнейшую наивность – ему даже в голову не пришло, что следователи обратят внимание на странные манипуляции с водопроводом и поймут, что это вовсе не дело рук таинственных грабителей. Настоящим грабителям попросту в голову не пришло бы тратить время на возню с водопроводными трубами…
Уже закончив развинчивать водопровод, Фриц поздним вечером перерезал телефонный провод, дабы исключить возможность находящихся в доме вызвать помощь. Затея с перерезанием провода также поражает своей наивностью и бессмысленностью. Никакой практической пользы от этого не было, поскольку никто из убитых позвонить даже не пытался, а вот предварительную подготовку к совершению преступлению такого рода действие доказывало однозначно.
Однако, дальнейшей реализации замысла Ангерштейна помешал скандал, вспыхнувший вечером в воскресенье. Плохо приготовленная кухаркой пища вызвала несварение желудка Кетэ, её стало тошнить, она принялась жаловаться матери на несносную повариху… Слово за слово и – понеслась брань. Фриц поддержал жену и был готов убить тёщу и кухарку прямо тогда же, но его сдержало то, что он не был уверен в своей способности справиться с двумя крепкими женщинами одновременно. Кроме того, по его заверениям, к вечеру 30 ноября он ещё не определился с тем, как поступить с женою. Её он, якобы, убивать тогда ещё не думал.
После скандала Фриц заперся с Кетэ в спальне и там она, если верить рассказу убийцы, стала ему жаловаться на несносную жизнь и нежеление жить. Фриц её некоторое время утешал, но в какой-то момент понял, что смерть окажется лучшим выходом для Кетэ. При этом убийство жены сразу же облегчало реализацию других частей выработанного Ангерштейном плана. Ну, в самом деле – он убивает её и убивает всех… и не надо ломать голову над тем, как объяснить полиции её спасение!
В конечном итоге, Фриц и Кетэ уснули, однако около полуночи он был разбужен новым приступом рвоты супруги. Он подал Кетэ стакан воды, сменил наволочку на подушке, некоторое время разговаривал с женою, припоминая события совместной жизни. В частности, они якобы вспомнили попытку совместного самоубийства и после этого Кетэ заявила, будто её мать рассказывала ей о наследственном сифилисе, которым страдает Фриц. Дескать, он инвалид вовсе не из-за перенесенного в детстве туберкулёза, а из-за постыдной болезни собственных родителей. Эта ложь вызвала у Ангерштейна прилив гнева, но на этот раз он решил не только убить всех, но и самого себя. Он сказал Кетэ, что не хочет жить и покончит с собою. В подтверждение своих слов вышел в кладовую и принёс оттуда револьвер, из которого имел в ту минуту намерение застрелиться. Кетэ увидела пистолет в руках мужа и… упала в обморок.
Тогда Ангерштейн в который уже раз изменил собственный план и решил убить жену, пока та находится без сознания. Он нажал на спусковой крючок, но пистолет дал осечку. Крайне раздосадованный этим, он отправился на поиски охотничьего ножа, которым решил зарезать жену. Вернувшись с ножом в спальню, он увидел пришедшую в сознание Кетэ, которая заявила ему что-то вроде: «Я твоя жена перед Господом и прошу Его простить тебя!» По смыслу, сказанное означало своего рода благословение на убийство. После произнесения этих слов Кетэ вновь лишилась чувств. Ну, а Фриц решил-таки реализовать свой замысел и стал наносить удары ножом в грудь и шею супруги. Всего таких ударов, как зафиксировали судебные медики, оказалось нанесено не менее 18, хотя убийца заявил, что не считал их.
После этого Ангерштейн якобы решил покончить с собой и отправился на первый этаж, дабы отыскать другой пистолет и застрелиться из него. Пистолет он нашёл, но тот тоже дал осечку. Тогда Ангерштейн побежал в подвал, намереваясь отрубить себе руку топором. Однако, когда он уже собрался было это сделать, услышал крик наверху – это Катарина Барт вошла в супружескую спальню и увидела зарезанную дочь. Разъяренный вмешательством тёщи, Фриц помчался наверх и зарубил её. На шум появилась ненавистная Минна Штоль – убийца ринулся на неё, но та успела добежать до лестницы и рванула наверх, надеясь, очевидно, запереться в своей комнате в мансарде. Ангерштейн догнал женщину на лестнице и убил топором.
Рассказ, конечно, выглядел нелогичным и звучал бессвязно, но Фриц, видимо, просто не мог выдумать ничего лучше. Скорее всего, он вообще не планировал сознаваться в чём-либо, но посещение профессора Донэ вывело его из равновесия и Фриц стал признаваться брату под воздействием минутной слабости. Экспромтом, можно сказать. Как и всякий экспромт, этот прозвучал скомкано и недостоверно.
Дальнейшее повествование хоть и вносило некоторую ясность в последовательность событий, но не объясняло их. Согласно рассказу Ангерштейна, он после убийства Минны Штоль впал в состояние оцепенения, словно бы «перегорел», израсходовав все душевные силы. Фриц лёг на диван в гостиной и… уснул. По его оценке времени убийства жены, тёщи и кухарки имели место около 1 часа ночи с 30 ноября на 1 декабря, может, чуть позже, а на диване он проспал примерно до 7 часов утра. В это время явилась Элла Барт, пришедшая пешком с вокзала. Её появление застало убийцу врасплох, поскольку возвращение Эллы ожидалось 2 декабря или даже позже. Девушка не заметила следов преступления, поскольку трупы Кетэ и Катарины находились в спальне Ангерштейнов, а тело Минны Штоль лежало перед дверью на верхнем этаже, в мансарде.
Выждав несколько минут и, убедившись, что девушка отправилась принять душ, Фриц беспрепятственно проник в её комнату и внезапно напал. Ангерштейн считал Эллу невинной жертвой и раскаивался в убийстве; закончив своё дело, он накрыл труп полотенцами, выразив этим своё раскаяние и уважение невинной жертве.
Последующие убийства своих работников Фриц объяснил желанием придать месту преступления достоверность. Он опасался, что если убиты окажутся одни только члены семьи, то это может вызвать подозрения в его виновности, а вот если погибнут работники бухгалтерии и садовники, то таких подозрений не возникнет. Тут логика убийцы в очередной раз дала явный сбой, ход его рассуждений представляется, мягко выражаясь, сомнительным. Тем не менее, руководствуясь собственным понятием о целесообразности, Ангерштейн убил сначала своего секретаря Киля, а затем – Дитхардта. Последний явился позже первого, что и предопределило последовательность умерщвления. Ангерштейн выжидал примерно 5 часов, пока представится возможность убить садовника. Алекс Гейст был очень силён физически и убийца опасался, что попросту не справится с ним. Фриц никогда не обращался к Гейсту с просьбами помочь и не знал, как садовник отнесётся к предложению войти в дом. Помогло появление Руди Дарра. Тот пришёл в чистой одежде и Ангерштейн позвал его в дом, пообещав выдать рабочую куртку и сапоги. Когда Дарр вошёл в дом, Ангерштейн свалил его ударом обуха по затылку, после чего позвал Гейста, сказав тому, будто Дарр упал, ударился головой и его надо перенести на диван. Ничего не заподозривший садовник бросился на помощь и в ту самую минуту, когда он склонился над телом Руди Дарра, удар топора свалил его самого.
В принципе, уже после этого можно было устраивать поджог, но… Ангерштейн почувствовал голод, ведь он фактически не ел целый день. Он надумал отправиться в магазин и купить любимый шоколад. Тем более, что согласно заранее выработанному плану грузовую автомашину всё равно предстояло отогнать за пределы города. Тем самым, по мнению убийцы, создавалась видимость её угона. Ангерштейн решил совместить оба дела – отъехав на автомашине примерно на 3,5 км. от дома, он вернулся обратно пешком, зайдя по пути в магазин и купив там шоколада. Это стремление полакомиться до некоторой степени обескураживает – человек зверски расправился с 8 мужчинами и женщинами, их обезображенные трупы лежат в его доме, а он озабочен потребностью в шоколаде…
Утолив на пути к дому голод, Фриц приступил к финальной части своей инсценировки – поджогу и саморанению. Одну канистру с бензином он разлил на верхнем этаже. После того, как огонь занялся, он спустился вниз и проделал то же самое со второй канистрой. Убийце приходилось действовать с максимальной быстротой, он понимал, что пламя на втором этаже скоро будет замечено. После того, как загорелся первый этаж, Ангерштейн прошёл в уборную и там нанёс себе удары ножом через одежду. После этого он открыл вентиль на подводящей магистрали и обильно смочил водой ботинки, руки и лицо. Сделал он это для того, чтобы не обгореть в том жару, что исходил от горящего бензина. Пока он был этим занят, одежда в местах ранений напиталась кровью и быстрая кровопотеря едва не привела к потере сознания. Ангерштейн признался, что почувствовал неимоверную слабость и едва добрёл до двери. Он всерьёз испугался, что не сумеет выйти из здания, но тут подоспели люди и вывели его на свежий воздух.
Убийца был убеждён, что обставил свою мистификацию наилучшим образом и никто никогда не разберётся в истинной причине случившегося. Все неопытные преступники верят в то, что их не поймают, но их всегда ловят… Ангерштейн был потрясён, когда к нему на следующие сутки после операции явился следователь и заявил, что его вина не вызывает сомнений.
Сознание Ангерштейна в массовом убийстве фактически означало конец криминальной интриги. Эта скорая и неожиданная развязка отнюдь не лишила произошедшую драму сенсационности, но теперь расследование сместилось из области детективной в чисто процедурную.
Ангерштейн был вполне ожидаемо обвинён в убийствах восьми человек. Кроме того, его обвинили в хищении средств своего работодателя, т.е. ван дер Ципена. Поскольку бухгалтерская отчётность погибла в огне, прокуратура добавила пункт обвинения в уничтожении улик. Также выдвигались обвинения в подделке документов, т.е. ведении двойной бухгалтерии, и поджоге. Поскольку Фриц поначалу рассказывал о нападении грабителей, то вполне ожидаемо появилось обвинение в лжесвидетельстве.
Средства массовой информации уделили преступлению Ангерштейна немало внимания. Для него нашлось место не только в местных газетах и новостях немецких радиостанций, но и фанцузских, английских, американских и даже советских. Понятно, что такой изувер не вызывал к себе ни малейших симпатий и отношение к нему местных жителей было крайне враждебным. Сознавая это, а также ввиду большого общественного резонанса, министерство юстиции земли Гессен в конце июня 1925 г. изменило подсудность Ангерштейна и передало рассмотрение его дела в суд другого округа.
Процесс состоялся в городе Лимбург-ан-дер-Лан, расположенном примерно в 50 км. к югу от Хайгера. Заседания суда проходили с 6 по 13 июля в здании тамошней ратуши, сохранившейся до сих пор. Зал общих собраний заполнялся публикой полностью, свободных мест не было, присутствовали журналисты из многих стран мира, даже от американских газет. Ангерштейн, имевший достаточно времени для того, чтобы хорошенько обдумать своё положение, видоизменил свои первоначальные показания. Он более не признавал наличие умысла и заявлял о спонтанности своих действий.
О массовом убийстве в Хайгере сообщили множество европейских и американских газет. На суде в Лимбург-ан-дер-Лане присутствовало большое число иностранных корреспондентов и не будет ошибкой сказать, что Ангерштейн тогда привлёк к себе внимания не меньше, чем «пивной путч» Гитлера.
В новой версии событий убийца доказывал, что причиной трагических событий явилась отвратительная стряпня кухарки и обусловленное этим плохое самочувствие его жены. Тёщу он убил, якобы, за то, что та распространяла оскорбительные слухи о его наследственном сифилисе. Любимая супруга была убита из сострадания и по её же собственной просьбе. Денег у ван дер Ципена он не воровал, а лишь возвращал себе и своей семье то, что ван дер Ципен воровал у него.
Вот примерно так выглядела линия защиты, избранная Фрицем Ангерштейном.