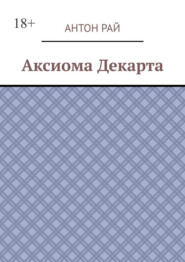скачать книгу бесплатно
Наконец, высказывание Ника номер пять:
«– О’кей Ник, но что тебе нравится в теннисе, в который ты играешь с кошачьей, непринужденной, природной грацией, когда ты этого хочешь?
– Мне нравится то, чего можно добиться благодаря теннису. То, что его сопровождает. Деньги, стиль жизни. Мне очень повезло заниматься спортом, который приносит такие привилегии. Я постоянно посещаю новые места, знакомлюсь с новыми людьми, смотрю мир. Иметь такие возможности – большая удача. Мне нравится, что я могу своим примером вдохновить людей, потом еще кому-то помочь»[27 - Цитаты вы найдете по ссылке: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/glaz_naroda/1132604.html (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/glaz_naroda/1132604.html)].
Богатейшие цитаты, ценнейшие слова. И конечно, я не могу удержаться от того, чтобы еще немного не покапать на мозги Ника Киргиоса, благо, он все равно никогда меня не услышит. Правда, в отличие от него самого, я не скажу ничего оригинального. Оригинальничать – это особая работа, требующая особого мастерства. Я же скажу лишь то, что и так всем понятно, а именно что нельзя так относиться к делу своей жизни, что это преступление против данного ему природой-мамой-папой-богом-судьбой-случаем таланта. Но разве Ник не прав, разве теннис действительно что-то значит «глобально»? Это ведь действительно «просто игра». Плюс, совсем недавно я и сам говорил, что спорту в целом не хватает некоей безусловной смысловой составляющей; случай с пловцом как раз на это и указывал.
Но случай с пловцом серьезно отличается от случая с теннисистом. Только тот, кто доходит до конца пути (кто идет по пути) может судить о нем. Тот же, кто не хочет идти, и судить ни о чем не может. Чтобы критиковать теннис, надо либо вообще им не заниматься, либо тогда уж стать настоящим теннисистом. Но выбрать теннис как дело, которым ты занимаешься, и при этом говорить, что это «всего лишь игра»… – ну так играй, если это игра, а если не можешь играть, то ты не игрок, – так займись чем-то другим. Но только не играй, играя, не смеши людей, не унижай игру. И не говори, что ты не относишься к себе всерьез. Именно к СЕБЕ (а не к теннису) ты и относишься слишком серьезно. Именно ТЕБЕ нужны деньги и всё «чего можно добиться благодаря теннису», и поэтому же сам теннис ничего и не значит глобально. Что значит какой-то там теннис на ТВОЕМ фоне? Ты кажешься себе оригинальным, а на самом деле банально не видишь дальше собственного носа. Ты думаешь, что смотришь за горизонт, а на самом деле твой кругозор ограничен жалкой мишурой той жизни, что лишь сопровождает жизнь, не составляя ее сути. Ты спишь Ник, и при таком беспробудном подходе очень мало шансов, что ты проснешься. Что? и Как? – на эти вопросы ты ответы знаешь. Но зачем? – ответ на этот вопрос тебе неведом. И, в отличие от пловца, ты даже не задавался им.
Хотя, возможно, что проблема Ника Киргиоса как раз в том, что он не ответил на самый первый вопрос – что? Что он вообще хочет? Не похоже, чтобы ему особенно хотелось играть в теннис. Может, именно здесь исток проблемы? «Всего лишь игра» перестает быть всего лишь игрой, когда она поглощает играющего. Именно это первичное поглощение, происходящее обычно, когда человек еще малосознателен в отношении поглощающего, определяет ответ на вопрос «что?». Это начало начал. А тот, кто не знает этого чувства самозабвенного поглощения, тому и далее будет почти невозможно ответить на вопрос зачем? Ник Киргиос, похоже, поглощен одним – собой. Что же, не он первый, не он последний. И результаты такого ограниченного поглощения всегда одни и те же – увы, они совсем не столь оригинальны, какими кажутся оригинальничающим. Просто жизнь проходит мимо, а жизненные возможности упускаются. Или это «всего лишь» жизнь?
2.5.1. Случай с теннисистом. Человек как результат своей деятельности
Случай Киргиоса вообще очень характерен, с какой стороны его ни рассматривай. Например, вот с какой. Очень часто доводится слышать, что человек несводим к тому делу, которое он делает. Это, безусловно, верно, если верно понять, что это значит. Во-первых, это может быть верно в отношении людей, которые не выстраивают свою жизнь через определенное дело, не считают дело чем-то главным в жизни. Мне представляется, что это подход несознательный, что здесь человек предпочитает безличное начало существования сознательному началу раскрытия способностей[28 - Подробнее об этом читайте в работе «Аксиома Декарта».]. И вместе с тем я не стану осуждать данный выбор как заведомо ложный; в ряде, и даже во многих случаях он оказывается оправдан. Существующее существование тоже имеет право на существование, хотя сознание и требует сознательного отношения к жизни.
Но есть сферы деятельности, которые подразумевают историческое измерение. Например, если человек занимается искусством, то он не имеет никакого права говорить, что искусство для него не важно, потому что в таком случае то, чем он занимается, не может называться Искусством. История Искусств задает слишком высокий стандарт для Искусства, чтобы можно было заниматься им «походя». Профессиональный спорт или спорт больших достижений тоже имеет свое историческое измерение. Если ты просто гоняешь мяч во дворе, то это твое полное право – насколько серьезно ты относишься к такому времяпрепровождению. Но если ты выходишь на стадион, полный людей, собравшихся специально для того, чтобы наблюдать за твоей игрой – ситуация совсем другая. Тут не в игрушки играют, тут демонстрируют мастерство, на оттачивание которого кладут целые жизни. А иначе подлинное мастерство и не достигается. Именно так и обусловливается глобальная значимость спорта – через запредельность усилий, требующихся, чтобы достичь значимого результата.
И здесь мы возвращаемся к вопросу о несводимости личности человека к делу, которым он занимается. Личность у нас, получается, вся такая огромная и многогранная, а дело, получается, всё такое маленькое и однобокое. Да нет, не получается ничего такого. Всякий человек, нашедший свое дело (проснувшийся от спячки) и пытающийся довести его до логического конца, понимает всю неисчерпаемость этой задачи. Но личность действительно не сводима к делу – потому что личность не в состоянии поставить дело выше себя любимой. Тут уж надо что-то предпочесть – либо носиться со своей драгоценной личностью, либо довести дело до конца[29 - Подробнее, опять-таки, читайте в «Аксиоме Декарта», – рассуждение из постскриптума.]. Ник Киргиос слишком драгоценная личность, чтобы ставить какое-то жалкое первое место в рейтинге выше первого человека на Земле – ЕГО, Киргиоса, то есть. Таким образом, его суждение о первом месте в рейтинге, которое могло бы кому-то показаться даже философичным (мол, всё это суета), на самом деле является крайне самовлюбленным суждением. И если пловец, возможно, пробудился в момент победы на Олимпиаде (философски осознав ее тщетность), то теннисист беспробудно дрыхнет и именно поэтому не может выиграть ничего серьезного.
2.6.Портрет проснувшегося Дориана Грея
А как же быть с искусством жизни?
«Живите! Живите той удивительной жизнью, которая заключена внутри вас. Пусть ничто не проходит мимо вас! Никогда не уставайте искать новые ощущения!» (Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Пер. В. Чухно).
Так вещает не кто-нибудь, а сам лорд Генри Уоттон, причем вещает не кому-нибудь, а самому Дориану Грею. Случай Дориана особенно интересен, ведь лорд Генри самым буквальным образом пробуждает Дориана Грея от жизненной спячки, что в тексте подчеркивается особо[30 - «Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана возле куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, юноша упивался их ароматом, словно это было изысканное вино. Лорд Генри подошел к Дориану и положил ему на плечо руку. – Вот это правильно, – негромко произнес он. – Исцелить душу можно лишь с помощью органов чувств, а исцелить чувства можно лишь с помощью души. Юноша вздрогнул от неожиданности и отступил от куста. Ветки и листья сирени растрепали непокорные кудри, спутали золотистые пряди волос. В его глазах замер испуг, как у некоторых людей, когда их внезапно разбудят». (Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Пер. В. Чухно).]. Он открывает Дориану глаза на самого себя. Дориан, до сих пор пользующийся своим обаянием лишь интуитивно, вдруг понимает, какая огромная сила сокрыта в нем (но лишь пока он молод). И он начинает жить по-новому, придав смутным очертаниям своей жизни четкие контуры. Назовем мы эту жизнью прекрасной или ужасной, но это жизнь осмысленная. При этом Дориан вроде бы как раз практикует искусство жизни самой по себе, не связывая себя никаким конкретным делом. Не зря всё тот же лорд Генри говорит (а если Дориан – живет, то лорд Генри – озвучивает его жизнь):
«Вы – тот человек, которого наш век ищет… и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы переложили себя на музыку. Дни вашей жизни – это ваши сонеты». (Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»).
А может быть, всё же зря? В самом деле: в чем источник жизненной силы Дориана? В его красоте. Как проявляет себя красота? – она очаровывает. Дориан, сначала безыскусно околдовав простодушного Бэзила, а потом и искушенного лорда Генри, превращает свою красоту в отточенный инструмент опасного очарования. Так можем ли мы говорить, что он не занят никаким конкретным делом? «Очаровывать – тоже мне дело!» – воскликните вы. Но вы сначала попробуйте, а потом уже восклицайте. Я вот, например, сроду никого не мог очаровать, разве что с помощью слов, причем слов письменных, а не устных. Очарование же красоты, покоряющей всё, что попадает в область ее воздействия, многие торопятся приписать одним лишь внешним данным, но это, конечно, примитивный подход – так можно и всякое умное рассуждение приписать лишь наличию у рассуждающего развитого мозга. Но мозговитых людей много, а умных – куда меньше. И красивых много, а вот очаровательных, хотя и не так мало, как умных, но… Искусство очарования – это искусство, и, как всякое искусство, оно требует изучения и искусного применения. Как всякое конкретное искусство оно является конкретным делом. Дориан Грей – очень занятой человек, хотя занятой и не совсем тем, чем следовало бы.
2.7. Портрет Остапа Бендера
Таким образом, и здесь (в случае с Дорианом Греем) мы не можем вполне дистанцироваться от понятия «дела жизни». Вообще, искусство жизни в основном и сводится либо к ее прожиганию, либо к превращению жизни в некую авантюру. В той же литературе создан прекрасный образ авантюриста всех времен и народов – я имею в виду Остапа Бендера. Но я надеюсь, никому не придет в голову утверждать, что Остап Бендер ничем конкретным не занят, хотя его так же невозможно представить себе бездеятельным, как и деятельным в рамках какой-то конкретной профессии. Его дело – авантюра. Дайте ему идею грандиозной авантюры, и его жизнь наполнится безусловным смыслом. Ну а то, что авантюра требует своей «профессиональной» подготовки, самоочевидно. В этом смысле весьма характерно сравнение Остапа Бендера, вышедшего на охоту за подпольным советским миллионером, с хирургом:
«Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты, сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу, блестят медицинский фаянс и никель, больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку, в специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному: «Ну-с, снимайте бурнус». (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).
И, конечно же, как и во всякой операции, всякое неточное движение скальпелем ведет к краху (вспомним первый неудачный наскок Остапа на Корейко – эпизод с десятью тысячами), а всякий успех требует длительной и тщательной подготовки (чтобы обчистить Корейко, понадобилось завести на него целое «дело»[31 - Остап с полным правом называет проделанный труд титаническим: «Остап поставил точку, промакнул жизнеописание прессом с серебряным медвежонком вместо ручки и стал подшивать документы. Он любил держать дела в порядке. Последний раз полюбовался он хорошо разглаженными показаниями, телеграммами и различными справками. В папке были даже фотографии и выписки из бухгалтерских книг. Вся жизнь Александра Ивановича Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бухты, где живут добрые мулаты и подавляющее большинство граждан ходит в белых штанах. Наконец-то великий комбинатор нашел того самого индивида, о котором мечтал всю жизнь. – И некому даже оценить мой титанический труд, – грустно сказал Остап, поднимаясь и зашнуровывая толстую папку… – Одна надежда, что уважаемый Александр Иванович оценит мой великий труд и выдаст мне на бедность тысяч пятьсот. Хотя нет! Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»)]).
2.8. Случай Абрагама, случай Кармайкла, случай Стрикленда…
Но возможен и другой подход. Выше я уже упомянул о случае, когда человек сознательно предпочитает существование сознанию. Теперь приведу пример – пусть это опять будет пример из литературы, причем в роли-иллюстрации выступит как раз хирург. Данный пример можно назвать «случаем врача» или еще «случаем Абрагама». Кто такой Абрагам? Персонаж романа Сомерсета Моэма «Луна и грош». Приводимая далее цитата несколько длиннее, чем обычно полагается быть цитатам, но отнеситесь к ней не как к цитате, а как к рассказываемой истории, хотя надеюсь, что эта история и так вам известна:
«Я рассказал Тиаре историю одного человека, с которым я познакомился в лондонской больнице Святого Фомы. Это был еврей по имени Абрагам, белокурый, плотный молодой человек, нрава робкого и скромного, но на редкость одаренный. Институт дал ему стипендию, и за пять лет учения он неизменно оставался лучшим студентом. После окончания медицинского факультета Абрагам был оставлен при больнице как хирург и терапевт. Блистательные его таланты признавались всеми. Вскоре он получил постоянную должность, будущее его было обеспечено. Если вообще можно что-нибудь с уверенностью предрекать человеку, то уж Абрагаму, конечно, можно было предречь самую блестящую карьеру. Его ждали почет и богатство. Прежде чем приступить к своим новым обязанностям, он решил взять отпуск, а так как денег у него не было, то он поступил врачом на пароход, отправлявшийся в Ливан; там не очень-то нуждались в судовом враче, но один из главных хирургов больницы был знаком с директором пароходной линии – словом, все отлично устроилось.
Через месяц или полтора Абрагам прислал в дирекцию письмо, в котором сообщал, что никогда не вернется в больницу. Это вызвало величайшее удивление и множество самых странных слухов. Когда человек совершает какой-нибудь неожиданный поступок, таковой обычно приписывают недостойным мотивам. Но очень скоро нашелся врач, готовый занять место Абрагама, и об Абрагаме забыли. О нем не было ни слуху ни духу.
Лет примерно через десять, когда экскурсионный пароход, на котором я находился, вошел в гавань Александрии, мне вместе с другими пассажирами пришлось подвергнуться врачебному осмотру. Врач был толстый мужчина в потрепанном костюме; когда он снял шляпу, я заметил, что у него совершенно голый череп. Мне показалось, что я с ним где-то встречался. И вдруг меня осенило.
– Абрагам, – сказал я.
Он в недоумении оглянулся, узнал меня, горячо потряс мне руку. После взаимных возгласов удивления, узнав, что я собираюсь заночевать в Александрии, он пригласил меня обедать в Английский клуб. Вечером, когда мы встретились за столиком, я спросил, как он сюда попал. Должность он занимал весьма скромную и явно находился в стесненных обстоятельствах. Абрагам рассказал мне свою историю. Уходя в плавание по Средиземному морю, он был уверен, что вернется в Лондон и приступит к работе в больнице Святого Фомы. Но в одно прекрасное утро его пароход подошел к Александрии, и Абрагам с палубы увидел город, сияющий белизной, и толпу на пристани; увидел туземцев в лохмотьях, суданских негров, шумливых, жестикулирующих итальянцев и греков, важных турок в фесках, яркое солнце и синее небо. Тут что-то случилось с ним, что именно, он не мог объяснить. «Это было как удар грома, – сказал он и, не удовлетворенный таким определением, добавил:
– Как откровение». Сердце его сжалось, затем возликовало – и сладостное чувство освобождения пронзило Абрагама. Ему казалось, что здесь его родина, и он тотчас же решил до конца дней своих остаться в Александрии. {…}
– Жалели вы когда-нибудь о своем поступке?
– Никогда, ни на одну минуту. Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать, и я доволен. Я ничего больше не прошу у судьбы до самой смерти. И, умирая, скажу, что прекрасно прожил жизнь».
Здесь необходимо отметить и удержать в сознании два момента: первый – откровение, пережитое Абрагамом (а это есть не что иное, как момент пробуждения к подлинной жизни), и второй – «Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать», – предпочтение простого существования раскрытию способностей хирурга. Врачебная деятельность становится не более чем средством к поддержанию существования, но смысл Абрагам находит не в деле, а в самом существовании. Далее контраст между двумя возможными судьбами Абрагама подчеркивается через диалог автора с преуспевающим врачом Алеком Кармайклом, который собственно и занял его место:
«У него был великолепный дом на улице Королевы Анны, обставленный с большим вкусом. На стенах столовой я увидел прелестного Белотто и две картины Зоффаниса, возбудившие во мне легкую зависть. Когда его жена, высокая красивая женщина в платье из золотой парчи, оставила нас вдвоем, я, смеясь, указал ему на перемены, происшедшие в его жизни с тех пор, как мы были студентами-медиками. В те времена мы считали непозволительной роскошью обед в захудалом итальянском ресторанчике на Вестминстер Бридж-роуд. Теперь Алек Кармайкл состоял в штате нескольких больниц и, надо думать, зарабатывал в год не менее десяти тысяч фунтов, а титул баронета был только первой из тех почетных наград, которые, несомненно, его ожидали.
– Да, мне жаловаться грех, – сказал он, – но самое странное, что всем этим я обязан счастливой случайности.
– Что ты имеешь в виду?
– Помнишь Абрагама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я метил. При нем я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больницы, и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрагам был гениальным хирургом. Никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат Святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сделался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрагам ушел, и его место досталось мне. Это была первая удача.
– Да, ты, пожалуй, прав.
– Счастливый случай. Абрагам – чудак. Он совсем опустился, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, ума и способностей еще недостаточно. Характер – вот самое важное. Абрагам был бесхарактерный человек. … Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрагам так поступил. Я-то ведь на этом немало выиграл. – Он с удовольствием затянулся дорогой сигарой. – Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же так исковеркать себе жизнь!
Я усомнился в том, что Абрагам исковеркал себе жизнь. Разве делать то, к чему у тебя лежит душа, жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада – значит исковеркать себе жизнь? И такое ли уж это счастье быть видным хирургом, зарабатывать десять тысяч фунтов в год и иметь красавицу жену? Мне думается, все определяется тем, чего ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с баронетом?» (Сомерсет Моэм. «Луна и грош»)
Ну а мы поспорим или в чем-то даже согласимся с баронетом. И в первую очередь мы должны четко ответить на вопрос: «Чья все-таки жизнь осмысленнее: Абрагама или Алека?». Ответ однозначный: Абрагама. Почему я настаиваю на однозначности? Из-за момента пробуждения. У Абрагама этот момент был, у Кармайкла – нет. Конечно, всех подробностей жизни Абрагама (как и Кармайкла) мы не знаем, поэтому не можем утверждать категорично, что именно побудило его сделать такой выбор. В тексте говорится лишь, что, оказавшись в Александрии, он вдруг почувствовал себя дома – «Ему казалось, что здесь его родина». Но в рамках разумных допущений можно предположить, что он не видел смысла во всей своей блестящей деятельности хирурга, хотя тем самым он и раскрывал свои способности; он предпочел раскрытию способностей – простое существование. Европейская цивилизация выступает здесь как символ существования, подчиненного профессиональному долгу, тогда как Александрия – символ существования как такового, существования более спонтанного. Проблема в том, что именно тут Абрагам и пережил настоящее пробуждение – не тогда, когда он певращался в гениального хирурга, но как раз, когда отказался от своих гениальных способностей и блестящих карьерных перспектив. Можно сказать, что, дойдя до вопроса – зачем он делает то, что делает? — он вдруг понял, что внятного ответа нет и заново ответил на первый вопрос, переосмыслив всю свою жизнь. Что я хочу делать? – ничего, я не хочу выстраивать свою жизнь через дело, я хочу просто – жить! (хочу быть живым существом, а не – врачом, пусть и занимаясь врачебной практикой) – так можно описать случай Абрагама.
Получается, что пробудился Абрагам, а способности раскрывает Алек. Как так? Но если бы мы действительно видели, как Алек Кармайкл раскрывает свои врачебные способности, то и разговор был бы другим. Может быть, это и так, но судить (пусть и додумывая) мы можем лишь по тому материалу, что нам дается автором книги, а Моэм рисует образ человека, уверенно движущегося вверх по карьерной лестнице, и всё более преуспевающего, но не более того. То есть способности для Алека, как и для Абрагама, являются лишь средством; но если Абрагама его способности кормят, то Алека – перекармливают. Но подлинно Врачом не является ни тот, ни другой. А если так, то, конечно, Абрагам куда честнее. Куда честнее и интереснее жить, чем делать карьеру. Можно возразить, что карьерный рост подразумевает и развитие способностей (разве Алек Кармайкл достиг бы высокого положения, если бы не был способным врачом?), но ведь суть дела всегда во внутренней мотивации. Что довлеет? Что является причиной, а что – следствием? Раскрытие способностей или то, что ему сопутствует? Преуспеяние в выкуривании дорогих сигар или все-таки в чем-то другом?
В общем, вместо предполагаемого противопоставления: «дело жизни – жизнь», мы получаем другое противопоставление: «карьера – жизнь». Один человек делает карьеру, другой отказывается. Абрагам поставил крест на карьере, чтобы жить, но «карьера» и есть нечто настолько сомнительное, что только обесценивает всякое дело и обедняет содержание жизни. Лучшее, что и можно сделать с «карьерой» – это поставить на ней крест. Делать карьеру бессмысленно (предоставим это дело самодовольным Алекам Кармайклам); всякий думающий человек, задающийся вопросом о смысле, понимает, что карьерный рост не совпадает с ростом личностным. Далее, однако, велико искушение всякое «дело» свести к «карьере», а всякий успех в деле – к карьерному росту. Тот, кто думает таким образом, скорее всего и проникается глубоким скептицизмом по отношению ко всем мыслимым делам.
Повторюсь, мне такой подход чужд, потому что карьера карьерой, а талант – талантом. Ведь при всем своем ограниченном самодовольстве в одном Алек Кармайкл прав – Абрагам угробил свой талант. Сознанию трудно с этим примириться, поскольку сознание всегда настаивает на том, что талант должен быть реализован. «Я должен открыть и реализовать скрытые во мне способности» – так можно сформулировать категорический императив сознания (его еще можно назвать категорическим творческим императивом). Чарльз Стрикленд – главное действующее лицо другого романа Моэма («Луна и грош»), подобно Абрагаму сбежал от европейской цивилизации, но им-то как раз руководствовало стремление выразить свой талант художника, и он просто искал наиболее подходящую для этого среду. А это совсем другое дело; совсем другое, то есть сознательное пробуждение:
«– И живопись вам дается?
– Еще не вполне. Но я научусь. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне нет того, что мне нужно. Посмотрим, что будет здесь.
– Неужели вы надеетесь чего-нибудь добиться, начав в этом возрасте? Люди начинают писать лет в восемнадцать.
– Я теперь научусь быстрее, чем научился бы в восемнадцать лет.
– С чего вы взяли, что у вас есть талант?
Он ответил не сразу. Взгляд его был устремлен на снующую мимо нас толпу, но вряд ли он видел ее. То, что он ответил, собственно, не было ответом.
– Я должен писать.
– Но ведь это более чем рискованная затея! … Конечно, может случиться чудо, и вы станете великим художником, но вы же должны понять, что тут один шанс против миллиона. Ведь это трагедия, если в конце концов вы убедитесь, что совершили ложный шаг.
– Я должен писать, – повторил он.
– Ну, а что, если вы навсегда останетесь третьесортным художником, стоит ли всем для этого жертвовать? Не во всяком деле важно быть первым. Можно жить припеваючи, даже если ты и посредственность. Но посредственным художником быть нельзя.
– Вы просто олух, – сказал он.
– Не знаю, почему так уж глупы очевидные истины.
– Говорят вам, я должен писать. Я ничего не могу с собой поделать. Когда человек упал в реку, неважно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет». (Сомерсет Моэм. «Луна и грош»).
У Стрикленда на всё один ответ: Я должен писать, и всё тут (частный случай общего положения: «Я должен открыть и реализовать скрытые во мне способности»). И напрасно его собеседник считает, что это не ответ. Это не просто ответ, но абсолютно сознательный ответ. Или всю жизнь проспать, или проснуться. С точки зрения сознания подход как Абрагама (предпочтение существования раскрытию способностей), так и Кармайкла (карьерный рост и следующие из него блага) ущербны, верен лишь подход Стрикленда. Но лично для себя Абрагам прав, как и Стрикленд, а вот Кармайкл в любом случае заблуждается, не понимая ни жизни, ни ее смысла. Зато на стенах его столовой висят прекрасные картины, скажете вы. Что ж, позавидуем ему, если есть в чем, но больше позавидуем Абрагаму и попросту поумираем от зависти к Стрикленду!
Случай врача Абрагама отличается и от случая с пловцом, и от случая теннисиста. Пловец понял, что именно его дело (плавание) не приобщает его к высшему смыслу, просто в силу ограничений, сопутствующих спорту как роду деятельности. Врач попросту отрицает всякое дело как нечто, дарующее смысл, предпочитая обычное существование. Теннисист вовсе ничего не знает о проблеме выбора. Для этого он слишком крепко спит.
2.9. Случай Фанни Прайс, или Художник без таланта
«– Плевать мне на то, что они обо мне думают. Я всё равно буду учиться. Я знаю, у меня есть талант. Чувствую, что я художник. Лучше умру, чем брошу живопись. Да я и не первая, над кем смеялись в школе, а потом оказалось, что это и был настоящий гений. Искусство – единственное, что мне дорого, и я с радостью отдам ему жизнь. Всё дело в упорстве и умении работать». (Фанни Прайс)
Да, здорово, хотя и очень тяжело, быть Чарльзом Стриклендом, но совсем не здорово и еще тяжелее быть Фанни Прайс. Кто такая Фанни Прайс? Герой еще одного романа Сомерсета Моэма – «Бремя страстей человеческих». Фанни – художник без таланта, который, тем не менее, кладет всю свою жизнь на алтарь искусства. Безрезультатно. Тяжкий труд, лишения[32 - «История, которая постепенно открылась Филипу, была ужасна. Женщин, учившихся с Фанни Прайс в „Амитрано“, обижало, что она никогда не участвовала в их веселых пирушках в ресторане, однако причина тут была самая простая: Фанни страдала от жесточайшей нужды. Филип вспомнил их совместный обед вскоре после того, как он приехал в Париж, и ее зверский аппетит, который вызвал у него тогда отвращение; теперь он понимал, что ела она с такой жадностью потому, что была смертельно голодна. Привратник рассказал ему, как она питалась. Ей каждый день оставляли бутылку молока, и она сама покупала себе булку; съев половину хлеба и выпив полбутылки молока в обед, она, вернувшись из школы, доедала остальное на ужин. И так день за днем. Филип с болью думал о том, что ей приходилось выносить. Она ни разу никому не призналась в том, что беднее других, но ее гроши явно подходили к концу и последнее время она уже больше не могла посещать студию. В ее каморке почти не было мебели и, кроме потрепанного коричневого платья, которое она всегда носила, не нашлось никакой одежды». (Сомерсет Моэм. «Бремя страстей человеческих»).], непонимание окружающих – через это приходилось и приходится проходить всем одаренным людям; но ведь и тем, кто не одарен, тоже приходится проходить через это. Итог подвижнической жизни Чарльза Стрикленда – художественное бессмертие; итог подвижнической жизни Фанни Прайс – петля и полное забвение[33 - «Злосчастное происшествие (имеется в виду самоубийство Фанни) никак не выходило у Филипа из головы. Больше всего его мучило, что подвижничество Фанни было таким бессмысленным. Никто не мог бы работать упорнее, чем она, и с таким жаром; она верила в себя всем сердцем; однако эта вера, очевидно, еще ничего не доказывала». (Сомерсет Моэм. «Бремя страстей человеческих»)].
Здесь сознание оказывается в весьма непростой ситуации, ведь Фанни Прайс следует категорическому творческому императиву сознания: она должна любой ценой («Лучше умру, чем брошу живопись») раскрыть свои способности. Но если этих способностей попросту нет? А как это понять? Человек – слишком большой мастер самообольщения на свой счет. Когда один из преподавателей живописи говорит Фанни, что той следовало бы стать портнихой…
«– Посмотрите, руки тут разной длины. Колено уродливо. Говорю вам: пятилетний ребенок – и тот нарисовал бы лучше. Видите, она ведь не стоит на ногах. А ступня?
Вторя словам, уголь гневно проводил черту за чертой, и через миг рисунок, которому Фанни Прайс отдала столько часов и душевных сил, стал неузнаваемой путаницей линий и пятен. Наконец Фуане швырнул уголь и встал.
– Послушайтесь меня, мадемуазель, попробуйте стать портнихой». (Сомерсет Моэм. «Бремя страстей человеческих»)
…но то же самое он мог бы сказать и Стрикленду[34 - И конечно, говорил: «Когда я спросил, что думали его сотоварищи по вечерней школе живописи в Лондоне о его работах, он улыбнулся: – Они думали, что я дурачусь. – Вы и здесь посещаете какую-нибудь студию? – Да. Этот зануда – я имею в виду нашего маэстро – сегодня утром, как увидел мой рисунок, только брови поднял и прошествовал дальше.Стрикленд фыркнул. Он отнюдь не был обескуражен. Мнение других его не интересовало». (Сомерсет Моэм. «Луна и грош»)]. Это всегда и сбивает с толку бесталанных энтузиастов – никто не может помешать им считать себя непризнанными гениями. Фанни, как и Стрикленд, твердит себе: «Я должна писать». Таково категорическое требование сознания. Сознание не может примириться с участью портнихи; даже и портниху сознание побуждает превратиться в кутюрье, то есть так или иначе побуждает к творчеству. Но ведь и сознательным (в случае Фанни) такой подход никак не назовешь. Сознанию остается осознать свою бездарность, но… осознать свою бездарность – какое сознание вытерпит такую муку? Получается, что сознание побуждает людей к деятельности, которая им не по плечу, а потом с жестоким равнодушием отворачивается от них. «Дерзайте, раскрывайте свои способности», – подстрекает сознание. Не можете раскрыть – лезьте в петлю. Так, что ли? Я бы хотел ответить, что не так, но обосновать, почему это не так, не могу. Сделайте это Вы, если сможете.
Я же считаю жизнь Фанни глубоко трагичной, но, что важнее, я считаю ее жизнь жизнью подлинного художника. Случай Фанни – это тот редкий случай, когда отсутствие таланта не может вычеркнуть человека из «списка» причастных к Искусству. Таланта нет, а Художник налицо. У многих художников-карьеристов дело обстоит прямо противоположным образом. В искусстве полно своих преуспевающих алеков кармайклов, и, конечно, они довольно многое умеют, но ни одного из них я бы Художником не назвал.
Часть третья. Случай Толстого, случай Достоевского
3.1.0. Случай Толстого
Настало время обратиться к титанам духа. Пловцы, теннисисты, даже хирурги – все они слишком «телесны», но ведь известен не один случай, когда и в высочайшей сфере жизни духа величайшие мастера в своей сфере деятельности презрительно относились к своему делу. Вспомним хоть Толстого и его презрение как к «Войне и миру», так и еще в большей степени к «Анне Карениной». Толстой вообще не хотел быть писателем, он считал, что не в этом его подлинное призвание. Но как же так? Если Толстой пробудился к писательству, а в этом у нас не может быть никаких сомнений, то не получается ли что он знал как (надо писать) не зная ни что (он действительно хочет), ни тем более – зачем (он это делает). Мы, однако, не должны забывать вот о чем: чтобы с презрением отзываться об «Анне Карениной» и «Войне и мире», Толстому надо было сначала написать «Анну Каренину» и «Войну и мир». Но сами по себе эти произведения и отвечают на вопрос «зачем вообще работает писатель?» – так как они являются вехами Абсолюта в мире литературы. Поэтому Толстой не мог не знать ответа на вопрос «зачем?» – как бы он сам ни пытался это отрицать. Так что отступничество Толстого от своих шедевров мы должны понимать лишь в контексте судьбы самого Толстого, но никак не в контексте их создания. «Анне Карениной» все равно, что Толстой будет «ее» презирать, потому что написать «Анну Каренину» не мог тот, кто презирал бы это произведение. Или все-таки мог? Во всяком случае, если бы можно было доказать, что Толстой относился с пренебрежением к своей работе писателя во время своей писательской работы, то это серьезным образом подорвало бы логику данного рассуждения, – по меньшей мере в этой главке. Так что дерзайте – опровергайте. Я же отталкиваюсь то того, что знаменитая дневниковая запись: «Люди любят меня за те пустяки – „Война и мир“ и т.п., которые им кажутся очень важными», – датирована 6 декабря 1908, а не, скажем, 1878 года.
3.1.1. Случай Толстого. Исповедь
Не очень приятно сознаваться в своем невежестве, но – когда приходится, тогда приходится. И лучше уж пробудиться от спячки невежества в постскриптуме, чем в пост-публикации. В главке «Случай Толстого» я призвал к опровержению высказанных в ней мыслей, что ж, я и сам могу себя опровергнуть. Да, дневниковая запись насчет «пустяков» была сделана в 1908, а не в 1878 году, но «Исповедь» -то была написана Толстым в 1879—1882 годах, то есть почти сразу после «Анны Карениной». И что говорит Толстой в «Исповеди»? Да все то же самое. Писал он из тщеславия, и всё это пустяки. Подлинное же призвание его – учить людей, как тем следует жить; он хотел учить и через писательство, но тогда он не знал – чему учить. Теперь, открыв в себе веру, пусть это открытие и дается ему тяжело, он знает, что только Бог придает жизни смысл, но никак не «Война и мир» и не «Анна Каренина». Более того, Толстой прямо говорит о времени работы над двумя своими главными произведениями:
«Несмотря на то что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей». («Л. Н. Толстой. «Исповедь»)
Значит, все-таки можно написать «Анну Каренину», считая эту работу пустяковой? Вопросик… Так можно или нельзя? И если Толстой сам говорит – «можно», разве можем мы утверждать, что – «нельзя»? Вообще, «Исповедь» особенно ценна тем, что Толстой четко ставит в ней главный вопрос: зачем? Удивительно же то, что и подобия ответа на этот вопрос он не находит:
«Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»
И я ничего и ничего не мог ответить». (Л. Н. Толстой. «Исповедь»)
Да, я не перестаю удивляться этому (отсутствию ответа), потому что, казалось бы, именно работа над «Анной Карениной» (а не над какими-нибудь пустяками) должна была ответить на этот вопрос. И дело, конечно, не в одной только славе; само соревнование с Шекспиром, Пушкиным и Гоголем – это ведь не пустая погоня за славой. Стать в один ряд со столь великими – это подлинно великое дело. Толстой же презрительно бросает – пустяки. Как же все-таки можно это объяснить – такую удивительную слепоту относительно собственного жизненного призвания? Как можно воплощать смысл своей жизни и в это же время считать, что ты заглушаешь всякие вопросы о смысле?
3.1.2. Случай Толстого. Невыносимая легкость творчества
У меня есть объяснение, удачное или неудачное, решайте сами, я же его просто озвучу. Главная проблема Толстого и состоит в самом этом слове – пустяки. Слишком легко всё ему давалось. Захотел стать писателем – и стал, захотел стать писателем величайшим – и стал величайшим писателем. Вот так просто. Но ведь так не бывает? Выходит, бывает. А теперь вернемся к главной теме данного рассуждения – к проблеме сна, пробуждения и бодрствования в контексте жизненного призвания. Получается, что Толстой пропустил момент пробуждения и сразу от сна перешел к бодрствованию, не заметив никакого момента перехода. Могущество его таланта и благоприятные условия для раскрытия таланта позволили ему не заметить этого момента. Поэтому он и продолжает считать бодрствование – сном. Толстой не видит, что он проснулся к жизни, жизнь не потребовала от него пробуждения. Только вера в Бога поставила перед ним проблему, именно в силу того, что он не может вполне в Него поверить. Работать по десять часов в сутки над «Анной Карениной» – это легко, а вот поверить в Бога – трудно. Поэтому Бог для Толстого и привлекательнее Анны, ведь только Бог смог задать ему работу. Между прочим, заканчивается «Исповедь» именно тем, что Толстой проснулся. Проснулся, поверив.
3.1.3. Случай Толстого. Закон доминантного несчастья
Нет, опять не совсем то. Что значит, что Толстому всё легко давалось? Имеем ли мы право это утверждать? Но ведь это утверждает сам Толстой:
«И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми-десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни». (Л. Н. Толстой. «Исповедь»).
Есть в жизни некий страшный закон доминантного несчастья. Чаще всего его формулируют следующим образом: на долю человекавсегда выпадает больше несчастий, чем счастья. К этому оптимистичному положению обыкновенно добавляется приятное приложение: за всякое выпавшее счастье придется чем-то поплатиться, оно обязательно уравновесится каким-то несчастьем (математически выражаясь, несчастье всегда больше или равно счастью, но никогда не меньше). Но случай Толстого еще усугубляет этот закон, Толстой словно бы подсказывает: когда всё слишком хорошо, то мыслящему человеку и самому становится тошно от выпавшей ему удачи. Если нет в вашей жизни подлинного несчастья, то надо его – выдумать![35 - Или, как говорил профессор Трурль (из рассказа Станислава Лема «Блаженный»): «Осчастливленный до упора в несчастье находит счастье свое».] Жизнь слишком хороша, чтобы можно было жить – так, что ли? Моя жизнь, слава небу, не настолько хороша, чтобы я стал задаваться таким вопросом, поэтому я со спокойной душой радуюсь хорошим временам, чего и вам желаю.
3.1.4. Случай Толстого. Трудное развлечение на досуге
Но может, Толстой просто лукавит? В конце концов, в период работы над «Войной и миром» и «Анной Карениной» он не раз говорит о трудностях работы. Это потом он заявит – «ничтожный труд», но пока этот ничтожный труд еще надо совершить, он кажется вполне себе титаническим. Толстой прошел через все обычные круги сочинительского ада – огромная подготовительная работа (сбор и изучение исторических материалов), изменение концепции произведения («Декабристов» сменила «Война и мир», роман из эпохи Петра Первого – «Анна Каренина»), постоянное переписывание[36 - «Не марать так, как я мараю, я не могу и твердо знаю, что маранье это идет в великую пользу. И не боюсь потому счетов типографии, которые, надеюсь, не будут уж очень придирчивы. То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели бы не было раз 5 перемарано». (П. И. Бартеневу. 1867 г. Августа 16…18. Ясная Поляна).]. Или все-таки это не был ад? Именно так: это было непросто, но это не ад.
Пожалуй, условная «легкость» жизни Толстого может быть утверждена одним единственным способом – он находился в максимально благоприятных (насколько это только возможно помыслить) для писательства условиях, когда писатель полностью лишен необходимости утверждать себя в жизни как писателя и может спокойно сконцентрироваться исключительно на своей работе. Это привело к тому, что жизненные проблемы в его восприятии были отторгнуты от писательских проблем, и трагичная проблематичность жизни Толстого существовала отдельно от «всего лишь» затруднений писательства. Конечно, сама эта проблематичность становилась материалом и для писательства, но это уже другое измерение проблемы. Суть же проблемы в том, что «стать писателем» и «пройти через ад» не стали для Толстого синонимами, не связались воедино. Вопрос: «Быть или не быть писателем?» не стал для Толстого вопросом жизни и смерти. Отсюда и сама писательская работа не стала пробуждением. Подумаешь, писательство – ну да, это трудно, но не более того. Трудное развлечение на досуге, но от этого не умирают.
3.1.5. Случай Толстого. Уточнение Эйнштейна
Вы, конечно, можете сказать, что я просто стараюсь любыми средствами сохранить силу высказанных ранее положений. Но припомним, в чем состоит их суть? Я утверждал, что в состоянии сна человек не может быть уверенным, спит он или нет, а в состоянии бодрствования человек не может сомневаться, бодрствует он или нет. Чтобы перейти в состояние бодрствования необходимо пережить момент пробуждения, – возможно, несколько таких моментов. Случай Толстого показывает, что в некоторых случаях, а именно когда состояние бодрствования достигается как бы минуя состояние пробуждения, человек может продолжать испытывать сомнения в отношении вопроса: спит он или нет? Это важное уточнение. Эйнштейн в свое время уточнил теорию Ньютона, которая отказывалась работать при скоростях, близких к скоростям света. Я уточняю свою собственную теорию, которая отказывается работать при таланте, близким к таланту Толстого и при его жизненных обстоятельствах. Но отказывается не полностью, конечно. Речь идет об уточнении. Тот, кто проснулся, не зафиксировав момента пробуждения, рискует подумать, что он всё еще спит. Таковым будет это уточнение, сформулированное в утонченно-афористичном виде.
3.1.6.Случай Толстого. Три источника презрения к литературе
Случай Толстого всё еще нельзя считать вполне разобранным. Полезно проанализировать весь спектр его презрительных высказываний о писательской работе. Во-первых, он презирал писателей как класс. Он изначально пришел в литературный мир из мира войны (участник обороны Севастополя) и его, военного человека, этот мир не слишком впечатлил. Писатели? – так, писаки-бумагомараки. В дальнейшем он опять-таки предпочитает быть помещиком, но не писателем, а будучи помещиком, он хотел быть не праздным помещиком, но – помещиком-мужиком. Воевать – это не писать; косить – это не писать; в общем, работать – значит работать руками, но не головой. Это презрение ко всякого рода интеллектуальному труду я назову презрением Толстого-мужчины. Толстому-мужчине всегда требовалась тяжелая физическая работа или риск для жизни, чтобы признать дело стоящим; писательство же не давало ни того, ни другого[37 - Даже и в вопросах веры он будет искать истину в вере трудового народа, а не «праздных» священников, хотя и там будет вынужден сочетать свое презрение к интеллекту с необходимостью постигать веру интеллектуально (через знакомство с религиозными учениями).].
Далее, презирая изнеженных, не нюхавших пороха литераторов, он презирал и литературу, а точнее – литературщину. Литературщина (это все же не термин Толстого, а потому требуется уточнение) есть нечто, являющееся плодом литературной жизни в целом – весь этот безбрежный океан письма, порождаемый пишущими людьми. «Бумага всё стерпит», но Толстой – нет. Толстой не хочет писать просто потому, что он писатель, и, парадоксальным образом, но он абсолютно прав. В самом деле, современники часто упрекали Толстого в том, что он не пишет, а занимается посторонними вещами: то он на войне, то на хозяйстве, то школами занимается, то еще чем-то. Кажется, именно современники правы: раз Толстой писатель, то его дело – писать. А он в ответ только смеется над литературой. И всё же именно Толстой прав. Почему? Потому что, когда надо, когда приходит время, он садится и пишет, и то, что он пишет – это и есть Литература, а то, что вообще пишется – это и есть литературщина. В этом своем презрении к литературе как ловкому перенесению чернил на бумагу (опять бумагомарание) в угоду читающей публике Толстой безупречно велик. Он живет, а не пишет, когда же он пишет – то ему есть что сказать о жизни.
Однако Толстой не просто смеется, но прямо отрекается от литературы. Здесь крайне важно отметить, что Толстой отрекался от литературы не один раз. Помимо спорадических высказываний на эту тему, есть и достаточно четко определяемые пограничные высказывания, то есть такие высказывания, которые отделяют одну фазу жизни от другой. Так вот, первое отречение Толстого от литературы можно смело датировать осенью 1859 года – ему еще едва-едва тридцать лет, а он уже сыт литературой по горло. Почитаем же, что он пишет в это время:
«Верю, любезный друг Александр Васильевич, что вы меня любите как человека, а не как редактор писаку, который будто бы вам может быть на что-нибудь годен. Теперь же как писатель я уже ни на что не годен. Я не пишу и не писал со времени „Семейного счастья“ и, кажется, не буду писать. Льщу себя, по крайней мере, этой надеждой. Почему так? Длинно и трудно рассказать. Главное же – жизнь коротка, и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей, какие я писал, совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу, – тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-богу, руки не поднимаются. Даже смешно, как подумал, что не сочинить ли мне повесть? Поэтому-то желания вашего исполнить не могу, как мне ни досадно вам отказать в чем бы то ни было. Пшеницы продать, распорядиться вашим хозяйством и еще кое-что – это могу». (Л. Н. Толстой – А. В. Дружинину.1859 г. Октября 9. Ясная Поляна).
И еще одно важнейшее письмо:
«Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил. Отчего? трудно сказать. Главное то, что все, что я делал и что чувствую себя в силах сделать, так далеко от того, что бы хотел и должен бы был сделать. В доказательство того, что это я говорю искренно, не ломаюсь перед тобой (редкий человек, когда говорит про себя, устоит от искушенья поломаться, хоть с самым близким человеком), я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне. Все это время я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем-нибудь пустоту, которую оставило во мне это отречение: то охотой, то светом, то даже наукой». (Л. Н. Толстой – Чичерину. Б.Н. 1859 г. Октября конец – ноября начало. Ясная Поляна)
Писателей надо прямо-таки обязать писать побольше писем – именно в письмах они пишут и свою жизнь. Здесь Толстой как на ладони, и он говорит нечто, от чего впоследствии, конечно, отрекся бы – но то, что написано пером… Как же это его угораздило назвать литературную деятельность лучшей в мире! И это не при увлечении литературой, но при отречении от нее! Непростительная оплошность. Но это и есть слова настоящего писателя, который отрекается не от литературы вообще, но от той литературы, которая не дотягивает до звания Литературы. Он готовится выйти на новый уровень служения Литературе, и этот новый уровень требует очистительной жертвы отречения от старого. Толстой приносит эту жертву. Пройдет еще какое-то время, и он возьмется за подлинно неподъемный труд – «Войну и мир» (первоначальный вариант – «1805 год»). Любопытно, что здесь можно выделить одно гротескное событие, которое… :
«А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я – литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина 1-й части «1805 года». Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение…
Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера и ореховых чернил; печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет – бяда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательства расстраивают ход этой длинной сосиски, которая у нас, нелириков, так туго и густо лезет». (А. А. Фету. 1865 г. Января 23. Ясная Поляна)
Вот оно – очнулся после дурмана, проснулся и сказал себе – да, пусть я презираю писателей, но и я – писатель, так буду же таким писателем, чтобы не презирать хоть себя. Буду настоящим писателем. Собственно, именно здесь Толстой и отвечает на вопрос «зачем ему быть писателем?» – а именно, не просто чтобы писать что-то, раз уж он умеет писать, но чтобы приобщиться к Абсолюту литературы[38 - Здесь же отметим, что писатель никогда не в состоянии вполне отрешиться от ожидания реакции читательской «массы». Это выше писательских сил. «Я не пишу для массы» – громко скажет всякий серьезный писатель. «Только б не ругали», – добавит он шепотом. «Вот бы похвалили», – добавит он про себя.]. Таким образом, первое отречение Толстого от литературы находится строго в рамках его чисто писательского призвания. Он просто переходит от ответа на вопрос «как ему писать?» к ответу на вопрос «зачем он пишет?». Почему же в таком случае позже он все-таки посчитает, что на этот вопрос – зачем? – литература ответа не дает? Чтобы хоть отчасти понять это (а все же до конца я этого, признаюсь, понять не могу), перейдем к третьему источнику презрения Толстого к литературе.
Да, есть еще и третий источник презрения: взгляд свысока. Толстой еще при жизни был назван писателем-небожителем, причем достаточно рано. И он невольно посчитал себя этим самым небожителем, но бог на то и Бог, что он уже не смертный. Богу не к чему стремиться; тот, кому есть к чему стремиться – не Бог. Толстой-писатель к моменту окончания «Анны Карениной» (и даже раньше), очевидно, понял, что ему зарезервировано место на писательском Олимпе. Даже слишком очевидно понял. И вот тут я нахожусь в затруднении и невольно приходит на ум вопрос: а не был ли Толстой прав и в этом? Ведь он действительно сделал нечто, выше чего ему, как писателю, уже было не подняться, почему и не было уже смысла оставаться писателем. Завершив «Анну Каренину», он вполне прожил свою писательскую жизнь. Писать дальше – зачем? – и тут начинает работать пункт два – не для того же, чтобы просто писать и слушать аплодисменты? А если – нет, значит, и не надо.
Но ведь Толстой рассуждает не так. Он прямо называет созданное пустяками, а вовсе не покоренной вершиной. Всё упирается в это непростительное слово – «пустяки». Писатель не имеет права говорить так о своем труде. Презираешь писательскую братию – презирай, зачастую она того стоит; призираешь литературу – презирай, но создай взамен Литературу; создал Литературу – относись к созданному с уважением. И вот тут почти всегда возникает некая преграда, мешающая человеку посчитать, что он достиг пика, либо требующая от человека, чтобы он продолжал свои труды – так складываются, с одной стороны, чисто творческие, а с другой – разнообразные жизненные обстоятельства, и всё это переплетается. Всегда что-то мешает посчитать себя олимпийцем и остановиться. Уникальность случая Толстого, вероятно, и состоит в том, что ему ничто не мешает. Не отсюда ли и презрение – что это за литература такая, которую можно покорить! Литературный Абсолют относительно Толстого оказывается относительным (с его точки зрения). Пустяки это, а не дело. Дайте мне теперь настоящее дело – такое, чтобы с ним нельзя было справиться! И он ищет такое дело: