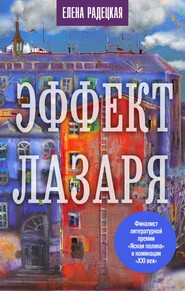скачать книгу бесплатно
– Надо было мне позвонить, вместе поехали бы. Ты теперь живешь у Кости?
– Временно.
– А скажи, пожалуйста, он случаем не пьет, Костя?
– Ты что! Он не алкоголик, он трудоголик, обычный пошлый трудоголик и кромешный идиот. Лет десять назад его приглашали на работу в Германию, с квартирой и большим заработком. Представь себе, отказался, не мог, видишь ли, бросить своих ребят, они без него с каким-то проектом не справились бы. А предложи его ребятам хорошее бабло, они бы его мигом бросили. Вот и сидит в своем дерьме с нищенской зарплатой.
Все понятно, Сусанка вернулась, и Костик не вспоминает обо мне. Она его идиотом называет, а он счастлив, когда она временно возвращается. Интересно: если я – перевоплощение Софьи с ее любовью, то кто же Костя, так похожий на своего прадеда, но забывший, кого ему следует любить? Похоже, он недовоплотился…
Иногда при высокой температуре или на грани сна и яви что-то передо мной мелькает, в мозгу, какое-то воспоминание. Я пытаюсь ухватить его, иногда даже мнится: вот-вот… Что-то брезжит, сейчас вспомню… Что? Никак не вспомнить. А это, я чувствую, очень важно.
Листаю альбом Гонсалвеса, ищу намеки в его картинках. Может быть, это воспоминание придет ко мне через сон? Бывает, во сне я вижу другую жизнь, но смутно вроде бы: прихожу на дачу, только не к дяде Коле, а на другую, где много комнат и веранда, рамы с частыми переплетами. Там какие-то люди, иногда мне кажется, я их знаю, иногда – нет. Один раз я встретила там Костю, и мы уединились и танцевали в каком-то круглом и высоком зале, но зал я не рассматривала, все мое внимание и переживания были прикованы к Косте, я прижималась к нему, обвивала его, как лиана, в общем, сон был эротический.
Еще недавно мне казалось, будто все сегодняшнее лишь подготовка к завтрашнему – настоящему, и когда оно наступит, тогда я буду жить в полную силу. И все у меня устроится. А ведь завтра давно наступило. И как быть в этой ситуации?
Теперь я ждала сорокового дня со смерти дяди Коли. Должно же что-то случиться в этот день? Если нет, тогда я поставлю жирную точку на всем моем прошлом.
Я смотрю на дяди Колину обезьянку, сирота-сиротой сидит она с кислой рожицей на моем столе среди бумаг.
Как-то надо пережить оставшиеся дни. Я вычеркиваю их в календаре каждое утро.
12
Из моего окна, прямо с постели, видна желто-зеленая верхушка цветущего молодого клена, черемуха и липа-трехстволка. Это то, что растет во дворе, а за ним серо-розовая плоскость брандмауэра. За последнее десятилетие он обзавелся окнами, которые жители дома прорубили законно или незаконно. Окна оживили глухую в потеках стену, были они разных размеров и разбросаны совершенно произвольно, так что трудно представить, как там внутри все устроено. Одно из окон – нечто эксклюзивное, так сказать, ударный аккорд: на подоконнике затейливая кованая корзина ручной работы, в которой летом пышно цветет розовая и фиолетовая петуния. Но я балдею от другого окна, на углу, под крышей. Там, на закате, восходе или в грозу происходят небесные фантасмагории. То стекло, словно перламутровой пленкой, затягивается, как глаз снулой рыбы, то наливается клюквенным светом, то идет пепельными волнами по грозно-синему. Иногда возникают целые картины: торосы облаков, бухты среди гор, а у подножия – селения. В своем роде фантазии Гонсалвеса.
На плоский выступ крыши этого дома часто садятся чайки или вороны. Продрав утром глаза, я первым делом смотрю, кто там сидит. Если чайка, а то и две – будет удачный день, ворона – хуже, какая-нибудь хреновина возможна.
Не успела поднять веки, вспорхнула с крыши черная тень. Ворона. Краем глаза увидела, так что можно считать, ее и не было. За окном ясно. Воскресенье. До сороковин осталось двадцать пять дней.
Мартышка смотрит со стола, в скорченной фигурке унылое одиночество. Напрасно не поехала на дачу с Гениями, чем заняться, не знаю, в душе вселенская скорбь. В размышлениях, как с ней бороться, отправилась на улицу. Тепло. Люди несут букетики ландышей. Пошла в парикмахерскую и коротко постриглась.
Дома разглядываю себя в зеркало и не нравлюсь себе. По-моему, стало хуже, чем было. Чтобы ощутить перемену, надо было стричься наголо.
Внешность у меня вполне пристойная, чтобы не лить слезы по этому поводу, но «комплекс обезьяны» нет-нет и дает о себе знать, особенно в периоды черной полосы.
– Я – маленькая обезьянка, всегда мила, всегда нема. И скажет больше пантомима, чем я сама… – пою, переиначивая Вертинского, и тут звонит Лилька с выговором.
– Я же просила тебя! Как человека просила!
– Клизму Шурке вставить? Вставила. Не по-детски.
– По телефону? Кто ж клизму по телефону вставляет? Она угрожает сделать тату на все тело и пирсинг на языке.
– Скажи, что согласна. Хоть кольцо в нос. Не сделает.
– Она такая, что может сделать назло.
– А ты в ее мобильник не лезь! Она просила тебе передать, что любовные эсэмэски сразу уничтожает.
– Так у нее есть парень?! – Голос растерянный.
– Я бы не удивилась.
– Так есть или нет? Я же должна об этом знать!
– Думаю, пока парня нет. И оставь свои обыски.
– Ладно, но ты держи руку на пульсе. И поговори с ней еще раз. Ты крестная мать или кто?
Или кто. Крестная мать я, скажем прямо, номинальная. Крестили Шурку без меня, теперь присутствие крестных не обязательно, как и свидетелей при бракосочетании. Уже потом Лилька сказала мне: учти, я тебя назвала крестной. Кому назвала, священнику? Или Шурке? Возможно, моя мать тоже однажды сказала тетке Вале: «Соньку окрестили, я назвала тебя крестной матерью». Но, в любом случае то, что меня выбрали Шуркиной крестной, приятно, мерси. К тому же заслуги у меня перед семейством все-таки есть. Пока Лилькин муж валялся в больнице с почечными коликами, а тетка Валя пребывала в загранкомандировке, я забирала Лильку из роддома. Именно на мои руки сестричка положила кулек с Шуркой, когда вынесла ее, а я вручила ей три рубля (за мальчика давали пять). Не могу сказать, что относилась я к Шурке номинально. Из всех знакомых детей она была у меня единственной любимой. Кстати, в ней присутствует нечто обезьянистое, как и во мне, как, между прочим, и в прабабке Софье Михайловне.
Раньше у нас с Шуркой была любовь, а теперь одно недоразумение. Проблема отцов и детей. Пыталась Шурке «клизму вставить». Она твердит: «Ненавижу Хмыря». Так она Лилькиного жениха называет. Я Шурке о том, что не надо хамить, пусть мозгами раскинет: через пять лет у нее своя семья будет, а мать останется несчастной сиротой, и последствия этого непредсказуемы. А сейчас Лилька может устроить свою жизнь, даже ребенка родить.
– А кто моего будет нянчить? – спрашивает Шурка.
– Это юмор или эгоизм?
Я перестаю ее понимать.
– Да ладно тебе, Соништа… Ты стала какая-то неродная.
– Это ты неродная, – буркнула я.
– Ну, не сердись, – примирительным тоном. – Ладно? Чмоки-чмоки.
– Какие «чмоки»? – Я задохнулась от возмущения. – Что за пошлость из тебя лезет?
– Да ты что, это же песня. Просто песня. Я думала, ты продвинутая. «Пока-пока, чмоки-чмоки, от тебя исходят токи-токи… – начинает она петь мерзким голосом. – Тебя коснусь, меня трясет, не влезай, а то убьет…»
Это Шурка мне клизму вставила! Как с ней говорить, я не знаю. Я переполнилась праведным негодованием и послала ее в задницу. Это не педагогично? Других методов не знаю.
Да, между нами пропасть. Я воспитана в Советском Союзе, я была октябренком, потом пионеркой, я даже успела вступить в комсомол. Не то чтобы нас насильно туда загоняли, но никто не протестовал, и попробовал бы! В дальнейшем, когда Советы рухнули и когда старшее поколение, вроде мамы, хоть и бурно радовалось, но немного растерялось, мы – ничуть. И только теперь я ощутила растерянность и не могла решить, к какому берегу я ближе, к отцам или к детям? Может, потому, что своих детей не было? А нужны ли они?
13
Аккуратно зачеркиваю дату в календаре. Осталось двадцать два дня.
Спускаюсь в метро. На эскалаторе новые рекламные постеры со стихами. Уже не в новинку уличная реклама с шедеврами мировой живописи. По каналу Грибоедова развешивают сокровища Русского музея – гигантских мясоедовых, левитанов, репиных и пр. На Невском – веласкесы, тицианы, ренуары, мане и моне. Это привлекательно-образовательная программа. И вряд ли кто удивится, если увидит изображение решетки Летнего сада, а внизу – «…твоих оград узор чугунный…» Александр Сергеевич в законе. Но почему в метро появляются постеры со строками Джона Китса: «Вот я уже с тобой! Как эта ночь нежна!» Каждый день стараюсь прочесть дальше, но глаза успевают захватить лишь одну строчку: «Там где-то властвует луна…»
Стихи везде одни и те же, фон меняется: то чернильница с гусиным пером, то старинная рукопись или розовые пуанты, то написаны строки мелом на грифельной доске… Конечно, видеть это приятнее, чем рекламу стройтоваров, ближайшей «стоматологии» и очков – «два по цене одного». Но в чем фишка – не пойму. А со временем и текст слегка видоизменился: «И я с тобой! Как ночь нежна!» Другой перевод?!
То ли заказчик помешан на Китсе, причем на определенном стихотворении, то ли на Фицджеральде? Когда я смотрю на эти постеры, мне хочется перечесть роман, потому что я забыла, в чем там дело и почему эпиграфом взяты эти строки. Книга у меня есть. Но, приходя домой, я никогда о ней не вспоминаю. Кстати, когда я впервые увидела эти строки, я не знала, что это за стихи, и решила, будто они обращены к женщине – «Вот я уже с тобой…» Ничего подобного. Оказалось, это «Ода соловью». Разочаровал стихотворец.
Хочу услышать соловья. Должно быть, они уже поют.
Генька мне говорит:
– Классная стрижечка. Не хочешь отвезти бумаги «Большому Брату»? Между прочим, твой Макс будет там до конца недели с утра до полудня.
Как славно я жила после изгнания Битрюма, сама удивлялась и боялась сглазить. И вот меня догнало одиночество. Но это теперь, а с Максом я познакомилась полгода назад, на корпоративе в честь круглой даты со дня рождения «Большого Брата». Поначалу я приняла его за редактора и только потом выяснила, что он работает в НИИ морского приборостроения, а в издательстве консультирует и пишет какие-то статьи для энциклопедии по своей специальности. Макс был похож на крупного, мягкого и вислоухого пса типа сенбернара. И тогда же я подумала: костюм не для него, ему подойдет красная клетчатая фланелевая рубашка. А он меж тем запал на меня, как говорится, с первого взгляда, ни на шаг не отходил, приглашал и в ресторан, и в театр, куда пожелаю.
Гений сказал:
– Чего ты кобенишься? Красавец-мужик, серьезный, не какой-нибудь прохвост, к тому же вдовец, сын уже женатый. Пробросаешься.
И Генька поддакивала:
– Красавец – не красавец, но мужчина видный. Подумай!
А что думать? Сердцу не прикажешь.
Электронной почтой я пользуюсь только для рабочих надобностей. Личной переписки у меня нет, прекрасно обхожусь телефоном. И вдруг получаю письмо от Макса: мол, давайте получше узнаем друг друга, напишите мне, какие книги читаете, как любите отдыхать, и прочее в таком же духе, только более складно и деликатно. А я ответила без всякой деликатности: одиночество, мол, предпочитаю не в Сети, а в натуре. Подумала, Януша Вишневского он наверняка не читал, но фразу не выбросила, а продолжила: благодарю за предложение переписываться, но не могу его принять, мне это неинтересно. Он письменно извинился за беспокойство, я думала, на том и кончилось. Но ничего подобного, на Восьмое марта, снова у «Большого Брата», он подарил мне альбом Гонсалвеса. Я поблагодарила, но и тут умудрилась сказать гадость. Услышала звонок его мобильника – тот самый, что и у Битрюма. Когда я его слышу, у меня аж волосинки на теле дыбом встают от гнева и отвращения. Об этом, скорчив рожу, я не преминула сообщить Максу. Телефон он тут же выключил, а мне стало стыдно, но прощения и не подумала просить.
Я вела себя, как юная глупая девчонка, которой не нравится влюбленный кавалер, и она демонстрирует ему свою незаинтересованность прямо скажем, по-хамски. Я недолго размышляла над своим странным, не по возрасту, поведением, а стоило бы. Возможно, в моей юности просто-напросто не было парнишки, который бегал бы за мной и терпел мои насмешки да подстебки. Кстати, девчонки иногда нахально себя ведут совсем не потому, что их раздражает внимание парня, они хотят обратить на себя внимание. Только я-то уже не девчонка, и внимание Макса мне не нужно.
14
Осталось двадцать дней.
«Вот я уже с тобой…» на фоне букета в непонятном сосуде. Возможно, это потир, хотя скорее что-то вроде металлической креманки, в каких во времена моего детства в кафе продавали шарики мороженого, только этот сосуд украшен выпуклым рельефом. Задумалась и опять не успела прочесть дальше третьей строчки.
Это было по пути на работу. А с работы, вверх по эскалатору стихи Китса на фоне старого кожаного альбома для фотографий. У нас есть подобный.
Достала из шкафа альбомы разного времени, разных размеров. Самый старый, кожаный, словно в кракелюрах, высох и потрескался. У него есть клапаны, обнимающие и закрывающие альбом, но они почти окаменели от времени. На другом альбоме в углу металлическая накладка в виде цветка настурции. На маленьком, холщевом – тисненый силуэт старого фотоаппарата с гармошкой. Советский плюшевый альбом с полукруглыми прорезями для открыток, в нем тоже натыканы фотографии, а те, что туда не поместились – в коробке, много раз их ворошили, все они перепутаны. Альбомчики с прозрачными кармашками для цветных фотографий моего времени я не беру в расчет. Меня интересуют старые, и у нас их предостаточно. Костин прадед, фотограф-любитель, внес неоценимый вклад в дело увековечивания памяти родственников.
Вот они! Сидят за накрытым столом вокруг самовара и на деревянном крыльце, стоят в группах среди совершенно мне незнакомых людей. Младенцы в пеленках, ребенок на руках кормилицы в кокошнике и русском сарафане, мальчик в девчачьем платьице и высоких ботиночках стоит на шелковом сиденье кресла, девчонка в матроске, в общем, дети разных возрастов. Кто из них кто – не догадаешься, если снимки не подписаны. Фотографии на паспарту с тиснеными названиями города и адреса фотоателье. Много черно-белых фоток Томика, друзья любили ее фотографировать. И мой детский альбомчик с записями мамы: когда я встала на ноги и пошла, когда вырос, а потом выпал первый зуб.
Я стала выбирать лучшие портреты своей родни. Перво-наперво занялась снимками тезки-прабабки, бедняги Софьи. В белом платье с теннисной ракеткой. Мила, изящна, фотогенична. Отложила и другой хороший снимок, где она в теплом жакете, в вырезе видна блузка с воротничком-стоечкой, на шее медальон, и в уморительной шляпе, похожей на блин, подгоревший по краям. В результате выбрала погрудный портрет, без шляпы, с воздушным облаком волос. Здесь хорошо прорисовано лицо.
Для Софьи я отыскала Костиного прадеда – Константина Самборского, который, возможно, приходится прадедом не только Косте, но и мне. Романтичный мужчина в высоких сапогах, куртке, шляпе с полями, со сложенным фотоаппаратом на плече (поначалу я думала, что это этюдник) и треногой в руке. О Константине у меня почти нет сведений. Был инженером, мосты строил, еще до революции работал где-то в Сибири или на Урале, а после революции был арестован, выпущен, второй раз арестован и погиб (расстрелян?) в Вятлаге, в Кировской области. Дата смерти неизвестна.
Поставила Софью и Константина рядышком на письменном столе.
Теперь снимок Ираиды, по-домашнему – Ирочки, – старшей сестры Софьи. У нее тоже красивые густые волосы, но не тонкие и легкие, а тяжелые, гладкие, закрученные на макушке кукишем. Глаза чуть сонные, лицо выражает томность и меланхолию. Похоже, этот образ считался модным в начале двадцатого века.
У Ираиды была не совсем обычная судьба: то ли она сбежала с заезжим гусаром, то ли уехала к любовнику в другой город, в общем, выкинула какой-то фортель. Дома ее не одобрили, возможно, даже прокляли. Она порвала связи с семьей, но, может, и не порывала, а просто потерялась в хаосе войн и революций. Не исключено, что где-то за границей у меня сейчас проживают родственники, только почему-то меня не ищут.
Для девочек – Софьи и Ираиды – (они на фотографиях гораздо моложе меня) отыскала их маму, Надежду Афанасьевну, мою прапрабабушку, еще не старую строгую даму, с чрезвычайно печальным лицом, словно она предвидела несчастную судьбу своей семьи. После гибели Софьи и смерти мужа, случившейся вскоре после того, ее разбил инсульт и, недолго пролежав парализованной, она тоже умерла.
Далее: муж Надежды Афанасьевны, отец девочек и мой прапрадедушка – Михаил Васильевич Самборский. В шляпе, с бородой, он похож на всех, у кого была борода и шляпа, от Эмиля Золя до Куприна, Вересаева и Луи Пастера вместе взятых. Он серьезный господин и отдал жизнь, можно сказать, во славу науки и людского блага. Вот как! Без шуток. Так и есть.
Конечно, он не был великим ученым, но служил ради великой цели и по совести. Как и Мечников, он закончил Харьковский университет, правда, значительно позже, и за границей, как тот, не специализировался, у Пастера в Париже не работал, все гораздо скромнее. Но на сегодняшний день выглядит круто.
Поначалу он трудился в Одессе на первой в России бактериологической станции, а в Петербурге – в Императорском институте экспериментальной медицины, потом в знаменитой лаборатории, устроенной в кронштадтском форте «Александр1», который прозвали «Чумным фортом». Здесь изучали инфекционные болезни и изготовляли против них сыворотки. Погиб Михаил Васильевич в 1911 году, в Поволжье, куда был отправлен на борьбу с холерой. Заразился и умер. Где похоронен – неизвестно.
Человеком Михаил Самборский был почтенным, а физиономия – невыразительная, застывшая. Даже борода, придающая внешности интеллигентность и мягкость, ему не помогла. Только на одной фотографии, где Михаил совсем молодой, он выглядит симпатягой и даже немного франтом: с бутоньеркой в петлице и прической, по выражению моей мамы, а-ля-Капуль. Был некий французский тенор, именем которого окрестили эту прическу с прямым пробором, хотя мне она, честно сказать, напоминает скорее что-то русское, связанное с трактирными половыми. Этим я никак не хочу умалить достоинство Михаила Самборского или французского тенора Капуля, совсем нет, ведь это единственная фотография, где в лице моего прародителя присутствует нечто живое и даже игривое. Но поскольку игривость и веселость не были его отличительными свойствами, а я искала лица с «характеристикой», то выбрала фото с бородой и в шляпе. Кстати, на Чехова Михаил Васильевич тоже смахивал, это я отметила еще в школе, когда нас заставили рисовать родословное древо, а позднее писать сочинение о ком-нибудь из родственников.
Все это можно представить так:
К видеоряду избранных добавила сестру Костиного прадеда, Варвару, близкую подругу-наперсницу и двоюродную сестру Софьи и Ираиды. Судьба ее неизвестна. Она уехала за границу на лечение (чахотка?) до революции и сведений о ней больше не было. Возможно, и у нашего Кости где-нибудь в Швейцарии или Италии существуют родственники.
Свою бабушку Веру я знала совсем старенькой, но фото выбрала довоенное. Лицо умное и серьезное. Шалевый воротник, должно быть из кроличьего меха, из него же шляпка. Бабушка не носила платки, только шляпы, даже в старости.
Нашла мужа бабушки Веры, моего деда, Павла Ивановича Коваленко. Он закончил Лесотехническую академию. Его фотографий немного, и везде он с кем-то в паре, в группе, далеко от объектива – лица не разглядеть. Самой лучшей оказалась фотография с документов.
Дед был на фронте, в сорок втором попал в плен, вернулся домой, и единственное, что успел сделать, зачать дочь, то есть Томика. Тут его и арестовали. В справке о реабилитации сказано, что дело по обвинению пересмотрено, приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Ни даты смерти, ни места погребения. В дальнейшем Томик писала в архивы и выяснила, что ее отец умер в 1949 году от рака легких в больничном бараке поселка Абезь (республика Коми) и похоронен там же. Позднее у нее была переписка с местным краеведом, который сообщил, что вокруг Абези существовало десять кладбищ, закапывали в общих могилах. Но сейчас от кладбищ почти ничего не осталось, их территория распахана под совхозные поля.
Дед так и не узнал, что у него родилась дочь.
Юлия – бабушкина сводная сестра, дочь ее отца от первого брака. Она подружилась с Софьей и ее двоюродными сестрами, хотя была моложе. Шестнадцатилетняя Юлия заменила Вере мать, после того, как та осиротела, и вырастила ее.
До революции Вера получала хорошую пенсию за своего деда-инфекциониста, и родственники помогали, в доме была прислуга, а у Веры – няня. После революции пенсии не стало, и родственники сами выживали, как могли. Теперь основным добытчиком стала Юлия, она зарабатывала уроками музыки, французского и немецкого языков. И была у нее идея-фикс: выучить Веру, а для этого нужно было скрыть ее истинное происхождение. Юлия распространяла сказки, будто их отец Борис Чернышев – жертва царизма, его сгноили на каторге за сочувствие большевикам, но приписать Веру к классу кухарок и сделать ее отца революционером не получилось. Вера пыталась поступить в университет, потом в институт народного хозяйства, а в результате окончила бухгалтерские курсы и проработала всю жизнь бухгалтером.
И Юлия, и Вера были волевыми женщинами, твердости духа им хватало на все и на всех, кроме детей. Юлия ни в чем не могла отказать Вере, Вера проявляла чрезмерную мягкость к Томику. Однако Вера жила в другое время, в другой обстановке и выросла цельной натурой, а Томика баловство и вседозволенность сделали легкомысленной и капризной. Девиз ее с детства: чего хочу – то ворочу. А может, она уродилась такой своенравной. Меня бабушка тоже любила и потворствовала моим прихотям, но была она уже очень стара, слаба и не успела меня разбаловать.
Нашла фото моей тридцатилетней матери. Тут она во всей красе. Взгляд решительный, глаз – веселый.
Не было среди фотографий только Бориса Викентьевича Чернышева, мужа прабабки Софьи, отца Юлии и Веры. Не захотели хранить изображение убийцы. И Владислава Богушевича, моего отца, не было. Мать извела все его фотографии, но свадебные сохранились у тетки Вали, она мне их отдала, а я спрятала в книгу «Лермонтов в воспоминаниях современников». Мои родители разошлись года через полтора после моего рождения. Отец впоследствии женился и отбыл в Каунас, а уж оттуда, не знаю как, в Польшу.
Фотография отца для моей экспозиции была не так уж и нужна, ведь в нашей жизни он не играл никакой роли. Появился и исчез. Долгие годы мы о нем вообще ничего не знали, а лет восемь назад позвонил и сообщил, что пробудет несколько дней в Петербурге и хотел бы со мной встретиться. Когда приедет – не сказал, и больше не позвонил. Я уже стала подозревать, будто кто-то меня разыграл, но первой к телефону подошла мать, и она утверждала, что это был он.
– Это его голос. И звонок в его духе. Возможно, он снова позвонит, как ни в чем не бывало, – сказала она и добавила: – Лет через десять. И опять назначит свидание.
Еще я нашла фотографию первой жены Чернышева, матери Юлии. Поначалу я решила, что это наша Ираида, сестра Софьи, такие же тяжелые сонные веки и томный взгляд, но потом прочла на обороте надпись. Ее тоже не стала ставить в собрание фотографий. Она к семье не принадлежала. Зато приложила свой портрет, где мне было лет двадцать пять, и я себе нравилась. Здесь я походила на Софью Михайловну.
Я соорудила на письменном столе постамент из книг и расставила все фотографии по ранжиру, от прапра – до меня. Это была моя семья! Вглядывалась в их лица, и странное чувство меня охватило, словами не передать. Оно торкнулось где-то в мозгу, как легкое и мгновенное головокружение. А если все-таки попытаться объяснить, очень грубо, хотя бы приблизительно, то смысл ощущения в том, что все мы тут, и мертвые, и живые, едины. Одиночества нет. Мы не случайная компания. И, как ни странно, это моя единственная «каменная стена». Только я не за «каменной стеной», а перед ней. Тоже неплохо, есть на кого опереться. Мы защищаем друг друга.
И все-таки не всех родных я собрала, не хватало здесь двоих близких мне людей – дяди Коли и тети Нины Самборских. А Костина ветка выглядит примерно так:
Как пришла мне в голову мысль спросить их, моих родственников, что они думают обо мне, о моем будущем? Однако пришла! И тогда, вглядываясь, прямо-таки гипнотизируя мою прапра – Надежду Афанасьевну, я спросила ее мысленно, как мне быть-жить?
Молчала пращурка. Похоже, ей было нечего мне сказать.
Прапрадед Михаил Самборский, честный труженик, посвятивший жизнь спасению человечества от инфекционных заболеваний, смотрел на меня с фотографии без всякого выражения. Ничего не отражалось в лице. Нет – он на меня вообще не смотрел. У него была семья, он помнил о ней, он не так часто мог видеть родных, потому что подолгу жил в кронштадтском форте. Но, конечно же, в круг дорогих ему людей я не входила.
Дальше – Софья Михайловна, Сонечка, Сонулька, еще незамужняя, радостно-легкомысленная. Я магнетизировала эту юную девочку, которой ее собственное будущее в страшном сне не могло присниться. Что же она могла сказать о моем?
Заговорила, как ни удивительно, ее сестра Ираида – Ирочка. Она неожиданно пристально глянула на меня из-под тяжелых сонных век и сказала следующее: «Следуй велению своего сердца, если оно согласно с совестью».
Я вздрогнула и перевела глаза на портрет Константина, прапра нашего Кости. На фотографии он был молодым. Смотрел ласково и спокойно, так нынешние не умеют. И неожиданно произнес: «Вот здесь все то, что в жизнь мою внесло так много счастья, радости, так много дивных, неземных переживаний, когда весь мир забыт и предан был…»
Он не со мной разговаривал. А с кем? Хоть мир забыт был и предан, но верность до гроба он не хранил! Он женился вскоре после убийства Софьи, когда Вера была малышкой, и уехал куда-то в Сибирь строить мосты. Нет, не была Вера его дочерью, это очевидно.
Варвара, сестра Константина, обратилась ко мне на «вы»: «Вам уже давно пора иметь семью. Жизнь так быстро проходит…»
Почему-то я думала, что бабушка Вера, очень меня любившая, скажет что-то важное, и она сказала: «Больше не ошибайся…»
Что значит, не ошибайся? Я ведь и спрашиваю, что мне делать, чтобы не ошибиться.