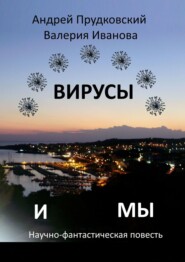скачать книгу бесплатно
– Анна Сергеевна, а почему на этаже, где проводят эксперименты с вирусами, всегда так малолюдно?
Анна улыбнулась:
– Жалеешь, что так никто и не увидел твои белоснежные трусики? Впрочем, причина есть! Давай я тебе расскажу одну давнюю историю.
Итак, был уже поздний вечер, когда молодая начинающая лаборантка, убирая пробирки с вирусами из боксов, нечаянно споткнулась. Одна пробирка выскользнула из ее рук и разбилась. Вместо проведения дезактивирующих мероприятий лаборантка подмела осколки пробирки веником и выкинула их в обычное помойное ведро. Всё бы могло и обойтись, но в пробирке были живые вирусы. А это реальное ЧП.
Конечно, утром всё вскрылось, и лаборантке пришлось сознаться. Всем сотрудникам тогда для профилактики ввели большие дозы гамма-глобулина, на который у одной из сотрудниц возникла аллергическая реакция, приведшая к её смерти. Так вроде бы обычная цепочка случайных событий привела к трагическим последствиям.
С тех пор, хотя и не было больше подобных ЧП, сотрудники всё же предпочитают не заходить на этаж с боксами без крайней необходимости.
Глава 3. Катя
Серое небо низко нависало над прудом. В неподвижной воде отражались деревья и фигурная башенка ротонды. Замершие на поверхности пруда утки казались приклеенными к воде, они ждали! Ждали какого-то важного момента в своей утиной жизни. По дорожке к пруду подошла мамаша с двухлетним ребёнком. Утки, заработав лапками, быстро поплыли к берегу. Женщина вынула из сумки батон белого хлеба и стала его крошить прямо на берегу. Малыш загукал, глядя на уток и показывая на них пальцем. Утки выбрались на берег и, подбирая крошки хлеба, начали подходить к малышу. Тот, испугавшись, побежал к маме и уткнулся в её колени. Утки съели хлеб и снова спустились на гладь воды, а женщина с малышом отправилась домой.
Ничего этого не видела Катя, рыдавшая на плече у Анны Сергеевны, она вся была в своём горе. Она не обращала внимания на красоту парка, не видела уток, не видела малыша с мамой.
«Сколько связано с этим прудом, с этими утками, – думала Анна, – здесь в шестьдесят восьмом году из таких же диких уток впервые выделили вирус гриппа птиц, тогда ещё не опасного для человека. Это уже потом, во время пандемии, он выкосил несколько миллионов… А какие новые вирусы живут сейчас в этих утках, кто знает? Всех уток не переловишь! Опасной может быть одна на миллион…»
Мысль Анны унеслась в далёкое прошлое, когда этот парк был ещё владением замечательной женщины, руководившей Петербургской и Российской академиями, – Екатерины Романовны Дашковой, любимицы царицы Екатерины II… А потом, естественно, мысль перескочила и на саму Екатерину, ведь она была первой русской царицей, сделавшей в 1768 году прививку от оспы себе и своему четырнадцатилетнему сыну, будущему императору Павлу… Тогда защита от оспы проводилась путём введения материала от больных здоровым, что порой приводило к реальной болезни и даже смерти, хотя и реже, чем при обычном заражении. А за тридцать лет до того от оспы скончался пятнадцатилетний внук Петра I – Пётр II… Оспу мы всё же победили, была специальная программа ВОЗ по выявлению больных и ликвидации болезни в человеческой популяции, хотя источник остался: сходные вирусы до сих пор живут у коров, обезьян, мышей…
«А теперь рядом с парком живу я…» – Анна наконец очнулась от воспоминаний.
– Катюш! – окликнула она плачущую девушку. – Ведь когда-то и я в таком же отчаянии сидела на этой скамейке. Впрочем, с тех пор скамейку всё же сменили, но та, старая, была такой же.
Рассказ Анны
– В те годы, – продолжала Анна, – деньги в нашей стране ничего не стоили, полки магазинов были пусты, но пришла весть о том, что проходят конкурсы на иностранные гранты и что за работу эту можно получить вполне реальные доллары. У меня тогда были некие соображения, а также надежда, что мне удастся таким образом накормить мужа и маленькую дочь… Единственно, останавливал вопрос, а кто, собственно, я такая, чтобы самостоятельно участвовать в международных проектах. С некоторой опаской я высказала свои желания непосредственному своему руководителю – профессору N. Ответ был ожидаемый – приступ хохота у маститого учёного.
Вот после этого я и сидела здесь на скамейке долго-долго. А потом вернулась домой и принялась за работу. От друзей из другого института я знала, что объём проекта не может превышать двадцать две страницы на английском языке и готовят в других лабораториях такие проекты командами, состоящими из нескольких докторов наук. Я же была совсем одна и всего-навсего кандидат наук, а не доктор. Тем не менее, текст проекта я написала, а с набором текста на компьютере мне помогла лаборантка Надя. Увы, текст набрала не до конца, так как торопилась к подруге. В итоге вечером накануне подачи заявки я осталась один на один с недописанной работой. К счастью, через полчаса Надя вернулась со словами, что ей меня стало жалко. Мы закончили работу только в двенадцатом часу ночи.
Утром попросила молодую сотрудницу, кандидата медицинских наук, проверить, правильно ли всё оформлено, и поехала с готовой посылкой в пункт приема документов. Профессора N решила не информировать. В лаборатории же все знали о моём проекте, но молчали, боялись запрета от профессора. Призрачный шанс получения дополнительного дохода мотивировал коллег по лаборатории к молчанию.
Прошло примерно три месяца. В институтах стала появляться информация о том, что комиссия, состоящая из ученых разных стран, приняла решение и выбрала ученых, которые победили в проекте. Для того, чтобы узнать имена тех, кто получил грант, необходимо было позвонить по телефону из комнаты заведующего. К этому времени я уже рассказала профессору N о том, что подала заявку и участвую в проекте, ведь позвонить можно было из его кабинета только с его разрешения. Так я узнала, что выиграла грант и становлюсь руководителем проекта. Когда я сообщила это профессору N, он сказал: «Если б я знал, что Вы его получите, то я б никогда не позволил Вам его написать». Зато все сотрудники лаборатории были счастливы. В институте получили гранты трое: директор (академик), заместитель директора (тоже академик) и я.
Так я оказалась руководителем проекта, а профессор N стоял в общем списке просто как один из исполнителей. Он не возражал, хотя, я думаю, что-либо делать по моим задумкам не собирался. Иного я и не ждала, главное ведь, чтобы не мешался. Работать приходилось в основном самой. Хотя, когда пришло время делить деньги, их получила вся лаборатория, в том числе и профессор N.
Часть полученных по гранту денег я решила потратить на поездку в Китай на вирусологический конгресс, ведь Китай – это главная страна Юго-Восточной Азии, центра зарождения большинства пандемий двадцатого века. По данным ВОЗ в пандемиях «Испанка» (1918—19гг.) погибло 50 миллионов человек, Азиатский вирус гриппа, выявленный впервые в Сингапуре собрал от 2 до 4 миллионов жертв, а «Гонконгский грипп» 1968 года от 1 до 2 миллионов человек. Вот почему мне как вирусологу было очень важно побывать там. Тезисы доклада пересылала тайно от начальства. В результате оказалась на конгрессе в компании нашего директора, зам. директора и, конечно, своего непосредственного начальника – профессора N.
В Китае всё было замечательно, нашу делегацию из России очень тепло встретили хозяева – китайские вирусологи. В первый же день был мой доклад, который все признали успешным.
А вечером был концерт фольклорной музыки, прием с китайскими закусками и палочками. Самым сложным для нас было есть китайскую национальную еду с помощью палочек (потом всё же мы раздобыли вилки).
Во время конференции, как и положено, у нас была культурная программа. Мы приехали на центральную площадь Пекина Тяньаньмэнь, на которой расположен вход в дворцовый комплекс китайского императора (Гугун – запретный город), построенный в 15-ом веке. На территории комплекса несколько небольших зданий с загнутыми вверх крышами, много мраморных дорожек и лестниц, на входе которых расположены сказочные чудовища. Здания окружает прелестный сад с восточными растениями.
Покинув комплекс и перейдя на другую сторону площади Тяньаньмэнь, попадаешь из сказки в эпоху революций, о чём напоминает памятник его вдохновителю и организатору Мао Цзэдуну – китайскому революционеру, руководителю страны КНР с 1954 по 1976 годы. Да, речь идет о посещении мавзолея, в котором он похоронен в земле, а в помещении стоит памятник ему в виде скульптуры. Вокруг много живых цветов.
Гуляя после заседаний по улицам Пекина, я поняла, что означает слово «много». В первую очередь везде много людей. Всю жизнь прожив в мегаполисе – Москве, в Пекине я даже боялась переходить улицу из-за массы велосипедов, которые не останавливаются на красный свет и которых много, очень много… Я поняла, что такая скученность населения и благоприятный климат – прекрасные условия для зарождения и распространения эпидемий и пандемий.
Вечерами после конференции собирались в одной из комнат. В первый же такой сабантуй директор спросил моего начальника, кто же написал грант – конечно, он? В ответ позеленевший профессор сказал, что нет, не он, а я. Я это подтвердила.
На следующий вечер все повторилось, и директор обратился ко мне с удивлением – неужели я действительно смогла написать всё сама. А когда я подтвердила, предположил, что я еврейка. Я разозлилась, как Солоха у Гоголя, и сказала, что тресну его по голове, если он еще раз спросит меня об этом, чтоб он на всю жизнь запомнил, что русские люди очень талантливы и многое могут сделать. А ещё, что мой дед был русский священник Василий Архангельский, расстрелянный в 1918 году, а по папе я украинка. Наступила полная тишина. Это было хуже бомбы. Никто за время его двадцатипятилетнего правления не мог даже слова сказать ему поперек, а тут я…
По возвращении в институт директор попенял мне, что я себя плохо вела, но так и не объяснил как… Через четыре года была защита моей докторской. Я думала, он мне припомнит, тем более что был председателем Учёного совета. Но все прошло блестяще, все были за…
Катя перестала плакать и внимательно слушала ту давнюю историю.
– Так вот, – завершила свою речь Анна, – давай теперь прикинем твою ситуацию. Ты говоришь, что твоя руководительница Светлана лишила тебя кандидатской диссертации, забрав все разработки для защиты собственной докторской, но имей в виду, что её теоретические разработки тоже входили в твою диссертацию. Так что этот труд был общим. И в чём, собственно, твоя проблема? Вот на практике у меня ты занималась очисткой воды от вирусов с помощью современных наноматериалов – возможных сорбентов. А ты знаешь, что на самом деле вирусы живут везде: и в воздухе, и в воде… В воду их выделяют и птицы, и животные, и человек. А недавно открытые гигантские вирусы питаются водорослями и живут даже в соленых озерах Антарктиды. Знаешь, если б не они, может, и океанов бы не было, а было бы сплошное болото… Кстати, Катя, ты можешь сказать, в чем отличие вирусов от бактерий?
– Ну… Вирусы, они же такие маленькие…
– А оказалось, что и это не так, а главное, Катя, что вирус – несамостоятельный организм. Ему всегда нужен хозяин! Так что если тебе интересна такая тема, то тебе придётся изучить разные материалы, например алмазы, полимеры ну и, конечно, современные наноструктуры, которые могут забирать из воды вирусы. Да и сами вирусы, они тоже разные… Как ты смотришь, если сделать всё это темой твоей новой кандидатской диссертации?
– А как же я буду смотреть? – спросила Катя.
– С помощью разных методов: и вирусологических, и физических, и химических. Используем, например, электронную микроскопию, хроматографический анализ, электрофорез…
– Как бы я хотела, Анна Сергеевна, – сказала Катя, – чтобы вы стали моим научным руководителем, а не Светлана Евгеньевна.
– Увы, Катя, – ответила Анна, – менять руководителя не следует, ничего хорошего из этого не выйдет. Тем более, я думаю, Светлана Евгеньевна ничем нам не помешает, даже и оставаясь формально твоим шефом, ведь ей это плюс как руководителю. И вообще, сейчас ей не до нас!
– А почему?
– Ну как? Новое звание требует новой должности, не удивлюсь, если она скоро станет руководителем нашей лаборатории.
– А как же вы, Анна Сергеевна? Вы ведь давно уже доктор!
– А мне, Катенька, просто некогда этим заниматься. Да и нам пора заняться делом…
С Катей они расстались только под утро. Настроение у неё было боевое, и Анна теперь была уверена, что девушка справится. Позвонив на работу, что не придёт, она с чистой совестью легла спать.
– Интересная эта Катя! – прорезался вдруг голос Фага. – Мне она нравится! Думаю, стоит и в ней поселиться…
Анна уже засыпала, но слова Фага почему-то неприятно её удивили, хотя… Что в этом такого? Слишком уставшая, чтобы внимательно обдумать их, она провалилась в сон и утром об этом уже не вспомнила.
Фаг тоже не напоминал – он уже понял, что слова о Кате были преждевременными. Не должна Анна раньше времени узнать о его способностях! Узнать о том, что Катя со вчерашнего дня тоже является его домом и её мысли теперь для него – открытая книга… Не всегда, а только когда будет находиться вблизи Анны. Судя по всему, дальность его телепатии пока не превышала пары десятков метров.
Глава 4. Диссертация, или «Как поймать льва в пустыне»
Как говорит Бхагавадгита (книга древнеиндийской мудрости из эпоса Махабхарата), наш мир живёт жертвой. Каждое существо ест кого-то и само когда-нибудь будет съедено. Пусть человек считает себя вершиной эволюции, но и его всё время едят. Вирусы, бактерии, грибы, паразиты… Чтобы выжить, хорошо бы «знать в лицо» своих главных врагов. Большинство из них хорошо видны даже в обычный микроскоп, но вот вирусы… С одной стороны, они так малы, что увидеть их можно только в электронный микроскоп, с другой стороны, они могут быть так рассредоточены по пространству, что найти их не легче, чем одинокого льва, прячущегося в огромной пустыне. На эту тему есть забавная задача из книги «Физики шутят» о том, как люди разных специальностей по-разному «ловят львов». Математик, вспомнив метод Больцано – Вейерштрасса, предложит разделить пустыню на две части и, выбрав часть, где находится лев, тоже её разделить. Так, деля каждую оставшуюся часть пустыни пополам, можно наверняка окружить льва решёткой. Физик-экспериментатор предложит окружить пустыню мембраной, которая не пропускает львов. Постепенно сжимая эту мембрану, мы получим льва внутри малого мембранного круга. А вот философ, например, сам сядет в клетку и заявит, что это мой настоящий мир, а всё, что снаружи, – и есть на самом деле клетка, и лев в ней находится в том числе.
Ну а если вы врач, и тем более вирусолог, то главное – не поймать льва, а прежде всего убедиться, есть ли вообще лев в этой пустыне, а если есть, то какого он вида и опасен ли он для людей, а ещё, откуда он взялся – из дикой природы, а может, сбежал из какого-то зоопарка, а если сбежал, то из какого. Где была дырка в заборе, или его выпустили сюда специально…
Я недаром привёл все эти шуточные советы по поимке льва, так как они имеют прямое отношение к теме диссертации, которую Анна задумала для Кати. А тема диссертации как раз и была связана с проблемами обнаружения вирусов в растворах. В отличие от вредных примесей, для которых существуют те или иные допуски, в пределах которых вода считается чистой, для вирусов никаких допусков нет и быть не может, так как даже один вирус на литр воды может быть опасен. Как определить, чистая у нас вода или нет?
Вот и получилась ситуация, полностью повторяющая задачу о поимке льва в пустыне. Вода-то у нас практически чистая, тем не менее, в ней могут находиться отдельные вирусы, которые нам и нужно найти. А как? Не можем же мы миллионы лет сидеть перед электронным микроскопом в поиске единственного вируса на миллиарды молекул чистой воды?
«Ну хорошо, – подумала Анна, – действительно, пустыня большая, и можно годы и годы искать в ней единственного льва. Но вот если запустить в пустыню армию хищных зелёных мух, питающихся львами, то вероятность встречи такой мухи со львом возрастёт в разы! А ещё пусть мухи, вылупившиеся из личинок, питавшихся львятиной, изменят свой цвет с зелёного на красный. Тогда их легче будет засечь в мушиных ловушках на границах пустыни. В случае вирусов «мухами» могут служить копии, слепки с внутренней части вирусов – их генома. По-научному это двухцепочечные фрагменты нуклеиновой кислоты (ДНК) – ампликоны. Именно они и являются комплементарными к заранее известной области генома данного вируса. Сравнительно недавно подобные рассуждения привели к открытию метода ПЦР – детектирования сверхмалых концентраций вирусов в растворах. Вот ссылка из «Википедии»:
«Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).
В начале 1970-х годов норвежский учёный Хьелль Клеппе из лаборатории нобелевского лауреата Хара Гобинды Кораны предложил способ амплификации (увеличения количества копий) ДНК с помощью пары коротких одноцепочечных молекул ДНК. Однако в то время эта идея осталась нереализованной. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) была изобретена в 1983 году американским биохимиком Кэри Муллисом. Его целью было создание метода, который бы позволил амплифицировать ДНК в ходе многократных последовательных удвоений исходной молекулы ДНК с помощью фермента ДНК-полимеразы. Первая публикация по методу ПЦР появилась в ноябре 1985 года в журнале Science. Метод революционизировал молекулярную биологию и медицину. В 1993 году Кэри Муллис получил за это Нобелевскую премию по химии».
Метод ПЦР относится к очень тонким методам анализа, требующим повышенных условий стерильности эксперимента. В институте он ещё не был опробован. Комната для экспериментов должна быть заранее очищена как от посторонних вирусов и бактерий, так и от ампликонов, оставшихся от предыдущих анализов, которые вполне могут «загрязнить» результаты. О проведении подобного эксперимента, естественно, знало руководство института. Хотя Анне и Кате не препятствовали, даже выделили прибор для проведения ПЦР и дали в помощь ещё одну аспирантку Светланы – Яну, но не слишком верили, что они способны осилить такую сложную работу. Анна говорила:
– Катюша! Мы как на войне, и мы должны, как на фронте, победить! Мы должны сделать суперчистый отсек с боксом из обычной комнаты лаборатории, где разместился прибор.
И они это сделали.
Как раз в это время по телевидению объявили (а это была весна 2009 года), что в США начинается эпидемия гриппа, заболели первые сорок человек, все – молодые люди, мужчины (это было подозрительно, так как грипп не выделяет больных по гендерному признаку – мужчина или женщина). Анна сразу позвонила своему другу Николаю, который работал в ВОЗ. Николай всегда был в курсе последних новостей о борьбе с болезнями. Но вместо Николая ей ответил незнакомый голос и сообщил, что Николай на днях был убит неустановленными лицами. Затем пошло быстрое распространение гриппа по США. Говорят, во время провозглашения пандемии в дом руководителя лаборатории гриппа США два раза ударила молния. Может, это был знак, кто знает?!
Через некоторое время в Москву на самолете из США прибыл первый заболевший мужчина-россиянин. Он был госпитализирован в инфекционную больницу, подшефную институту, где работала Анна. Смыв из носа больного поступил в институт. Требовалось срочно выделить новый вирус и определить его формулу. Это была задача государственной важности, связанная со спасением человеческих жизней в стране. В связи с этим в институте, в соответствующих лабораториях, были запрещены все работы с другими вирусами. У Анны с Катей было все готово для проведения ПЦР-анализа. Но решения принимались директором на большом Совете. В это время руководитель лаборатории, где работала Анна, был на больничном, а Светлана – только что защитившаяся подруга Анны – хотя и занимала должность исполняющего его обязанности, отправила на Совет вместо себя Анну.
Всю работу по определению нового вируса гриппа в институте возглавил академик РАМН Д. К. Львов. Надо сказать, как внешность этого человека, так и его характер соответствовали его фамилии. Работа состояла из решения многих задач: от доставки материала от больного в институт до получения исчерпывающих данных о свойствах этого вируса. Директор долго говорил о стратегии борьбы с пандемией, но всё упиралось в главное – выделение вируса и определение его типа. В решении этого вопроса, как часто это бывает в жизни, разные обстоятельства играют важную роль. Надо, чтоб выполняли эту миссию высококлассные специалисты, в нашем случае только такие должны были заражать куриные эмбрионы смывом – материалом от больных – и методом ПЦР определять вирус в самом этом смыве. Нельзя, конечно, забывать о приоритете исполнения. В свете последнего, конечно, директор считал, что идентификация и выделение вируса должны проводиться в его лаборатории. И он озвучил это решение на совещании. Анна знала, что этого нельзя допустить, так как там всю неделю работали с вирусами гриппа, изолированными от свиней. Внесение нового штамма категорически невозможно, так как может произойти загрязнение вирусов (по-научному – контаминация) с потерей первого в стране пандемического вируса. Анна не могла сказать об этом вслух на совещании, так как это был бы позор для института. И в первую очередь позор для сотрудников этой лаборатории. Она просто встала и сказала, что исследование будет проведено в её лаборатории. Директор прямо при всех накричал на неё, но Анна стояла на своём. Ни один человек в институте за время его правления не мог сказать что-либо против его желания. Его очень уважал, но и боялся весь институт. Но Анна повторила ещё и ещё раз! Так кончилось совещание.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: