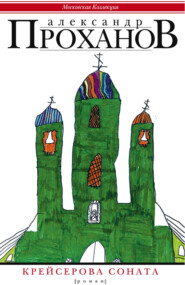скачать книгу бесплатно
В нем остановился и застыл страшный удар, превратив живое тело в чугунную отливку. Без чувств, без мыслей, без памяти, он стоял на краю тротуара, словно изваяние, и лишь несколько живых алых клеток слабо пульсировали в глубине мертвого памятника.
Люди скапливались у перехода, когда им в глаза светила красная сердитая ягода светофора. Окружали Плужникова, теснили его. Большинство не обращали внимания. Иные с изумлением оглядывали его измызганное одеяние. Какая-то нервная дамочка брезгливо шарахнулась, зажимая нос: «Живодер, что ли, или из канализации вылез?» Какой-то сердитый мужик толкнул его: «Разуй глаза! Что уперся как столб!» Какой-то едкий господин в красивом плаще отступил на шаг: «Нажрутся, наваляются в луже, а потом в народ лезут!» Толпа скапливалась, давила, раздраженно поглядывала на бесконечные лимузины. Как только в глазнице светофора загоралась зеленая сочная ягода, все разом сбегали на черно-белую зебру перехода, толкая друг друга. А Плужников оставался стоять, словно ноги его привинтили к тротуару болтами.
Так он застыл, не понимая, где он, тупо чувствуя чугунное ядро безглазой своей головы, живя щепоткой теплых влажных клеток, чудом сохранившихся в окаменелом сердце. Над ним прошел мелкий осенний дождик. Ветер сорвал с дерева желтые листья, осыпал его, и один лист прицепился к спутанным волосам. Из проезжавшего джипа выкинули окурок, он упал на его драную сандалию и слабо дымился. Но Плужников не замечал ничего. Жизнь не проникала в него, а слабо тлела внутри, как уголек в темном обгорелом полене, готовый погаснуть.
Подле него, остановленная красным сигналом, задержалась молодая женщина, неприметно одетая, в берете на светлых кудряшках, в поношенной кофте и длинной суконной юбке на худеньком теле, с кожаной почтовой сумкой через плечо, в которой лежали стопки писем, кипы телеграмм, несколько бандеролей. Женщина работала письмоношей, захватила на почте очередную порцию посланий и торопилась по окрестным дворам и улочкам, забегая в полутемные подъезды, засовывая корреспонденцию в железные ящики. Она ждала, когда на противоположной стороне погаснет красное, зловещее око и раскроется зеленое, радостное. Люди скапливались, теснили ее, и она оказалась бок о бок с высоким, грязно одетым человеком, от которого пахло так, как пахнет из раскрытых зловонных люков, где гуляет железный сквозняк. Она машинально отступила, нетерпеливо ожидая, когда прервется сверкающий вал машин и можно будет шагнуть на «зебру», убежать вперед от неопрятного тупого бродяги. Люди дружно пошли, и она собиралась шагнуть. Но вдруг заметила желтый лист, прицепившийся к взлохмаченным, опаленным волосам человека, и его лицо, в котором, среди синяков и царапин, застыло нечто ужасное, не присутствующее здесь, среди толчеи и блеска, звенящих и рокочущих звуков, а занесенное сюда из другого, жуткого мира, быть может из преисподней.
И это соседство с чем-то непонятным и ужасным удержало ее. Толпа ушла, а они двое остались, овеваемые бензиновым ветром хлынувших автомобилей.
Женщина – ее звали Аня Серафимова – смотрела на человека, который, казалось, попал под ужасную, огненную, зубчатую, с крючьями и остриями машину, был ею перемят, перемолот, пронесен сквозь чудовищные, необитаемые пространства и выброшен на углу Остоженки как послание московским жителям. Но те не замечали послания. Торопились и суетились, ссорились и веселились, считали и тратили деньги, развлекались и брюзжали, не желая угадать того, что принес для них из необитаемых страшных далей ошпаренный и обожженный человек.
Люди скапливались у светофора, бежали на зеленый свет. Несли сумки, портфели, свертки. Смотрели под ноги, где черно-белыми клавишами был обозначен переход. Аня и Плужников оставались стоять, и она не могла избавиться от непомерной тяжести, горя и сострадания, которые внушал ей человек, несущий в обгорелых волосах желтый лист липы, обутый в странные дырчатые сандалии, облаченный в промасленную, прожженную робу, где на груди прилепилась нашивка с непонятными буквами и цифрами.
– Вам помочь?… – спросила она, думая, что он слепой, заглядывая в широко раскрытые голубые глаза под обгорелыми бровями, неподвижно и пусто отражавшие блески и отсветы города. – Если хотите, я вам помогу перейти… – повторила она громко, поднимаясь на цыпочках, чтобы ее слова донеслись до ушей, запечатанных темной сукровицей. – Вы здесь живете? Вам нужно в какие дома?…
Она не дождалась ответа, ибо губы в волдырях и болячках не могли разомкнуться, как слипшиеся от ржавчины куски железа, пролежавшие долго в земле.
Человек молчал, и она, преодолев робость, коснулась его локтя, почувствовав сквозь ткань робы окаменелую безжизненную плоть. Пугаясь этой мертвенной, холодной твердости, потянула за руку, стараясь качнуть застывшее туловище. И когда загорелся зеленый огонь и покатилась, обгоняя их, суетная толпа, Аня с силой потянула человека. Тот тяжело качнулся, отрывая от асфальта намагниченные, прилипавшие подошвы. Неловко выгибая бедра, словно учась ходить, сделал слепой шаг. Ступил на проезжую часть, где, раздавленный, валялся пакет от молдавского вина. Она удерживала слабым тонким плечом его тяжесть. Чувствовала его шаткую неустойчивость. Боялась, что он не удержится и рухнет на асфальт, как закованный в доспехи рыцарь, с металлическим грохотом, и от него отлетят железные ноги, нагрудные латы, кованый шлем, и в них обнаружится зияющая пустота.
– Идемте, – тянула она его по черно-белому переходу, страшась, что зеленый свет начнет мигать и погаснет и на них ринется нетерпеливая, оскаленная свора автомобилей.
Черно-белая «зебра» двигалась под ногами, и Ане казалось, что она переносит его на себе, как санитарка, через жестокое пространство, вынося из-под огня, спасая от невидимых убивающих сил. Эта «зебра» была как брод, по которому они переходили опасную реку, с одного берега на другой, из одной половины жизни в другую. На пятом или седьмом шаге, страшно утомившись, она испытала головокружение. Пережила моментальный обморок. И вдруг грязно-белые нашлепки на измызганном черном асфальте налились драгоценными цветами спектра – алым, золотым, изумрудно-зеленым, нежно-голубым, фиолетовым, – и они шли, погружая ноги в прозрачную радугу, переброшенную от тротуара к тротуару. И все смотрели, как они переходят. Остановившийся на обеих сторонах улицы народ. Глядящие сквозь стекла машин водители. Подвыпивший бомж у чугунной ограды собора. Сам огромный, мучнисто-белый собор, увенчанный золотыми зарослями крестов. Розовая обнаженная красавица на рекламе, с голой нежной подмышкой.
Они достигли противоположной стороны. Многоцветный половик под ногами погас. Сзади, разящим вихрем, с воем сирен, расплескивая по фасадам безумные лиловые вспышки, промчался кортеж длинных «мерседесов» и упругих громадных джипов. Аня затягивала своего спутника глубже на асфальт, пугаясь безумной кавалькады и одновременно радуясь тому, что успела выхватить его из беспощадного вихря. На них грозно надвинулся тучный постовой с полосатым жезлом, в глянцевитой кожаной куртке:
– Ослепли, мать вашу!.. Сидели бы в рюмочной, стопки глотали!.. В вытрезвитель вас, под холодный душ!..
Аня изо всех сил тянула своего слепого и немого спутника подальше от сизых милицейских щек, от грозных усов и кожаных ремней, на которых висела маленькая толстенькая кобура.
Глава 5
Президентский кортеж черной кометой промчался по Остоженке, повернул к собору и сквозь гостевые ворота въехал на подворье, где навстречу торопились настоятель, служители, охранники, все в черных подрясниках, которыми они энергично и ревностно мели ухоженные дорожки. Счастливчик и Модельер, покинув автомобиль, вошли в прозрачную тень огромного белого храма, который, при всем своем византийском величии, вызывал странное ощущение макета, построенного из громадных кусков пенопласта. Хотелось подойти, ткнуть пальцем в стену, продавить хрустнувшую, наполненную воздухом плиту.
Храм был возведен радениями Мэра, неявно прославлял его величие, был противопоставлен Кремлю как второй, обособленный центр Москвы. Стягивал к себе лучи и радиальные линии московских улиц, уводя их прочь от Кремля. Красная площадь, коварно застроенная Мэром теремками и часовенками, была отрезана ими от живого сердца столицы и обмелела. Ее покинула таинственная животворная прана империи, которую стала впитывать в себя пористая белая губка собора. Модельер привез Счастливчика в этот златоглавый чертог, чтобы здесь, в духовной цитадели вероломного Мэра, открыть Президенту свой величественный мистический замысел.
Они прошли пустынно-огромный храм, наполненный голубоватым прохладным воздухом, с могучими столпами, округлыми поднебесными сводами, где мертвенно и великолепно сияли изображения ангелов, святых и апостолов. Золото, охваченные тихим заревом красные и золотые лампады, уходящие вдаль туманные пролеты – храм напоминал торжественный парадный вокзал, еще без пассажиров, с безлюдными перронами, с тонким блеском уходящей вдаль колеи… Распахнутся двери, хлынет темная, шумящая, шаркающая толпа, подлетит к перрону лакированный скоростной состав. Проводники в форменном облачении с золотыми нагрудными лентами станут проверять билеты, рассаживать пассажиров в удобные купе. Состав мягко тронется, набирая скорость, с певучими рокотами понесет пассажиров в Царствие Небесное, о котором уже здесь, на вокзале, рассказывают великолепные настенные мозаики и фрески.
Модельер, истово перекрестившись, провел Счастливчика сквозь алтарь, где на престоле лежала священная книга и золотились дары с зажженным семисвечником. Они скользнули в малоприметную дверь и по мягкому, устилавшему ступени ковру стали спускаться вниз, сквозь стены, фундамент, пласты московской земли, на которой утвердился собор, из которой он вырастал своим царственным великолепием.
В просторной подземной части храма находились превосходно оборудованные актовые залы для церковных совещаний и соборов, а также для светских съездов и ассамблей, размещалась великолепная библиотека с собранием церковных и светских книг, манускриптов и рукописей на латинском, арабском, древнееврейском языках. Тут же была построена трапезная в духе монастырских братских застолий, где собиралось за постной едой аскетическое духовенство. Но с ней соседствовал роскошный ресторан с зеркальными стенами, баром и подиумом для джаза. Гостиница состояла из скромных монашеских келий, где могли останавливаться пилигримы из дальних епархий и обителей, вставать на ночные молитвы перед суровым, старинного письма, образом. Но также были и дорогие номера люкс с пышными двуспальными кроватями, джакузи, обширными телеэкранами, на которых можно было созерцать все мировые программы, включая ночные эротические. Подземные гаражи с дорогими иномарками были чисты и ухоженны и непосредственно смыкались с боулингом, залом игральных автоматов, рулетками и карточными столами казино, саунами и небольшим водоемом, где у лазурной воды стояли античные статуи обнаженных богинь.
Все это почти пустовало в сей полуденный час. Лишь мускулистый слуга в подряснике нес в номер люкс кожаный саквояж носатого папского нунция, приезжего иезуита, который чинно, в красной шапочке и черной сутане, похожий на дятла-желну, вышагивал следом. Да в голубом водоеме, среди нимф и наяд, плыл саженками тучный молодой бородач, чему-то улыбаясь и крестясь на ходу.
Они продолжали спускаться в основание собора. Модельер показал Счастливчику грубо отесанный, в зарубках и сколах камень, привезенный по приказанию Мэра из Иерусалима. Камень был взят из древних развалин Соломонова храма и вмурован в бетонный фундамент московской святыни.
Ниже этой древнееврейской глыбы сохранились детали бассейна «Москва», где когда-то в трескучий московский мороз, в розовом пару, пенили воду охочие до зимних услад и омовений советские граждане, похожие на гладких глазастых тюленей. Зеленоватый кафель бассейна напоминал окаменелые перламутровые ракушки, и на них сохранился отпечаток голой ноги женщины-коммунистки Фурцевой и выпавший из плавок советского министра Щелокова золотой портсигар.
Еще ниже находились гранитные плиты не достроенного коммунистами Дворца Советов, который, по замыслу талантливых и дерзких архитекторов, должен был достичь высоты Монблана, венчаться громадной бронзовой статуей Ленина, чтобы в бинокли и телескопы ее можно было бы рассматривать из всех точек земного шара. Красноватые плиты карельского гранита прочно лежали в основании собора, и на них различалась надпись: «Гранильная мастерская имени Розы Люксембург».
Еще ниже, под кирпичными, на яичном желтке, фундаментами старых церквей, под деревянными мостовыми и гатями, под археологическими слоями рыхлой земли с черепками горшков и мисок, находилась полость – пещера, бывшая когда-то языческим капищем, где первые московские поселенцы молились священным идолам. Капище посвящалось богу Велесу, хранителю скота. На дне пещеры лежал прекрасно сохранившийся скелет быка с окованными золотом рогами, олицетворявший покровителя домашних животных.
– Теперь ты понимаешь, – произнес Модельер, указывая Счастливчику на скелет быка, – почему Мэр хочет устроить в Москве представление испанской корриды? Он готовит языческое ритуальное действо во славу своего бога Велеса, которому и посвящен собор, лишь внешне имитирующий христианскую сущность.
Здесь, в древнем капище, находилась прозрачная, как кристалл горного хрусталя, кабина скоростного лифта. В нее, оставив охрану, поместились Модельер и Счастливчик. Граненая капсула стремительно метнулась ввысь, пронося пассажиров сквозь толщу глухих стен. Доставила их в самую высокую точку собора. В вершину золоченого купола, под основание громадного креста. Здесь была устроена невидимая с земли смотровая площадка, на которую высадились Президент и его главный советник. Стали прогуливаться на открытом кольце площадки, среди ароматного, пахнущего яблоками воздуха, паря на золотом воздушном шаре среди розовых и голубых горизонтов.
– Какая краса! – не удержался Счастливчик, ликующим взором осматривая панораму осенней Москвы, казавшейся драгоценной перламутровой раковиной, лежащей среди Русской равнины.
В этой волшебной раковине, в ее затейливых завитках и нежных зубцах чудесно туманились близкие и далекие церкви, остроконечные высотные здания, шатры кремлевских башен, солнечная лента реки, переброшенные через нее каменные и стальные мосты, мерцающие улицы, желто-зеленые, пышные воротники бульваров, синие, как опустившаяся туча, Воробьевы горы, бескрайние бело-розовые, словно стада фламинго, дома, их слюдяные окна и серебристые крыши. Во все стороны света убегали лучи проспектов, улетали в живую, солнечно-туманную даль, где в лесах и полях дышало немеркнущее сияние необъятного великого города.
И повсюду, близко и далеко, яркими золотыми позументами или едва заметными искорками, виднелись показатели президентского рейтинга. Трепещущее число «81» дрожало на ветру, откликаясь на малейшие биения народного чувства. На высоком кресте, опустив усталые крылья, чистя клювами перья, сидели два известных юмориста, один с армянской, другой с птичьей фамилией. Оба утомленно молчали. Из них на золотой купол капал неизрасходованный, известкового цвета, юмор.
– Как далеко, как бесконечно далеко отсюда видно! – повторил с восторгом Счастливчик.
Модельер удовлетворенно кивнул. Недаром он выбрал для разговора это удивительное, неповторимое место.
Говорили, что в редкие дни поздней осени, когда воздух студен и чист, словно голубая линза, отсюда, с вершины храма, виден ватиканский собор Святого Петра. Папа Римский и Патриарх Московский поднимаются, каждый на свой купол, и с помощью зеркал обмениваются тайными знаками, что способствует умиротворению религиозных споров и смягчению конфликта церквей.
– Именно здесь, на этой золоченой кровле храма, я хочу сделать тебе признание, – торжественно произнес Модельер, простирая руку вперед, словно клятвенно прикасался перстами к многоцветной иконе Москвы. – Ты – воистину Счастливчик. Ибо тебе выпало на роду наследовать великую русскую цель. Исполнить громадную, растянувшуюся на века русскую задачу. Воплотить тайную русскую мечту. Тебе предстоит то, что не выпадало на долю самым великим правителям, будь то Чингисхан, или Александр Македонский, или Наполеон, или Иосиф Сталин. Ты объединишь наконец растерзанное на отдельные народы человечество и тем самым положишь конец всемирной истории, которая началась с момента разрушения Вавилонской башни, что вылилось в извечную войну языков, народов и рас. В тебе же умиротворенная, прекратившая свой бег мировая история останавливается, чтобы взглянуть на себя самое твоими серо-голубыми глазами, о Счастливчик!..
Президент внимал, сладостно сощурив глаза, сквозь которые осенняя Москва своими золотыми и алыми пятнами, чудесными нимбами и бело-розовыми покровами и впрямь напоминала икону. Слова Модельера порождали упоительное ожидание, предощущение блаженства, от которых нежное лицо Президента покрылось легчайшим девичьим румянцем. Казалось, от Модельера к нему протянута едва заметная прозрачная трубочка, сквозь которую течет медовая сласть, волшебный дурман, веселящая влага.
Вокруг собора на разных высотах реяли дельтапланы. Их разноцветные косые треугольники совершали круги, виражи. Плавно взмывали, просвечивая на солнце. Стремительно и грациозно снижались. На легких подвесках размещались пилоты в тесных трико, из личной президентской охраны. Как у царских опричников, на поясах у них были закреплены метелки, которыми они изгоняли из общества нечисть и скверну – подметали мусор у стен Кремля, хлестали по глазам писателей-охульников, разгоняли «красные пикеты», используя метелки в качестве электрошокеров. Теперь охранники из спецподразделения «Блюдущие вместе» облетали на дельтапланах окружавшие собор кварталы и постреливали из снайперских винтовок по слуховым окнам, подозрительным чердакам, отпугивая от собора возможных террористов.
– Русская идея, понятая угрюмо и неверно, отгораживает нас от всего человечества, – продолжал Модельер, выходя на край смотровой площадки, откуда Крымский мост туманился седой сталью, и под ним на солнечной реке, вмороженный в блеск, замер кораблик. – Ложно осмысленная, она превращает нас в захолустных старообрядцев и нелепых сектантов. Великий Достоевский сформулировал ее как страстный порыв навстречу миру, открытость для всего человечества, как нашу русскую всемирность. С тех пор как рухнул железный занавес, отделяющий «красных старообрядцев» от иных народов, Россия открывала себя, совлекала ветхие одежды, готовая предстать перед миром в своей ослепительной наготе. Твой великий предшественник, чье утомленное сердце стучит в «Пещере волхвов», много сделал, чтобы впустить в Россию изумленное, столпившееся у ее границ человечество. Но делал это по наитию, согласно своим глубинным инстинктам, не ведая, что поступает согласно мистической воле Творца, исполняя высшее, мировое предназначение России. Только ты, с твоей исторической прозорливостью, сознанием русского мессианства перевел государственное дело в религиозно-философскую плоскость, обнаружил внутренний модус русской истории, слил свою судьбу с этим модусом. «Раздарить все, чтобы все обрести». «Стать ничем, чтобы овладеть всем». «Потерять себя, чтобы найти Вселенную». «Отдать богатства, чтобы снискать сокровища». «Перестать быть народом, дабы стать человечеством». Мы отдаем миру наши несметные богатства, отказываемся от нашей науки и культуры, отрекаемся от веры и суверенности. Разоружаемся до последнего вертолета и бэтээра, режем автогеном могучие корабли и ракеты, убираем с орбит космические спутники и межпланетные станции. Мы пускаем американцев в наши атомные центры и политические институты. Возвращаем немцам их Кенигсберг, а японцам – их исконные Курилы. Помогаем НАТО обосноваться в Прибалтике, на Украине и в Средней Азии. Пускаем баптистских проповедников и магических сектантов в святая святых нашей Церкви. Мы сокращаем русское население, радуясь росту Китая, возрождению Ирана и Турции. Мы не страшимся того, что называют глобализмом, но всячески приветствуем его, рассматривая как великий долгожданный синтез мира. В результате мир придет в Россию и станет Россией. Человечество хлынет на наши опустевшие пространства и наречется русским народом. Отказавшись от собственной армии, мы станем обладателями мощи мировых держав. Подарив свою науку и культуру другим, мы будем пользоваться благами мировой науки и мировой культуры. Мы уступим миру место в наших сердцах и в наших необъятных пространствах, и мир наречется Россией… Это и есть воплощенная русская идея, вершина русского мессианства, сформулированная тобой, ставшая музыкой твоего правления, откровением твоего царства…
Счастливчик чувствовал тончайший прозрачный сосудик, соединявший его и Модельера. По этому сосудику перетекали кровяные тельца, бежали пузырьки веселящего газа, струились капельки сладкой влаги. Пуповинка выходила из Модельера в области паха, проникала Счастливчику под пиджак, на поясницу, погружаясь в копчик, в чувствительную чакру. Это напоминало анестезию, или искусственное питание, или переливание крови, или переселение душ.
Над Москвой, на разном удалении от собора, всплывали воздушные шары, напоминавшие цветные грибы, нежных медуз, разноцветные сосуды, украшенные меандрами. В гондолах размещались наблюдатели с оптическими и инфракрасными биноклями, поисковыми антеннами и пеленгаторами, охранявшие район, где находился Президент. Снайперы из подразделения «Блюдущие вместе» сделали несколько выстрелов по крыше в районе Волхонки, где притаились бомбисты из «Красных ватаг». Кинули гранату в глухой двор в районе Чистого переулка, где собралась подозрительная группа бритоголовых скинхедов.
– Мировые лидеры признали тебя, – продолжал Модельер, увлекая Счастливчика туда, где с площадки открывалось кудрявое, золотисто-изумрудное кольцо бульваров, особняки, дворцы, Тверская, чешуйчатые от далекого блеска, Пушкинская площадь с бронзовым памятником и кубическим домом «Известий» и дальше, из крыш, кварталов, водяных отражений, розовых дымов и фиолетовых туманов, льдисто возносилась Останкинская башня, вонзая в облака свой прозрачный луч. – Лидеры мира не устояли пред твоим обаянием и превосходством. Надменный Американец, чопорный Англичанин, гордый Немец, язвительный Француз, лукавый Японец, осторожный Китаец – все приняли тебя как вселенского лидера, кому готовы передать свои полномочия. Делегируют тебя в Цари мира, венчают на царство, нарекают Москву столицей всея Земли. Такого величия Россия не достигала ни в какой период своей истории. Ни при Иване Грозном, ни при Екатерине Великой, ни при Иосифе Сталине. Ты превосходишь их всех. Ты стал Царем мира без войн, без атомных бомб и авианосцев, без жестоких диктатур и насилий, но лишь благодаря своей божественной кротости, исходя из воли Творца, следуя мистическому предназначению России. Мы переносим центр Земли в Москву, в Четвертый Рим, как было предсказано соловецким мучеником, погибшим от рук большевистских убийц. Меняем координатную сетку планеты, как мечтал об этом святой Патриарх Тихон, выстраивая Новый Иерусалим. Как замышлял это Сталин, изготовив топографическую бомбу, решив нагнуть земную ось, использовать в районе полюса термоядерный «Рычаг Архимеда». Ты не стал спасать утонувший подводный крейсер. Пожертвовал подводной «Москвой», чтобы сделать Москву земную Градом Небесным. Это и есть вселенская мудрость, мистическая русскость, горняя правда России…
От этих слов Счастливчик почувствовал прилив радостной силы. Словно мышцы его укрупнились, рельефно напряглись под одеждой. В груди стало просторно и ярко. Взор стал видеть далеко. Сердце, исполненное могуществом и любовью, стало вместилищем знания об этом великом городе, что пребывал в его власти, присягнул ему на вечную верность, был предметом его державных забот и радений. Каждое малое, отливавшее солнцем оконце, каждый блик пробегавшего автомобиля скрывали в себе чью-то жизнь, чью-то неповторимую судьбу, которая славила его, любила и доверяла. И он, могучий повелитель, был готов использовать свою абсолютную власть на благо родной земли.
Высоко над собором пролетел серебряный самолетик. Из него посыпались крохотные клубеньки и песчинки. Над каждой возник клочок разноцветной пены. Охранники на спортивных парашютах стали красиво спускаться, управляя постромками, обтекая в воздушных потоках громаду собора. В руках у них были пистолеты с глушителями, и они выборочно стреляли по окнам Дома на набережной, заселенного богатыми азербайджанцами и чеченцами; некоторые из них объявили Президенту джихад. Было видно, как из верхнего этажа престижного дома выпал человек, пролетел мимо вывески Театра эстрады и упал в Москву-реку, где на него набросились дрессированные, прикормленные на чеченской крови акулы. Парашютисты приземлились все в одном месте, на клумбу у Музея изобразительных искусств. Укладывали парашюты. Угощали друг друга сигаретами.
– Через месяц состоится твое венчание.
Теперь оба они смотрели на Кремль, где, окруженные розовыми зубцами и башнями, зеленели холмы, темнели синие пирамидальные ели, под желтыми полуоблетевшими деревьями скопились золотые лужицы опавшей листвы. Соборы парадно и гордо сверкали. На Иване Великом, под куполом, блестела черно-золотая надпись. Счастливчик, не умея ее прочитать, тем не менее знал, что она таинственно соотносится с их разговором.
– Я сам разрабатываю ритуал небывалого действа, которому хочу придать вид вселенской мистерии. Лучшие дизайнеры, художники и режиссеры планеты готовят в Москве мистерию. Сюда приедут все лидеры мира, привезут земли своих долин, гор и пустынь, святыни своих народов. Все религии мира освятят твое восхождение. На Воробьевых горах будет установлен Колосс Московский, создаваемый нашим известнейшим скульптором, с использованием новейших космических материалов и компьютерных технологий. В хрустальной голове гигантской скульптуры будет установлен трон, куда ты вознесешься в лучах своей славы. Богослужение с участием иерархов всех мировых религий освятит твое помазание. Празднество твое станет одновременно и выкликанием мировых духов, которые слетятся в Москву под огненные ритмы бразильского карнавала, под гонги буддийских паломников, под грохот европейского рока, под стук алеутского бубна, под печальные песнопения хасидов. В нашем празднике сольются Хеллоуин и элевсинские таинства, «весна священная» и африканские культы вуду. По площадям и проспектам Москвы сводным парадом пройдут объединенные армии мира. Мы устроим салют, направив в ночное московское небо пролетающую мимо Земли комету, наполнив ночь над Москвой-рекой алмазными люстрами Космоса, оросим Москву звездным дождем. Такого праздника еще не видело человечество. Двадцать первый век будет наречен Веком Счастливчика…
Эти слова вызвали у Счастливчика священный восторг, словно кто-то поднял его на могучей длани над Землей, показав земные царства, возлюбившие его народы, славящих его земных царей. И тот, кому принадлежала длань, был его Небесным Покровителем, невидимым Владыкой Вселенной, чьими мыслями и внушениями он жил, чью волю исполнял, принимая от Творца небывалую власть и могущество.
От крыши «Ударника», высоко, через реку, в сторону Арбата и Министерства обороны, был натянут стальной трос, который казался солнечной паутинкой. По нему шел канатоходец в костюме скомороха, в колпаке с бубенцом, балансируя с помощью шеста. Казалось, он ступает по воздуху, пропадая на миг среди лучей и солнечных бликов. Это был охранник из подразделения «Блюдущие вместе», оснащенный боевым лазером, которым с высоты прожигал капоты подозрительных автомобилей. Те останавливались с расплавленными двигателями, и выбегавшие в недоумении водители оказывались во власти работников ГАИ. Подобным образом канатоходец только что остановил «джип-чероки», принадлежавший главарю солнцевской группировки. Постовой вежливо отдал честь профессорского вида мужчине и требовал у него тысячу долларов штрафа.
– Однако чем ближе царство добра, тем активнее силы зла. – Теперь они смотрели на гостиницу «Россия» с гирляндами флагов, на грозный трезубец Котельнической набережной, на Новоспасский монастырь, чьи синие купола были усыпаны серебряными звездами, на длинную прорезь Пролетарского проспекта, убегавшего к Коломенскому, Калужской, к далеким березнякам Домодедова, где воздух был нежно-алюминиевый от летящих самолетов. – Чем ослепительнее твой успех, тем плотнее рядом с тобой зоны тьмы. На пути исполнения твоих грандиозных замыслов существует препятствие. Мерзкий и черный заговор, который замыслили Мэр и Плинтус. Пользуясь твоим милосердием, спекулируя на твоей доверчивости, они готовят твое свержение. Страшатся предстоящей вселенской мистерии. В заговор вовлечены послушные им депутаты Думы, которые препятствуют прохождению закона «О снижении русского населения до пятидесяти миллионов человек». К ним примкнули несколько губернаторов, недовольных твоей политикой упрочения вертикали власти. Им симпатизирует строптивый олигарх, не желающий жертвовать деньги на проведение нашего вселенского торжества. Они окружили себя продажными журналистами, распускающими о тебе грязные слухи. Наняли лживых политологов, прогнозирующих снижение твоего рейтинга. Связались с одиозными мировыми структурами. Пользуются влиянием в военных округах. Они спонсируют радикальные движения бритоголовых фашистов и «Красные ватаги» революционных бомбистов, готовя беспорядки в Москве накануне твоего помазания. Они всячески поддерживают обветшалые мифы о «красных» и «белых», подрывают наше новое мировоззрение, снижают победный пафос обновленной русской идеи. Мы должны устранить угрозу. Уничтожить заговор. Физически, как мерзких тлетворных насекомых, истребить Мэра и Плинтуса. Иначе нам обоим, а также нашей милой, ненаглядной России, почти уже ставшей владычицей мира, наступит конец…
– Ты их хочешь убить? – изумился Счастливчик.
– Иного выхода нет, – твердо произнес Модельер. Выставил ногу вперед, сложил на груди руки, обретая сходство с римским патрицием.
– Я никогда не пойду на это. – Счастливчик возмущался сделанным ему предложением, омрачившим недавний восторг. – Перед лицом просвещенной Европы я отказался от смертной казни.
– Никто не говорит о судебном разбирательстве и смертном приговоре. Они просто исчезнут, как будто и не рождались.
– Это против моих этических принципов. Я дал слово народу, что больше никто по воле власти не умрет насильственной смертью.
– Тогда умрешь ты, – жестко сказал Модельер, отступая на шаг от Счастливчика.
Счастливчику показалось, что прозрачная, соединяющая их трубочка оборвалась.
Он тут же ощутил удушье, словно его кровяным тельцам не хватало кислорода, началось витаминное голодание, скопившиеся в крови шлаки стали закупоривать сосуды, и в мозгу зазвучали погребальные удары колокола.
– Ты хочешь дождаться беспорядков в Москве? Повторения стрелецких мятежей, когда безумные толпы начнут громить Кремль, искать тебя в кабинетах и приемных залах, чтобы схватить и посадить на кол? Или повесить на кремлевских зубцах? Или утопить в Москве-реке? Или зарядить в Царь-пушку и выстрелить? Разве так поступают великие державники? Твой предшественник, когда нависла угроза его начинаниям, сжег из танков парламент, расстрелял из пулеметов детей и женщин, а потом спалил трупы в крематории, а пепел съел, размешав его с медом. Власть – великое бремя, и она требует жертвы. Недавно ты поступил как великий правитель, пожертвовав подводной лодкой «Москва». Неужели ты не решишься раздавить двух злобных негодяев, желающих смерти тебе и погубления великому мировому проекту, с которым связано величие Родины?
Удушье нарастало. В горле клокотал раскаленный уголь. Глаза выкатывались из орбит, так что среди зеленоватого московского неба начали расходиться фиолетовые и красные кольца.
– Решайся, – грозно требовал Модельер, приставив длинный, накаленный, словно шкворень, палец к холодному лбу Президента. – Соглашайся во имя Москвы и России. Во имя Четвертого Рима. Если нет, я уйду в отставку.
Небо волновалось, расходилось кругами, словно было твердой шелковой тканью, под которой кто-то бился, стремился прорваться наружу.
– Согласен, – чуть слышно сказал Счастливчик.
Палец Модельера, касавшийся его лба, начал остывать. Его пылающий белый конец становился малиново-красным, темнел, покрывался железной окалиной.
Небо над собором трепетало и билось, словно от боли. Высоко, в зеленом свечении, появился надрез. Он расширялся, растягивался, словно в женское лоно вложили акушерские щипцы и тянули в разные стороны, открывая темный прогал. Небо кровенело, содрогалось, черный прогал расширялся, открывая бездонную тьму, в которой что-то жутко светилось, пульсировало, рвалось наружу.
Мокрый, розовый, покрытый слизью эмбрион, напоминавший пятипалую морскую звезду, шевелился, просовывал сквозь лоно мокрые язычки, от которых по небу бежала ядовитая красная рябь. Небо над Москвой напоминало кровяное озеро, куда упал булыжник, разгоняя сочные малиновые круги. Купол собора казался красным, крест, под которым стояли Модельер и Счастливчик, отекал кровавой росой, и оба они, подняв в небеса изумленные лица, наблюдали знамение. Эмбрион, прилетевший из бездонных глубин, сулил рождение новой Вселенной, в которую влетала планета.
Небесное лоно сомкнулось, пятипалый моллюск исчез. Только волновалось, трепетало от боли беременное багровое небо. На малиновую зарю, снявшись с креста, словно черные ленивые грифы, улетали два юмориста. Были видны их растопыренные черные перья, опущенные вниз когтистые лапы.
– Что это было? – потрясенно спросил Счастливчик.
– Оптический эффект. Я слышал, американцы в районе экватора испытывают новую систему слежения. Это был сгусток электромагнитной энергии.
– Скорее всего, – облегченно вздохнул Счастливчик. Он видел, что между ними снова образовалась прозрачная, едва заметная пуповинка, по которой к нему поступает голубоватая влага, испускающая нежное химическое свечение.
Аня, ухватив за локоть раненого человека, заслоняла его от буранного ветра, что был поднят бешеными машинами, у которых на крышах плясали фиолетовые вспышки, похожие на безумных танцовщиц. Кортеж промчался, поворачивая к белому собору, а они остались на тротуаре, перейдя Остоженку по цветастому половику.
– Теперь я пошла… Удачи вам… – сказала Аня, оставляя своего немого и слепого попутчика, которому оказала услугу. Она торопилась в переулки и улочки, в подъезды жилых домов и деловых контор, куда должна была доставить корреспонденцию, переполнявшую ее почтарскую сумку. Отпустила локоть человека, жесткий грязный рукав его темной робы. Сделала несколько шагов, захваченная толпой, с каждой секундой забывая о странном попутчике, о прозрачной радуге, которая возникла у них под ногами на пешеходной дорожке. Сворачивая в переулок, оглянулась. Человек стоял неподвижно, как статуя на носу корабля, которого больше не было, который сгорел и утонул после страшного боя, сохранив после себя одно изваяние морского божества, выточенного искусным резчиком. Это изваяние было изрезано и иссечено осколками, прострелено пулями, обуглено пожаром. Одеяние, когда-то сверкавшее драгоценными красками, теперь было содрано и измызгано. Лишь кое-где на лице – на бровях, у основания волос – сохранилась позолота.
Аня, почти из-за угла, оглядела его последним взглядом. И вдруг опять испытала такую боль, такое сострадание, словно случившаяся с человеком неведомая беда была и ее бедой. Видя, как он начинает падать, медленно заваливается навзничь, чтобы грохнуться затылком о черный асфальт, Аня тихо вскрикнула и метнулась к нему. Добежала, подхватила в падении, ощутив всю его каменную тяжесть, как если бы подхватила падающую с постамента статую.
– Вам куда?… Какой переулок?… Давайте я вас провожу…
Он молчал, открыв остановившиеся, немигающие глаза под золотистыми опаленными бровями. Она повлекла его, преодолевая негибкость его окаменелых ног. Шла, настойчиво тянула, не ведая, куда идет. Он был слеп, оглушен и беспамятен. Она была поводырем слепца, его зрячим посохом. Чувствовала, что сама ведома. Кто-то, неразличимый в холодном латунном воздухе, незримо парящий в сгустившейся синеве, вел ее. Так они и шагали втроем по Зачатьевскому переулку. Она очнулась, когда остановилась перед подъездом своего собственного дома.
«Зачем я это делаю?…» – беспомощно и отрешенно подумала она, вводя человека в полутемный подъезд, протягивая руку к стертой кнопке старого лифта. И когда поднимались в тесной кабине, едва помещаясь в ней, Аня чувствовала, как от одежды человека пахнет сырым подземельем, холодной тиной, и дыхание его напоминало железный сквозняк погасшей плавильной печи.
Она отомкнула дверь, ввела его в прихожую своей однокомнатной квартирки, не слишком прибранной, со следами небрежения к убранству, какое случается в жилище одинокого, вечно занятого человека, не обремененного заботой о домочадцах. Он переступил порог, остановившись у вешалки, где висели женский плащ и женский жакет, шелковый легкий платок, в котором увядали запахи исчезнувшего московского лета. И она почувствовала, как он занял весь объем ее небольшого жилища, вплоть до сумрачного высокого зеркала, слабо мерцавшего из глубины спальни, где кровать у занавешенного окна была небрежно прикрыта наспех брошенным покрывалом.
«Почему?… Зачем мне это?…» – слабо сопротивлялась она, оглядываясь на застывшего у порога онемелого человека. При этом чувствовала, что действует не сама по себе, а по неведомому предписанию, в котором чья-то рука уже вывела строчки об их состоявшейся встрече. О черно-белой «зебре» на углу Остоженки. О прозрачной, вспыхнувшей у них под ногами радуге. О тесном скрипучем лифте, в котором они только что поднимались, едва касаясь друг друга. И в этой невидимой длинной рукописи приоткрылось еще несколько строчек – о том, как они остановились в полутемной прихожей у свисавшего с вешалки летнего платка, как она смотрела на гостя, готовясь что-то сказать…
– Вы замерзли… Вам нужна горячая ванна… – Она взяла его за руку, повлекла от дверей в глубину квартиры. Оставила на минуту, зажигая свет в ванной, пуская воду из хромированного, звучно прыснувшего крана. Бегло осмотрела блестящий кафель, флаконы шампуня, мохнатые полотенца, брошенную второпях нижнюю сорочку. Вернулась к нему, недвижно и послушно стоявшему в своих стоптанных странных сандалиях. – Помогу вам раздеться…
Она протянула руку, осторожно прикасаясь к пуговице на его черной замызганной робе, в том месте, где был пришит тряпичный ярлык с непонятными ей буквами и цифрами… Стала осторожно отстегивать пуговицу, пропуская ее сквозь жесткую петлю. Человек стоял с раскрытыми, остановившимися глазами, словно был заколдован. Казалось, кто-то заглянул ему в глаза ужасным сверкающим оком, и они остановились, наполненные тьмой.
Было слышно, как набегает в ванну вода. Аня совлекала с него одежду – робу, тельняшку, драные брюки. Заставляла поднимать тяжелую ногу, сбрасывая со стопы странные сандалии, напоминавшие больничную обувь. Она действовала как санитарка, опытная и терпеливая нянька. Одежда комьями валилась на пол, освобождая молодое, бледное тело со следами синяков и ожогов.
Аня чувствовала, как в грязной скомканной ткани гнездилась беда, шевелилась и дышала болезнь.
– Идемте за мной… – Она взяла его за руку, видя, как неловко переступают по полу его босые ноги. Ввела в ванную. Черпнула рукой зеленоватую жаркую воду, по которой бежали яркие отражения лампы. – Садитесь, я вам помогу.
Она погружала его в воду, боясь, чтобы та не показалась ему слишком горячей. Но он словно не чувствовал температуру воды, как не чувствует ее каменное изваяние. Но тело его было не каменным, а живым и теплым, из красивых молодых мускулов, с сильными руками и длинными стройными ногами. Он сидел в ванне, до пояса покрытый водой, и она поймала себя на том, что любуется его плотью, окруженной колебаниями воды и света.
– Вы согреетесь, вам станет гораздо легче… – Она выключила воду, которая разбивалась стеклянным блеском о его приподнятое колено. Из флакона выдавила в ванну травянисто-зеленый шампунь. Размешала его, превращая в душистую пену, которая нежно охватила грудь и голые плечи сидящего в воде человека. Взяла розовую губку, стала робко, осторожно касаться его шеи, лица. Выжимала над ранами и ожогами струйки воды. Прикладывала пышные, с перламутровыми пузырьками, хлопья пены.
Аня вела губкой по мокрому плечу гостя. И испытывала острую материнскую нежность, сострадание, благодарность. Он, ее сын, вернулся с ужасной войны, обгорелый, побитый, но живой. И она станет ходить за ним, отнимать его у жестокой, вцепившейся в него беды. Ухаживать и исцелять, как любимого, ненаглядного сына.
Она завершила омовение. Подняла его из воды. Он стоял, немой, недвижный, послушно опустив руки. Она накинула на него махровое покрывало, отирала, стараясь не причинить боль, чувствуя сквозь мохнатую ткань упругость его мышц. Встав на цыпочки, отерла ему полотенцем волосы. Сначала взлохматила, а потом расчесала гребнем, любуясь их влажно-золотым блеском.
– Что-нибудь надеть поищу… Вот это, не бог весть что… – Извлекла из шкафа потертый мужской халат, поставила перед ванной мужские стоптанные шлепанцы – все, что осталось от печального непродолжительного замужества. Помогла переступить из ванны, набросила на него ветхий халат, перетянула на талии матерчатый пояс. – Теперь к столу…
Усадила его в тесной кухоньке, поставив перед ним хлеб, масленку, сахарницу. Он не трогал еду, не замечал ее, не нуждался в ней. Подумав, она вскипятила молоко, не дав перелиться через край эмалированной чашки. Кинула в молоко ложечку меда. Почувствовала, как потекли по кухне сладкие, горячие ароматы. Вспомнила детство, как мама поила ее больную и немощную. Взяла столовую ложку с серебряной потемнелой монограммой… Черпнула молоко. Дула на него, остужая. Попробовала губами, а потом осторожно поднесла человеку, раздвинула краешком ложки его сомкнутые губы.
– Один глоточек… Вот так… Молодец… – влила в него горячее, сладко-душистое молоко.
Он проглотил. Было видно, как растекается по телу горячий глоток, умягчая железное, ледяное дыхание. Человек сделал глубокий вдох, словно в нем что-то ожило. Остановившиеся глаза под тяжелыми веками стали оттаивать, веки медленно опускались на серо-голубые, чуть затуманенные глаза.
– Теперь отдохните, поспите…
Она собиралась уложить его тут же, в кухне, на маленьком диванчике. Но человек казался слишком большим, и она ушла в спальню. Перестелила свою постель, набросив свежую простыню. Успела заметить в зеркале свое лицо, в котором померещилось нечто птичье, тревожно-радостное, торопливо-трогательное. Привела из кухни человека и уложила его, накрыв шерстяным теплым пледом. Человек лежал на спине, светлея в сумраке исхудалым, заостренным лицом. Глаза его несколько минут оставались открытыми, в них застыли серебряные точки, прилетевшие из зеркала, а потом веки бесшумно сомкнулись, и он уже спал. Плед медленно вздымался и опускался на его груди.
Аня сидела у его изголовья, и было ей печально, и было ей странно, и было ей хорошо. Она опять почувствовала, что действует согласно чьему-то предначертанию. В рукописи, которая кем-то о ней написана, только что были прочитаны строчки про молоко, про мед, про фамильную серебряную ложку с потемнелой прабабушкиной монограммой. И что там еще впереди?…
Глава 6
На тайную встречу, подальше от глаз президентской разведки, в глубоких подземных нишах собора сошлись союзники и осторожные заговорщики Мэр и Плинтус. Сидели в крохотном кабинете, затерянном среди подземных гаражей, дансингов, конференц-залов и казино. Наверху, в необъятном пространстве храма шла поминальная служба – сорок дней со дня гибели подводного крейсера. Печально толпились вдовы и матери. Чернела форма морских офицеров. Рокотал огромный, волосатый, похожий на льва диакон. Было светло от свечей и слез.
Мэр и Плинтус, оба соблюдая диету, пили свежевыжатый морковный сок. Созерцали из-за столика, как на огромном телеэкране демонстрируют кадры заграничного турне Истукана. Святая земля, и седоголовый Истукан, сделав комичную физиономию, лезет в какую-то пещеру, окруженный лучами фонариков. Древние монастыри Тибета, и бонза в оранжевом облачении тянет к носу Истукана благовонную палочку. Шоколадные воды Ганга и плывущий в них Истукан, на шею которого надет венок из живых цветов. Звезды Голливуда на празднике присуждения «Оскара», и Истукан, похожий на медведя, с неуклюжей развязностью приглашает на танец кинозвезду. Кадры сменяли один другой. Диктор с упоением рассказывал о странствующем Первом Президенте, который ушел от политики и теперь предается радостям пенсионного возраста.
– Все-таки странно, – произнес Мэр, поднося к своему зубатому рту стакан с оранжевым соком, который отразился в его полированном безволосом черепе. – Говорили, что он едва живой, на искусственном питании, с искусственным сердцем, а он переплывает Ганг и кладет свою медвежью лапу на ягодицу американской стриптизерши. Что-то не так…
– Мне кажется подозрительным его столь продолжительное отсутствие. – Плинтус колыхнул жирным, выбритым зобом, осторожно влил в него морковный сок, на мгновение соединив стекло стакана с мясистым пеликаньим носом. – Он уехал из России год назад, и теперь его видят то среди памятников крито-микенской культуры, то на ацтекских пирамидах Мексики. Какой-то здесь угадывается умысел…
– Если присмотреться, он все время чуть-чуть не в фокусе, – продолжал Мэр, цедя сквозь редкие зубы пенистую влагу, наблюдая, как Истукан кидает монетку в фонтан Версаля. – Его всегда показывают не крупным планом, на удаленном расстоянии.
– Мне тоже приходила мысль о двойнике. – Плинтус внимательно смотрел на экран, где Истукан в белом костюме и шляпе разгуливает среди златоглавых пагод Бангкока. Огромный, стекающий на грудь зоб Плинтуса менял окраску, как чуткий подводный моллюск. От нежно-розового до зеленовато-желтого, от бирюзового до темно-синего и оранжево-красного. Это свойство зоба менять окраску было широко известно в дипломатических кругах, где умели угадывать, в каком умонастроении пребывает Плинтус. Он же, в свою очередь, пользовался цветовой гаммой зоба, чтобы ввести в заблуждение собеседника. – Мне кажется, есть смысл инициировать в Думе запрос о столь долгом отсутствии Первого Президента России. Думаю, это будет чувствительным уколом для Счастливчика.