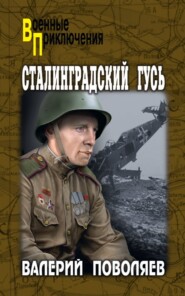скачать книгу бесплатно
Гусенок от своей известности не отставал, о нем написали в армейской газете, поместив заметку «Гвардии Гусенок», так что вскоре о нем знали больше, чем о хозяине-пулеметчике. Через три месяца он выглядел, как настоящий взрослый гусь. И чиновную важность обрел, и поступь криволапую выправил, и горделиво выставленный, наполненный сочным, чуть хрипловатым звуком зоб отрастил, – в общем, превратился в настоящего сталинградского гуся.
Отдельный батальон, в котором служил пулеметный расчет Максимова, на месте не стоял, – сместился по карте малость вниз, к Каспийскому морю, потом передвинулся на запад. При первых же признаках тревоги, предшествовавшей всякому перемещению, гусенок поспешно прыгал в свой нагретый, застеленный сеном закуток и подавал негромкий голос: готов, дескать, к передислокации, – главное было не отстать от своей части, от Максимова с Малофеевым, от расчета, где он числился третьим номером, не то ведь в суматохе, когда и стрельба возникает неурочная, и бомбы едва ли не с веток деревьев сыплются, всякое может быть… И ищи потом, свищи свою родную телегу. Гусь это хорошо понимал и старался быть дисциплинированным.
В конце концов батальон был определен на постоянный участок обороны, в центр Голубой линии, проложенной по кубанской земле, исковырянной лопатами и минами донельзя, хотя земля была подготовлена людьми совсем не для войны, а для дел мирных, но вот так по-чертенячьи бестолково, безжалостно взрытой, вывернутой наизнанку, что рождало у солдат, среди которых было много сельского народа, боль, слезы, онемение, проклятья фрицам, румынам, венгерцам… Очень скоро батальон вырыл окопы в полный рост, соединился с соседями и образовал с ними единое целое, которое ни разрушить с земли, ни взорвать с воздуха, ни закопать в преисподнюю было нельзя.
Гусенок продолжал находиться во втором эшелоне, Максимову не всегда удавалось к нему выбраться, тут одна надежда была – на старшину. Тот, надо отдать должное, про краснолапчатого бойца не забывал, обязательно чего-нибудь ему подкидывал, – то тарелку размельченного колотушкой вкусного местного жмыха, то тюрю из штабного котлопита, то размоченный кукурузный хлеб, добытый разведчиками у немцев… С хлебом одна незадача была – он очень быстро черствел и обретал дубовую твердость. Приходилось на помощь призывать водичку, совать одубевший хлеб в ведро…
Так называемый Таманский плацдарм, который облюбовали фрицы и держались за него зубами, снаряды кромсали так же жестоко и нашпиговывали землю железом так же густо, как и линию обороны под Новороссийском, – на килограмм земли через полмесяца обороны приходилось полтора килограмма металла.
В плацдарме имелось несколько зубцов, которые мешали немцам не только жить – мешали даже дышать, смотреть на звезды и бегать в нужник после жирных баварских сосисек, и они сделали несколько попыток срезать эти зубцы и выровнять злополучную линию. Бои затеялись нешуточные, – в пыли, в дыму, в охлестах грязи даже пропадало солнце – его не было видно.
Ефрейтор Максимов со своим напарником по нескольку часов не вылезали из-за пулемета, для подмоги им – доставки патронов со второй линии на первую Пустырев даже выделил подмогу – очень дюжего бойца, настоящего Добрыню, иначе было не справиться.
Пулемет перегревался и воды для охлаждения требовал столько, сколько не употребляли даже полевые кухни.
Пустырев выделил расчету в помощь еще одного бойца – специального водоноса, такого же, как и Добрыня Никитич дюжего мужика с широкими плечами и крепкими сильными руками. Батальон держался мертво, сдвинуть его с места немцы не могли.
С ручным пулеметом, с «дегтяревым», сменить позицию можно быстро – подхватил его на руки, как винтовку и перебежал в другой конец окопа, повел огонь с новой точки, а с тяжелым неувертливым «максимом», поставленным, как паровоз, на железные колеса, особо не побегаешь, через двадцать метров язык уже прилипнет к плечу, а сам вместе с задыхающимся вторым номером ткнешься задом в землю и встать сможешь не сразу.
Поэтому менять позиции приходилось не так часто, как хотелось бы, немцы это поняли и выставили позади своих окопов целую батарею минометов.
Как только меткий «максим» открывал стрельбу, так свою игру затевали и фрицы, их минометы начинали забрасывать хвостатые снаряды в наш окоп, мины шлепались часто – не спастись. Звук у немецких мин был противный, на подлете они визжали, будто поросята, которых перед тем, как зарезать, решили пощекотать ножиком.
Максимов вместе с напарником ныряли под пулемет, вжимались в землю, ждали, когда минометчики устанут или захотят выпить кофе, после чего выкапывались из земли и проверяли обстановку, особенно дотошно – передний край фрицев – не изменилось ли чего там?
Даже одна оборванная нитка колючей проволоки могла сказать о многом, глаз тут надо было держать вострым и засекать всякую малую малость, вплоть до полета лесного жука над разделительной полосой, уже сделавшейся каменной от беспощадного солнца.
Раз жук прилетел из леса, значит, там, в буреломах что-то происходит, надо об этом сообщить разведчикам: пусть проверят… Беспокоились пулеметчики и о своем гусе – как он там, в недалеком тылу?
Немцы, если захотят, то и по тылу пройдутся, оставят от фур лишь одни щепки, а от солдатских «сидоров» – обрывки; боеприпасов у них было завались, хоть на сковороде жарь вместе с ружейным маслом, а вместо гарнира подавай вареный порох, но немцы сделались уже другие, обвяли, как перезрелые овощи, – они устали от войны. И не то, что в сорок первом или в сорок втором годах, – уже не верили в свою победу, как и в крикливого фюрера.
Тыловая линия, бывшая и второй линией обороны, проходила через хутор, окруженный пирамидальными тополями, обелесевшими от солнца, с сожженной корой, – тополя прикрывали от ветра и жары богатый грушевый сад, в котором росла знаменитая бессемянка, несколько породистых бергамотов – семь или восемь корней, и десятка три совершенно беспородных дуль, из которых получались лучшие в мире целебные компоты, известные даже в Москве… По части знакомства с бергамотами Максимов был слабоват, по части бессемянок тоже, хотя доводилось ими лакомиться, а вот что такое маленькие сладкие дули, похожие на груши-дички, он знал хорошо.
Хутор состоял из трех легких глинобитных домов, в которых летом было прохладно, а зимой тепло, – вот что значит, изготовлены они были из местного природного материала, а крыша, на сибирский манер, была покрыта дранкой (значит, кто-то из здешних мужиков, ныне пребывающих на фронте, происходил из сибиряков), жили во всех трех хатах согнутые в бублик говорливые бабки, при них находились шустрые глазастые молодайки-казачки.
Хоть и размещался передний край недалеко, перестрелки и дуэли были там обычной вещью, случались ежедневно, а хутор оставался целым, лишь два раза сюда прилетали снаряды, один из них срезал несколько тополиных верхушек, а второй оставил в самом углу обширного огорода глубокую воронку, которая позже пошла под выгребную яму для солдатского нужника.
Бабки были хитрые, на снаряды почти не обращали внимания, лишь презрительно щурили подслеповатые глаза, да откашлявшись с гулким танковым звуком, сплевывали себе под ноги слюну, плевок растирали правой либо левой галошей, – какой было сподручнее, той галошей и растирали.
На Максимова одна из них положила глаз, хотя была старше его лет на двадцать пять, – характер имела беспокойный и даже решила поговорить на этот счет с командиром роты лейтенантом Пустыревым.
– Зачем он вам нужен, старикашка этот? – с воинственной миной на морщинистом, как куриная задница, подступила она к лейтенанту. – Демобилизуйте его и оставьте нам, мы его вылечим… И на хуторе все защита будет. А в знак благодарности мы вам сварим две бочки грушевого компота. Вы такого компота никогда не пробовали, товарищ командир. – Тут бабка высморкалась в кулак, ладонь вытерла о старый носовой платок, сшитый из ткани в горошек, и рявкнула трубно: – А?!
Пустырев, человек московский, любивший музыку и литературу, интеллигентный, не выдержал, опустился до уровня старых тапочек:
– Ты, бабка, совсем сбрендила, как же я могу отпустить с фронта бойца Красной армии? За это мне обеспечен приличный срок за решеткой или того хуже – пуля по решению военного трибунала.
– Нельзя, значит? – не обращая внимания на гневный тон командира, неожиданно жалобным, совсем рассопливившимся голосом поинтересовалась бабка, бравость она растеряла быстро. – Ай-яй-яй, совсем не уважают красные командиры людей, сделавших в семнадцатом году революцию!
Конечно, на хуторе, который совсем мог бы развалиться, нужны были мастеровитые руки, очень нужны, но их не было – шла война… А война – вещь куда более жестокая, чем скрученные в три погибели старухи, оставшиеся без мужской поддержки, но если мы ее проиграем, то вряд ли бублики останутся в живых. Да и на хуторе ничего не будет, кроме ободранных до сердцевины стволов мертвых пирамидальных тополей… Черноглазых молодух определят в какой-нибудь захудалый публичный дом для низших чинов вермахта – вот чем все тогда закончится.
Пустырев не стал дальше рассуждать и отвечать на неуклюжие старушечьи притязания и, поскольку времени у него в запасе не было ни свободного, ни несвободного – никакого, в общем, махнул рукой и ушел. Максимов, прищурив один глаз, придирчиво оглядел шуструю старушенцию и спросил спокойно, без всякой досады в голосе:
– Ну чего, получила? А вообще-то, мать, ты легко отделалась. Если бы ты не была ровесницей Ивана Грозного, он бы тебя за попытку ослабить ряды Красной армии в особый отдел сдал бы. Отдел называется Смерш. Эта штука – посерьезнее, чем отхлестать крапивой голую задницу. И вообще, имей в виду, бабка, голова кое-чем отличается от кормовой части.
Бабка вспыхнула, распрямляясь, превратилась в кукурузный початок, глянула на пулеметчика так, что у того на голове чуть не задымилась пилотка, и исчезла. Похоже, она имела прямое отношение к нечистой силе, иначе с чего бы ей исчезать, как пару, вылетевшему из тесной кастрюльки?
Не заполучив лучшего пулеметчика батальона, старухи, жалеючи себя, основательно прокашлялись, похрюкали, – кто в кулак, а кто в платок, и сварили для стрелков-гвардейцев целую бадью, литров на двадцать, своего прославленного компота. Поскольку сахара не было, Максимов вручил им подарок разведчиков – стеклянную банку сахарина – сладких таблеток. Компот получился «на пять» – командиры и бойцы всех четырех рот попробовали его, и все сладко чмокали губами, хвалили и ахали благодарно.
Гусенок издали почувствовал Максимова, – у него был нюх хорошей собаки, – и издал торжествующий крик. Пулеметчик обрадовался, сказал напарнику:
– А гусь наш может быть очень толковым сторожем, хоть в боевое охранение ставь его… Любого фрица за пару километров учует, даже если тот обратится в ворону. И слух у него есть, и нюх, а главное – сообразительный.
Гусенок, учуяв хозяина, выпрыгивал из фуры и, как правило, важно прохаживался около задних колес, выщипывал из земли зеленую травку, если та была, щелкал клювом и, как солдат перед построением, поправлял на себе оперение. Максимов, как всегда, еще на ходу, приближаясь к фуре, вытаскивал из кармана гостинец – то пару кусков кукурузного хлеба, то половник каши, завернутый в размякшую крафтовую бумагу, то еще чего-нибудь; на этот раз вытащил завернутый в немецкую газету жмых, несколько размолотых до рафинадного размера кусочков…
– Интересно, кого немцы жмыхом кормят? – полюбопытствовал Малофеев. – Уж не лошадей ли?
– Думаю, сами едят. Жмых у них разведчики в ранцах часто находят, в карманах находят… А что! Жмых немецкий – сладкий, чай без сахара пить можно.
Гусенок жмыхом бывал доволен, восторженно хлопал клювом, будто дятел, нашедший под лохмотом сгнившей коры жирную личинку. Каждый раз Максимов поднимал его на руки, будто взвешивал: м-да, гусенок уже не был гусенком, которого порыв ветра мог перевернуть вверх лапами, он здорово вырос и весил килограмма полтора, не меньше.
– Хар-рош гусь! – поддерживал своего шефа второй номер.
Два дня, которые пулеметный расчет провел в близком тылу, на второй линии, гусенок не отходил от Максимова, бегал за ним, как собачонка, был очень довольный, развлекал людей – то клювом, словно барабанщик щелкал, то крякал, будто утка, то взвизгивал голосом ржавым, высоким, изображая из себя чайку или какую-нибудь иную сытую птицу из числа перелетных, скажем, не задерживающихся на одном месте, то вдруг голосом солидного взрослого гуся приветствовал командира роты Пустырева, решившего проверить тыловое хозяйство, делал это так громко, четко, что комроты иногда не выдерживал и брал под козырек… Других командиров гусенок, надо заметить, замечал не очень. Только командиров второй роты – своей!
– Максимыч, у тебя в хозяйстве настоящий старшина подрастает, – сказал Пустырев как-то пулеметчику.
Пулеметчик с таким заявлением был согласен целиком и полностью.
Два дня хватало расчету, чтобы выспаться, привести в порядок одежду, починиться – особенно штаны, состоящие из заплат и дырок, постираться, – прежде всего простирнуть нижнее белье, состоящее из рубах и кальсон (у Максимыча нижнего белья, особенно ценного в окопной жизни, было целых три пары – умудрился на фронте обогатиться, обзавелся и был этим обстоятельством очень доволен), проверить себя на вшивость и целых два раза принять «баньку» – попариться в деревянной бочке из-под соленых огурцов…
В общем, почти всегда двухдневный передых совсем недалеко от передовой удавался на все сто, а может быть, даже больше, чем на сто процентов, – на сто пятьдесят, скажем.
Гусенок, как опытная собака, чувствовал, что Максимов скоро уйдет, и там, куда он уйдет, жизнь нелегкая, может окончиться печальной вестью, грустнел, делался молчаливым, долго стоял на одной лапе у заднего колеса фуры и тихо смотрел на своего покровителя.
Тот иногда не выдерживал:
– Да не смотри ты на меня так похоронно, я еще живой.
В ответ гусенок не издавал ни звука, молчал. Так было всегда.
Война на Голубой линии считалась войной самолетов, в воздухе боев было больше, чем на земле, – так считают некоторые деятели от исторической науки, но случалось, что немцы утюжили и землю… В тот день пара «мессеров» – ведущий и ведомый, – решила пройтись огнем по пулеметным гнездам, оборудованным в ячейках наших окопов.
Немцы были лихие, вели себя нагло, летали на низкой высоте, чуть ли пузом не задевали за земляные брустверы окопов, за квадратными стеклами колпаков были видны их смеющиеся лица.
Смех фрицев выводил наших солдат больше всего, выводил и Максимыча. В тот день он не выдержал, натянул на голову каску и приказал своему напарнику:
– Ты тоже прибарахлись, прикрой бестолковку-то, обуй ее…
Когда «мессер» на ходу взрезал землю – будто тупой лопатой начал калечить ее, взбил вверх целые фонтаны глины, грязи, сухих комков, камней, Максимыч нырнул под пулемет, и тот своим телом прикрыл его… Случились и попадания – несколько пуль угодили в щиток и станину пулемета, но, слава богу, мимо Максимыча, пулеметчик лишь молча перекрестился, стряхнул грязь с гимнастерки, сгреб комки земли с каски и произнес угрюмо:
– Ладно! – проворно, пыхтя, как паровоз, развернул пулемет, – не очень-то разворотливый, скажем так, – успел это сделать вовремя, поскольку на линию окопов вновь заходили «мессеры», и когда они приблизились, дал по головной машине длинную очередь.
– Попал, попал! – что было силы заревел за спиной Максимыча окоп.
Очередь угодила в низ пилотского колпака, где были проложены укрепляющие шины из нержавеющей стали, выбила толстый сноп ярких электрических брызг, «мессер» дрогнул и, визжа мотором, работавшим на пределе, поспешно отвалил в сторону – бравому фрицу стало не до пулеметного гнезда Максимыча.
Ведомый отплюнулся ответной очередью, пущенной впустую, лишь взрыхлившей землю на ничейной полосе, и отвернул следом за ведущим, которому важно было уйти на свою территорию, под прикрытие немецких окопов. Если сядет у русских, то ему капут.
Больше истребители не появлялись, небо посмурнело, с лиманов потянуло влагой, моросью, духом гнилых водорослей, похоже было, что скоро закрапает дождик, – возможно, и затяжной, Максимыч подвинул пулемет на место, которое было ему положено занимать, прикрыл своей палаткой и услышал приближающийся животный звук – на наши позиции шла немецкая мина крупного калибра.
За первой миной завыла вторая, потом третья, за третьей четвертая. Что-то сильно всполошились фрицы – уж не грохнулся ли подбитый Максимычем «мессер»? – иначе с чего бы немцам включить в игру «ванюшу» – крупнокалиберный шестиствольный миномет? На ровном месте у фрицев таких обстрелов не бывает.
Первые мины вреда не принесли, они были с недолетом, а вот шестая или седьмая с сочным звуком впечаталась в глинистую влажную землю метрах в пяти от пулеметного гнезда.
Если от снаряда, всадившегося в землю в нескольких метрах от человека, еще можно спастись, то от мины нельзя. Не дано просто. Снаряд, взрываясь, выплевывает осколки густым фонтаном, образует мертвую зону, в которой можно уцелеть, – человека может оглушить взрыв, но осколки даже легкой царапины не оставят, и такие истории на фронте случались часто, а вот от мины спастись невозможно, – она все сбривает на земле, как косой, – под корень.
Да потом мина может легко залететь в сам окоп, просто запрыгнуть в него, чего со снарядами не случается, – снаряды в основном всаживаются в бруствер, сносят его, осколки срубают макушки у толстых деревьев, подчистую сбривают ветки, оставляя лишь голые стволы.
Максимыч запоздал на несколько мгновений, привычно нырнул под пулемет, но не успел, – мина хлопнулась рядом, искорежила кожух, отрезала кусок щитка, в правое плечо пулеметчика всадились два горячих зазубренных осколка.
Малофеев пострадал меньше, его оглушило, сильно оглушило, из ушей потекла кровь, на левой щеке образовалась широкая ссадина – рваной железкой ему содрало кожу. Но сознания Малофеев не потерял, увидел, в каком состоянии находится Максимыч, и закричал что было силы, чувствуя, как у него рвутся жилы на шее:
– Санита-ар!
Санитара в окопе не оказалось, – где-то в другом месте занимался своими делами, крик Малофеева повис в воздухе, немцы, словно бы ориентируясь на этот крик, швырнули еще несколько мин в сторону нашего окопа.
Перелет. У всех мин перелет. Повезло. Малофеев перевернулся пару раз на дне окопа, не вмещаясь в него, подкатился к первому номеру.
– Максимыч, ты жив?
В ответ тот просипел что-то глухо, со свистом всосал в себя воздух – пулеметчик находился без сознания.
– Ай, Максимыч, ай, Максимыч… – болезненно, словно бы обжегся кипятком, пробормотал второй номер, начал прикидывать, с какой стороны лучше подобраться к начальству, но застрял на полудвижении, замер, словно бы его взяла оторопь – то ли сгоряча, то ли с оглушения Малофееву показалось, что если он тронет Максимыча, с тем немедленно что-то случится.
Либо сердце остановится или легкие откажут и пулеметчик задохнется без кислорода, либо что-нибудь еще перестанет работать – например, печень. Малофеев напрягся, выкрикнул что было силы, чуть барабанные перепонки не порвал, и свои собственные и соседей по окопу:
– Санита-ар!
По окопу, низко пригибаясь, держа перед собой сумку, защищая ее одной рукой, прибежала совсем юная девчонка в пилотке, прикрепленной к волосам шпилькой, с ходу подсунулась под Максимыча.
– Помогите кто-нибудь! – тонким напряженным голоском пропищала она. Малофеева этот призыв пронял до костей, он всем телом повалился было на Максимыча, чтобы ухватиться за него, взвалить на свои плечи, но наткнулся на резкий окрик юной санитарки. – Назад! Вам нельзя… Вы приготовьтесь к перевязке!
Под вой еще нескольких мин, примчавшихся с немецкой стороны и забивших воздух острым кислым духом, очень едким, Максимыча унесли.
По дороге попался старшина Сундеев, Максимыч, уже пришедший в себя, с замутненными от боли глазами, попросил:
– Егорыч, позаботься там о животном, ладно? Не то ведь пропадет.
Старшина с ходу понял, о каком животном идет речь, успокоил Максимыча:
– Все будет в порядке, не тревожься!
– Не то ведь у нас есть такой народ, что не только гусенка, а и пулемет с голодухи смолотить готов, – голос у Максимыча от слабости быстро сел, перешел в свистящий шепот, он закрыл глаза.
– Гусенок будет получать у меня ту же еду, что и командир батальона, – пообещал Сундеев, – а уж по части смолотить кого-нибудь мы с ним любого разбойника смолотим, не подавимся. Ты, Максимыч, выздоравливай поскорее, это главное.
– Буду стараться, – окончательно угасшим шепотом, почти беззвучно выдавил из себя пулеметчик.
Из госпиталя его, кстати, могли направить в другую часть, в стрелковый полк или в пулеметную роту, охраняющую какой-нибудь аэродром, либо в штаб фронта, – всякое могло быть. Главное – сейчас выжить, а уж потом… Там какой хомут на шею натянут, такой и придется тащить.
Максимыч закрыл глаза и отключился – к телу подступил жар, словно бы пулеметчика ногами вперед сунули в паровозную топку… Как народного героя Сергея Лазо. Тело болело, будто на него обвалился кусок скалы, наполовину размял человека, руки ослабли настолько, что Максимыч уже не мог ими шевелить.
Через полтора месяца, когда Максимыча уже предупредили о том, что впереди замаячила выписка, скоро будет медкомиссия, у пулеметчика в палате появились гости, два ротных командира из отдельного гвардейского батальона – Пустырев и Фарафонов. Пулеметчик в первый раз, – раньше не пробовал, – откинул от себя деревянную клюшечку, доставшуюся по наследству от прежних обитателей палаты, и собирался потренироваться в ходьбе без всяких подпорок, но сбыться благим намерениям не было суждено.
– Вот он! – всунувшись в палату, громко провозгласил Пустырев. – Здесь он!
Следом за ним показался командир первой роты Фарафонов, оба подтянутые, выбритые, торжественные, при фуражках, хотя в окопах командиры предпочитали ходить в пилотках – на пилотку сподручнее нахлобучивать каску. Похоже, товарищи командиры принарядились ради какого-то праздника.
Только какого именно? Может, наши войска освободили очередной крупный город? Или сегодня международный день стрелков из рогатки, мастеров топора и пилы, а заодно – и пулеметчиков? Максимыч как раз принадлежит к последнему разряду специалистов, тогда попадание в десятку… Может, товарищи командиры и приехали к нему поздравить с этим важным днем?
Он задвинул ногой клюшку под кровать, – предмет этот, совсем не вожделенный должен остаться в палате для следующего клиента, который, стеная жалобно и схлебывая с губ соленый пот, станет учиться после ранения ходить по земле… Дело это трудное, осваивать его по второму разу в жизни очень непросто, и Максимыч заранее жалел этого человека.
– Максимыч! – привычно проговорил Пустырев, вышел на середину палаты, откашлялся тщательно. – Товарищи! – обратился он к тем, кто лежал на койках. – Пулеметчик Максимов в день, когда был ранен, сумел сбить из станкового пулемета немецкого стервятника – самолет «Мессершмитт-109»…
Палата зааплодировала.
– Все-таки получил свое разбойник? – не выдержал Максимыч, раздвинув небритое лицо в кроткой улыбке, – этим обстоятельством он был доволен.
– Получил сполна. Разведчики ходили на ту сторону, видели этот «мессер»… Разделан так, что кукарекать от удовольствия хочется. А герою – награда от командования соответственно. – Пустырев передал Максимычу мягкую картонную книжицу, следом серебряный кружок, прикрепленный к колодке, – медаль «За боевые заслуги».
В окопах медаль эту называли сокращенно ЗБС. Хотя правильно было ЗБЗ. Что ЗБС, что ЗБЗ – все одинаково приятно.
– Самолет, рассыпанный по винтикам и болтикам, по железкам мятым и ржавым, лежит в четырех километрах за линией фронта, – сказал Фарафонов, добавил, хотя можно было не добавлять, и так все было понятно, – на немецкой территории и, как сказали бы наши инженеры, восстановлению не подлежит.
Пустырев прицепил медаль к нательной рубахе Максимыча, сшитой из плотной байки с треугольным вырезом, пожал ему руку, оглянулся, словно бы хотел проверить, не подглядывает ли кто за ними? – никто не подглядывал, и Пустырев проговорил негромко, как опытный заговорщик:
– Неплохо бы медаль эту в стакан окунуть, но такой возможности у нас в госпитале, Максимыч, нету, извиняй! Сделаем это у себя, в родном окопе… Или позже, в Берлине, когда наступит победа – все ордена тогда обмоем!
После этого многообещающего заявления командиры четко, как на параде, откозыряли и ушли.
Палата заволновалась:
– А как же быть с фронтовой традицией, утвержденной самим Верховным главнокомандующим – все награды обмывать обязательно, а? Ведь для этого и выдаются наркомовские сто грамм!
Это донеслось из одного угла палаты. Из другого угла донеслись иные слова, хотя тема была старая.
– Если не обмыть медаль чем-нибудь крепким, а потом не вытереть о кусок мягкого хлеба, она ведь и оторваться может и потеряться навсегда…