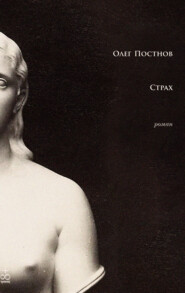скачать книгу бесплатно
Страх
Олег Георгиевич Постнов
Русский эмигрант, забредший в букинистическую лавку в Америке, становится обладателем нескольких рукописных тетрадей. В них – история одной жизни и одной любви на грани одержимости. Украинское село, куда героя ребенком отправляют на каникулы, – полумистическое пространство, полное чудес и предрассудков. Здесь и встреча с марой, и свадьба деревенской ведьмы, и странные ритуальные обряды.
Это книга об испытании страхом, который иногда оказывается сильнее и побеждает, о персональном кошмаре, выбраться из которого невероятно трудно, если вообще возможно.
Олег Постнов
Страх
В ряде случаев сохранены авторская пунктуация и орфография
Издатель П. Подкосов
Продюсер Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Ассистент редакции М. Короченская
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Корректоры Е. Барановская, З. Скобелкина
Компьютерная верстка А. Ларионов
В оформлении обложки использовано изображение Bust of Eve Disconsolate by Hiram Powers (ок. 1872–1890)
© Постнов О., 2000
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
* * *
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Страх есть посторонняя, чуждая сила, овладевающая человеком; вырваться он не может из ее власти, потому что боится: чего мы боимся, того мы желаем вместе с тем.
Кьеркегор
19 февраля 1994 года (мне памятен этот день) я заглянул – отчасти намеренно – в букинистическую лавку небольшого американского городка в Нью-Джерси: я давно заприметил ее. Только что перед тем я узнал, что моя книга, об издании которой я хлопотал здесь, в США, по ряду причин снята с печати. Я не считал это слишком большой потерей, но все же думал как-нибудь подбодрить себя. Поход в букинист в этом смысле меня устраивал.
Лавка была совсем скромной, с парой столиков для чтения при входе; впрочем, тут подавали и кофе. Я, однако, не хотел никакой пищи, кроме духовной, а потому, осмотрев стеллажи, подошел рассчитаться к хозяйской конторке, тут же в углу. Трофей этого визита, как мне казалось, должен был ограничиться изящной работой Шнейдмана «Смерть человека», трактующей с неожиданной стороны творчество Германа Мелвилла, моего любимца; я был рад, что нашел ее здесь. К моему изумлению, хозяин, назвав цену (сознаюсь, смехотворно низкую) и глядя, как я пытаюсь разобраться в мелочи, – я был в Штатах всего первый месяц и еще не освоился с местной монетой, легко путая пять центов и пятьдесят, – вдруг с неожиданным любопытством спросил, не русский ли я. Я отвечал утвердительно. «Меня зовут Люк», – представился он. На вид ему было лет сорок пять. «Hi, Luke! (приветствие)» – сказал я и тоже представился. Было видно, что мое имя его потрясло: неловко улыбаясь, он шевелил губами, пробуя его повторить. Потом улыбнулся еще шире и бросил это пустое дело. «Видите ли, мистер, – продолжал он, сохраняя вынужденную церемонность, тяготившую его, но теперь неизбежную, – у меня для вас есть презент. Может быть, он вас заинтересует». Он нырнул под конторку и с редкой быстротой извлек и подал мне небольшой альбом в цветной обложке. Открыв его, я едва не выронил три вложенные внутрь русские школьные тетради, мелко исписанные с начала до конца. Но это было еще не все. Тут же, в специальном кармашке, приклеенном к задней стенке альбома, помещался другой документ, листов в семь, тоже по-русски, однако набранный на компьютере. Бумага американского формата (Б5), судя по всему, повидала конверт, так как была сложена втрое. Сам конверт, аккуратно вскрытый сверху ножом для бумаги, крепился с внутренней стороны к переплету золотой скрепкой. Забота о нем была очевидна. Люк тотчас подтвердил, что, точно, получил его почтой, хотя на нем, как я успел разглядеть, был назван другой адресат – тот самый, что и на титуле верхней тетради. «Но, – сказал Люк, – когда пришло письмо, он уже не мог распечатывать свою корреспонденцию. Я вскрыл конверт, думая, что там, может быть, счет». Он ошибся. Ошибка эта была простительна: он сам объяснил, что так и не понял, что же это такое. «Там нет ни обращения, ни подписи, – посетовал он. – Сколько я знаю русский алфавит, там вообще почти нет имен. Если только по-русски они не пишутся с маленькой буквы». Я разуверил его. Он серьезно кивнул, но попросил настоятельно забрать альбом с собой, ибо – я понимал сам – он был бессилен придумать что-либо лучшее. «А адрес?» – спросил я все-таки, косясь опять на почтовый штемпель. «Там теперь другие жильцы, – вздохнул Люк. – Юная барышня… К тому же у нее траур». – «Вот как!» – протянул я, подняв бровь. Он грустно кивнул. Больше ничего узнать было нельзя. И я принял папку.
Так я оказался хозяином странной хроники, которую привожу ниже. Ознакомившись с ней, я убедился с облегчением, что, в общем, чуда не произошло. Если не считать пары забавных совпадений, которых могло и не быть, весь этот скромный архив, сохраненный с тщанием и любовью, так или иначе должен был попасться в руки кому-нибудь из моих соотечественников – рано или поздно. Случай выбрал меня. Оговорюсь. Разумеется, нет ничего нового в том, чтобы выдать свои грехи за чужую мазню в угоду любителям «подлинных» фактов; это старый прием. Но те, кто знает меня ближе, верно, воздержатся от такого рода догадок. Текст оставлен мной без изменений, не считая чисто технической правки. По ряду причин я намерен избегнуть суждений о нем. Не хочу распространяться также об авторах обоих документов, тем паче что ничего о них и не знаю. Писательский навык первого (не скажу – дар) мне кажется безусловным, несмотря на ряд весьма смелых, чтобы не сказать больше, пассажей. Что касается второго, то тут и способности, и цели куда скромней, а потому заслуживают снисхождения, порой даже просто человеческого. Впрочем, об этом читатель может судить сам. Жаль лишь, что именно этот фрагмент должен служить финалом. Что делать! Логика судьбы (необходимая тут формальность) не всегда считается с литературными предпочтениями, тогда как мне, со своей стороны, оставалось только покорно следовать ей. Впрочем, это наш общий удел – и в жизни, и в литературе. Все остальное, как известно, слова.
О. П.
Часть первая
I
Знание порой невыразимо. Тем безусловней чувство, основанное на нем. Работая над примечанием к одному из ранних рассказов Эдгара По, сборник которого в коммерческих целях готовило к выходу в свет мелкое частное издательство – мне вменялось в обязанность составление комментариев и техническая подготовка текста, – я наткнулся на странный факт, прежде вовсе упущенный мной. Рассказ назывался «Метценгерштейн». Написанный в «готическом» духе, тогда модном, он весь был построен на сверхъестественных совпадениях и злых чудесах. В нем шла речь о вековой вражде двух древних родов, обитавших когда-то «в самых недрах Венгрии», – так выражался автор. Время действия подчеркнуто не уточнялось. Судя, однако, по некоторым деталям, можно было предположить XVI или XVII век, что я хотел внести в свои заметки. Впрочем, историческая достоверность в рассказе подменялась весьма искусно видимостью ее. Внешнюю канву событий составляло исполнение давнего пророчества, которое и явилось как раз причиной старинной ссоры.
Последний Метценгерштейн, юный барон и сущий дьявол, коего автор уподобил царю Ироду и Калигуле, благоразумно не вдаваясь при этом в подробности его бесчинств, однажды сидел в зале своего дворца, созерцая выцветший гобелен, где был изображен его предок в момент торжества над одним из их кровных врагов. Гигантский конь этого воина, уже поверженного ударом ножа, стоял подле, «словно статуя». Внезапно он повернул голову и, взглянув с полотна человеческими глазами, страшно оскалил желтые, как у покойника, зубы. Сдерживая дрожь, молодой сеньор бросился вон из зала, однако во дворе в свете факелов вдруг увидал трех своих слуг, которые только что «переняли» из неприятельских конюшен, горевших в ту ночь, коня – живую копию изображенного. Клеймо на лбу не оставляло сомнений. Произнеся несколько слов, полных угроз и богохульства, Метценгерштейн вскочил на коня – и с тех пор, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади. Целыми сутками скакал он на ней по окрестным лесам, забыв сон и отдых, пока наконец, как-то в полночь, не запылал, начиная с башен, его собственный дворец. Напрасно челядь пыталась сладить с огнем. Когда же огненный смерч охватил кругом все здание, из леса вылетел стрелой конь и, не слушаясь узды, увлек седока в самое жерло пожара. Там тот и сгинул. Пророчество сбылось. Клубы дыма над останками гнезда Метценгерштейнов приняли форму огромного коня.
Мысль о «Страшной мести» Гоголя сама собой пришла мне на ум. Однако не сходство мотивов, вполне объяснимое, к примеру, миграцией сюжета в духе «Исторической поэтики» Веселовского (и все-таки разительное, если учесть совпадение частностей, как, скажем, роль коня в развязке), а нечто иное, не столь очевидное обстоятельство заняло меня. Открыв том сочинений Гоголя, я убедился, что повесть была написана им в 1831 году и опубликована в начале следующего, 1832-го. Комментатор «Полного собрания рассказов» По лаконически повторял обе эти даты – применительно к «Метценгерштейну».
Находка стоила мне сна. Ворочаясь в темноте и пытаясь собрать разбегавшиеся мысли либо вовсе отмахнуться от них, я не мог, однако, избавиться от чувства, что и само это мое открытие не есть лишь простой филологический казус, но трюк судьбы. По складу души я человек, далекий от мистики, вернее, склонный, сколько возможно, держаться в стороне от нее. Я отдаю себе отчет в подозрительности такого признания: в моем случае оно не вполне уместно. Тем не менее я искренне не люблю совпадений, даже счастливых. Случай – это та маска, в которую охотней всего рядится рок. Исподволь тем самым он превращает нашу жизнь в фарс, ибо главное в совпадениях, конечно же, то, что они не случайны. Их тайная вязь, бросая вызов нашему чувству свободы, подтачивает силы, а порой и самое желание жить. Это подобно игре, где крупье шулер. Разумеется, такая мысль – крайность. Но риторика на грани яви мало подвластна доводам разума. Вскоре мне стало казаться, что я прав. По окраинам сна выстраивались в ряд все новые факты, вроде того, что оба писателя боялись – не совсем зря – преждевременных похорон; что Эдгар По по неясным причинам всю свою жизнь уверял, что бывал в Петербурге (как раз в эти годы), хотя теперь доподлинно известно, что это не так; что оба, будучи христианами, верили в переселение душ (впрочем, в это верит большинство смертных). Наконец, как часто случается в дреме, мне померещилось, что это все – Гоголь, месть, игра дат – не что иное, как знаки других, тоже мрачных событий, касавшихся уже одного меня. Я давно не давал им волю в душе и полагал даже, что вовсе забыл их.
Я сел, потом встал и взглянул в окно. Был теплый ноябрь, листопад. Я сделался хмурым свидетелем окончания ночи. Гирлянды города меркли в утренней мгле. Ветер с юга, обычный, как я знал по бессоннице, в это время суток, оживлял гибридный куст под окном, еще полный теней. Мне было зябко и грустно. Уняв дрожь, я вернулся под одеяло, закрыл глаза. Что мы знаем о нашей жизни? Мы судим себя и других вкривь и вкось, и еще хуже наши дела. Слишком много ночей и дней дает нам время: мы не в силах удержать их в себе. Не потому ли в конце концов нас самих ждет лишь одно – забвение?
II
Я родился в семье дипломата почти треть века назад. Именно случаю обязан я местом своего появления на свет. Миссия моего отца в Нью-Йорке вряд ли была безобидной. Все же он настоял на том, чтобы мать ехала с ним. Мать была против. Насколько я помню, городская жизнь всегда была в тягость ей. Может быть, потому и я сам так и не привык до конца к столице. Отец, человек столичный по своим вкусам, профессии и судьбе, вовсе не мог взять в толк этих ее «причуд». Он держался мнения, что все должно быть разумно. Разум велит знать мир. Мать согласилась ехать лишь потому, что того требовали «инстанции» (так он ей говорил). До сих пор не уверен, только ли козни политики задержали их в Штатах и не строил ли отец в душе расчет, на который не раз намекал мне потом. Собственно, ложь он не ставил никому в упрек. Инфаркт положил конец его карьере, когда мне было семнадцать лет, и после этого я уже мог думать о нем все, что хотел. Я не спешил с выводами. Но странным всегда казалось мне то, что, едва родившись в мир, еще только грезя жизнью, я облетел половину планеты, чтобы потом найти себя на дорожке в саду, перед домом деда, накануне грозы, которую уже не помню.
Дом был построен добротно, перед войной, и пережил оккупацию. Осколок бомбы разбил стекло и продырявил дверцу буфета. Разумеется, к моменту моего появления стекла все были целы, дверца залатана, лишь несколько щеп отставало внутри, что было видно, если кто-либо приходил открыть то боковое отделение, в котором хранилась старая глиняная посуда. Здесь шеренга склянок с лекарствами, с водкой теснила пузатый кувшин, всегда пустой, и висели связки травы для настойки. Траву собирал в лесу сам дед. Лес – тоже древний, огромный, уходивший куда-то в Польшу (или, возможно, в Венгрию, я был слаб в географии), подступал к самому селу. Из сада была видна темная гряда его верхушек, казавшихся ближе и темней, чем это было на самом деле. Даже в жаркий украинский полдень словно бы душной влагой веяло от этих вековых крон. Их аромат застаивался потом в сарае, где дед хранил и колол дрова. Перед сараем бродили куры. На чердаке был сеновал.
Подворье деда расширялось и росло из года в год и представилось мне исполинским в тот первый день в саду, когда я осознал себя. Не могу сказать, почему это случилось именно здесь. Может быть, спертый воздух перед грозой прояснил мне на миг ум, как-то особым образом толкнул или сжал его, и я увидал и запомнил – уже навек – цветы клумбы слева от калитки, себя, идущего мимо них на кривых вялых детских ножках (моя беспомощность меня не пугала), между тем как вокруг все готовилось утонуть в теплой розовой и бордовой мгле, а черная туча показывала край из-за ветвей дикой груши, росшей против крыльца. Потом год за годом все это старилось и ветшало, как-то съеживалось всякий раз, как я приезжал опять из столицы к деду, словно время прежде шло вспять, а тут вернулось в привычное русло, и мне казалось даже, что именно потому и от этого мне щемит на особый лад сердце в первый миг, когда вновь, после долгой зимы, я бегу по дорожке домой, к усадьбе деда.
Мое детство никогда не было жалким, ущербным, я не был ничем обделен. Напротив. Я едва успевал вместить в себя все то, что находил вокруг, и очень рано поэтому стал ощущать предательскую сущность вещей: они менялись слишком быстро, быстрее, чем я хотел. Неудивительно, что я не чувствовал скуки. Что с того, что я был один!
Сад деда уступами спускался к реке, мелкой и светлой, с песчаным дном, и всегда холодной, даже в жару в июле. Соседские дворы пестрили окрестность неразберихой крыш, вишневых и яблоневых куп, а также вышками громоотводов, похожих издали на иглы, воткнутые в мох. Ниже по течению был став (запруда) с белыми лилиями и дощатой плотиной. Дед говорил, что прежде тут была мельница. Она сгорела в войну, как и все ее бледные подобия, которыми любит злоупотреблять кинематограф. За плотиной река обращалась в ручей и была притоком другой, большой реки, название которой я позже нашел в летописях. Эта река дала имя деревне.
Дом деда господствовал над двором и к тому же был самым большим на улице. Сад обступал его, но не мог скрыть. Зато кусты теснились у стен: сирень близ веранды, акация возле детской, виноград вдоль окон гостиной и спальни – и ночью, во тьме, вся усадьба казалась бесформенной громадой, лишь сверху урезанной скатами крыш. Днем в комнатах было зябко, солнце с трудом пробивалось сквозь листву, и я забегал сюда со двора лишь затем, чтобы хлебнуть на кухне из эмалированной кружки ледяной колодезной воды: запасы ее пополнялись всегда с большим усердием, хотя колодец был в соседнем дворе, куда вела специальная боковая калитка. Больше в доме днем делать было нечего.
Иное дело – сад и сарай. Знойный воздух плыл над травой, над клумбами, извлекая дурман из настурций и флоксов, в соцветиях которых к тому же была дождевая влага – по капле в каждом цветке, – и, если выдавить ее на язык, сладкий яд жег нутро жаждой чего-то такого, о чем я еще не мог знать. В сарае, помимо дров, хранился весь инструментарий хозяйства. Тут пахло медом и дегтем. Грабли коварно подставляли зубцы под ноги, от чего их тонкая ручка-жердь вдруг выскакивала, танцуя, из угла, из середки других, ей подобных, но неподвижных (лопаты и сапки не были склонны к подвохам). Тут нужно было успеть отскочить. Верстак был опасен занозами, однако непоборимо тянул к себе коллекцией завитков из старых и свежих стружек, которым хотелось найти применение. Банки с гвоздями, набор гирь для весов, черно-желтые соты с мертвой пчелой, пульверизатор и старая, вся в паутине, реторта – дед когда-то занимался химией – таких сокровищ была бездна в сарае, и я, зайдя сюда с солнца, мог подолгу стоять и рассматривать их, чем приводил деда в недоумение: я никогда ничего не брал из его вещей, как не рвал и цветов, кроме разве что флоксов, да и их редко. Я смутно догадывался, на что намекает их яд. В дальнем углу сарая, над старыми ульями с железной крышей и темной щелью летка?, висели на стене весла от лодки. Покрашенные в белый и голубой цвета, с потертостями у уключин, они в разные годы вызывали у меня разные чувства: лодка была на плаву не всегда. У нее сгнивали то борт, то корма, а чаще дно, так что дед долго чинил ее и смолил, если вообще находил на это время. От этого между тем зависела судьба моих речных одиссей; и, приезжая к деду, я первым делом осведомлялся: что? лодка? Не помню, с каких лет мне позволили плавать одному.
III
Американский городок, в котором я теперь живу (или вынужден жить, хотя это изгнание добровольно), расположен в ста верстах на юг от Нью-Йорка и носит редкое название: Riverband (Набережная). В России так бы могли назвать улицу, но тут порядки свои. Река, впрочем, действительно где-то есть, хотя мне ни разу не удалось подойти к ней вплоть. Она прячется среди низких и густых перелесков Нью-Джерси, сквозь которые я не умею продраться. Кроме того, я боюсь нарушить границу частных владений, а мне вовсе не хочется вторгнуться в чужой предел. В межевых знаках я не знаток. Это и вообще-то касается пространств моей случайной родины. Они организованы на свой лад, иначе, чем я привык, у них своя география, но она чужда мне. Человек искажает мир. Человек есть сам искажение мира, и потому, где возможно, я стараюсь двигаться по прямой.
Мой городок дает мне к этому массу поводов. Он весь состоит из двухэтажных домиков, расставленных словно в клетках; клетки образованы скрещением улиц, а мой дом находится на перекрестке их. Напротив крыльца – гидрант, которого так боялся Набоков. Если свернуть за угол, к гибридному кусту, и потом идти все вверх да вверх, на север, то вскоре – спустя квартал (или блок, как тут говорят) – будет автобусная станция. Час в автобусе, потом три квартала по Сорок второй стрит в сторону, противоположную морю, – его аромат иногда заметен в воздухе, даже зимой, – вот и все, что требует от меня русское книгоиздательство в США. Я составляю комментарии. Делаю переводы. Правлю гранки. Мы издаем англосаксов по-русски и русских по-английски. Сейчас я комментирую По.
Но если, выйдя из дома, свернуть на запад и прогуляться вдоль припаркованных наискось к тротуару автомобилей, которых много на этой почти главной улочке городка, то по правую руку начнутся и потянутся чередой, квартал за кварталом, мелкие магазинчики, лавки, бюро проката, ремонта, кафе, пиццерии и, словом, вся та торговая мелюзга, которая в Европе живет шумной жизнью, а здесь, кажется, спит или пустует, хотя повсюду неоновый росчерк «открыто» не гаснет ни ночью, ни днем. Впрочем, ночью они все же заперты, это я знаю на правах русского, которому скучно по ночам.
Из них всех мой любимый – скромный букинист с забавным уклоном: философия, поэзия, иудаизм (в городе много синагог). Хозяин – смуглый американец с пейсами, ему бы лучше пошло сомбреро. Он мастак делать скидки, которые, на мой взгляд, давно должны бы были разорить его. Но он все еще на плаву. Его зовут Люк. Колокольчик над дверью оповещает о каждом входящем, против прилавка с кассой – два-три столика, за которыми можно выпить кофе, и, словом, все хорошо. Кофеваркой хозяин орудует сам. Я считаюсь тут завсегдатаем, а потому состою с ним на короткой ноге. Это порой выражается во взаимном похлопывании по плечу – к примеру, под Новый год. Как-то я спросил его, видел ли он реку. «Конечно, – ответил он тотчас. – Я видел много рек». Я не стал уточнять, лишь похлопал его по плечу. Он широко улыбнулся и продал мне за бесценок «Сумму против язычников» Аквината. Заглавие ввело его в заблуждение: он, верно, думал, беря том в магазин, что gentile значит «гой».
Что же касается реки моего детства – той единственной реки из украинского полдня, – то она была близко от дома деда, почти во дворе. Выше по течению она делала большой выпуклый изгиб – как у Гофмана (Виктора, не Амадея), и там она была мельче и у?же; кладки (настилы из досок), похожие на крыльцо или плот, мыли в ней свои гнилые края. С них хозяйки стирали белье, пуская сиреневые от порошка круги, в которых при некотором старании можно было усмотреть тусклую радугу. Вниз, ближе к ставу, кладок не было. Берега окаймляли камыш и татарник. Река разливалась, заболачивая луг. Дно становилось илистым, вокруг первых кувшинок собиралась ряска. Весла цеплялись за подводные стебли, нужно было грести медленно и осторожно либо, вовсе вынув их из уключин, уходить на корму и тогда орудовать коротким рулевым веслом, перекидывая его поочередно на обе стороны. Так грести мне нравилось больше всего. Усадьба деда оставалась за спиной, впереди был став, а левее, на выступавшем мыском берегу, темнела еще одна, чужая усадьба, которую я всегда называл про себя «Плакучие Ивы».
Она составляла важное исключение из общего порядка сельских домов и садов, располагавшихся в окру?ге. Даже внешне она решительно выделялась средь них. Вербы и ивы, подходившие к самой воде (а со стороны улицы – к воротам), образовывали как бы зеленый купол, и, присмотревшись к ним, можно было легко понять, что ни огорода, ни каких-либо полезных посадок, к примеру фруктовых деревьев либо вишен, на дворе нет. Там всегда была тень. Сам дом был вовсе закрыт тенью, и все, что я мог разглядеть, проплывая мимо, был ветхий сарай, когда-то выбеленный известкой, но теперь утративший всякий цвет. Говорили, что «дача» (так называли все этот двор) принадлежала некоей детской писательнице, книжки которой я даже читал. Но самой писательницы не было видно. Вообще никого не было видно в саду и у речки, и «Плакучие Ивы» казались запущенными и безлюдными. За несколько лет я к этому совершенно привык, так что, вероятно, был бы даже расстроен, если бы что-нибудь здесь изменилось – неважно что?. Ибо с самого детства, возможно, в силу тайной своей склонности к постоянству чувств, я терпеть не мог перемен.
IV
Но долго ли я был один? Припоминаю взрослых и сверстников, с которыми проводил изредка время, однако они никак не нарушают моего одиночества, того внутреннего и сосредоточенного уединения, к которому я себя приучил. Их как бы нет: я только знаю, что они были, но не вижу их. Не слышу их голосов. Пожалуй, лишь с началом школы слабый нестройный гомон проникает в мои воспоминания. Но столица всегда враждовала с тишиной и со всем тем, что я любил, и я давно с этим свыкся. Иное дело, когда вдруг однажды летом, и как раз неподалеку от «Плакучих Ив», мою лодку атаковала чужая, с гнутым дном пирога, нагруженная парой весьма серьезно настроенных и мне незнакомых мальцов. Кажется, лишь мое абсолютное и непритворное изумление (я не мог вообразить себе, чтобы что-либо в этой части мира восстало на меня) спасло меня от неприятностей. Тем не менее именно с тех пор я словно вышел из спячки. Обнаружилось, что несколько близких знакомых из местной детворы как раз были наготове, будто актеры за сценой, так что уже спустя неделю я чувствовал себя вполне устроенным в небольшом обществе своей деревни: обстоятельство, которому предстояло еще сыграть в дальнейшем некоторую роль. Я обнаружил (отнесясь, впрочем, к этому как к должному), что старшие – родители или близкие моих друзей – были прекрасно осведомлены не только обо мне, но и обо всей семье деда, а также и о моем отце. С недальновидностью горожанина я не придал этому значения и, разумеется, не проявил ответного любопытства. Впрочем, я был еще мал.
Деревня жила тихой, ленивой жизнью, в укладе которой чувствовался труд веков. Из рассказов деда я знал, что это впечатление ложно, но опять-таки избегал уточнений. Мой образ реальности был дорог мне. Общественная жизнь, по моим наблюдениям, пробуждалась лишь на похоронах. Наша улица была центральной, потому любую процессию можно было увидеть, не выходя из ворот. Оркестр, всегда один и тот же, из соседнего села Мигалки, давал заранее знать о приближении траурного кортежа. Потрепанный грузовик с венками и гробом полз впереди провожавших покойного, причем трубы оркестра заглушали мотор, но не могли скрыть воя собак, которым медь надрывала сердце. Дед степенно выходил осведомиться, кого именно хоронят, и так поступали все соседи. Обсуждались подробности. Смерть представала в своем будничном, не слишком страшном обличье (страшнее прочего для меня, как и для собак, был всегда оркестр), и это же подтверждал уютный, домашний вид кладбища. Кладбище было новое. Прежнее, с тощими крестами и почти без камней, давно обступила со всех сторон разросшаяся деревня, и его закрыли. Предприимчивые пейзане устроили на нем огород, между могил были грядки. Зато новое, на отшибе, у края леса, было пестрое, ухоженное, цоколь надгробий берегли кружева оград, всегда затейливых, окрашенных светлой, синей либо салатной краской, и пышный черный обелиск в начале главной аллеи, поставленный кем-то от большого снобизма или, может быть, от большой скорби, – он изображал покойного в полный рост, так что в сумерках мог напугать, – один выглядел здесь зловеще. Сюда мы ходили редко: «навестить» родню, о которой я знал по слухам много странных вещей, но сам не видал никого. Дед порой рассказывал их истории, но неохотно, хмуро, подозревая «бабью брехню» в большинстве случаев. Я соглашался с ним. Похороны случались не чаще двух раз в месяц и, таким образом, входили на законных правах в кругооборот моей жизни. Впрочем, дни похорон отличались от всех других своим особым, несколько пряным вкусом, который прилежно отмечала память, и я ясно вижу себя у ворот, июль, день в разгаре, у меня шатается готовый выпасть молочный зуб, улица полна людей, жара, а мимо плывет красный гроб, похожий сверху на праздничный стол, где среди белых салфеток лежит мертвая, словно лишняя здесь, рука…
V
Мне было десять или, возможно, одиннадцать лет, когда я впервые отделил себя от своих воспоминаний. До того они представляли собой хаос единства, враждебный времени и любой последовательности дел или вех. В тот год я приехал раньше обычного, в мае, и застал яблони деда в цвету. Дед только что просмолил лодку. Я, однако, не спешил снимать весла со стен. Мой приезд уже давно обставлялся мной наподобие тайного ритуала (не могу объяснить, как он возник и для чего был нужен), и я вначале обошел весь двор и дом, заглянув за сарай, где между кустов малины стояла кабинка клозета, потом спустился к колодцу, прогулялся по кладкам к реке, вернулся в усадьбу и с минуту глядел на завязи флоксов возле крыльца. Дед, выглянув за порог, позвал меня есть (был полдень, обед). От него я узнал, что в субботу (завтра) должна прибыть из Киева в гости на два дня моя старшая кузина Ира.
Ира была семейный деспот, своим характером досаждавший чуть не всей родне, в том числе деду. «У нее в голове ветер» – это то, что чаще всего говорилось о ней. По мнению старших, она была непоседлива и вредна. Были еще и другие ее грехи, которые, впрочем, не обсуждались при мне, но о которых я был осведомлен в точности, из первых рук, ибо с ней ладил. Теперь я тоже был рад, что ее увижу. Дед, напротив, нервничал и ворчал.
Я обнаружил, что в доме за время моего отсутствия произошло несколько перестановок. Из них только одна касалась меня самого: в детскую, где я всегда жил, был водворен дедовский письменный стол, предмет моего неустанного любопытства. У меня в душе – в тайном ее укладе – ему отводилось примерно столько же места, как и буфету. Но он был загадочней и недоступней – на мой взгляд. Я не знал названия половины тех вещей, что хранились в нем, особенно в его ящиках, бывших обычно на замке. Когда замок отпирался, я имел случай заглянуть внутрь через плечо деда, но нечего было и мечтать о том, чтобы взять что-нибудь в руки. «Це тоби нэ гра», – пояснял в таких случаях лаконически дед. Он, однако, кривил душой, как я думал. Ибо многое из того, что я мог рассмотреть, было как раз «грой» (игрой): пасьянсные карты, бочечки для лото, коробка пистонов от французского театрального кольта, привезенного деду в подарок из-за границы чуть ли не моим же отцом. На капсюлях был отчеканен стилизованный лист, похожий на масть пик, – разумеется, в пику деду. Но дед твердо стоял на своем. Лишь изредка и весьма неохотно он выдавал мне на время что-либо из стола, к примеру лупу для выжигания узоров либо тушь и перо, и строго следил потом за сохранностью вещи, которую всегда сам клал назад. В столе – все равно, в тумбах ли, в ящиках, – был образцовый порядок, не вполне вязавшийся с положением дел наверху. Тут дед был менее строг. Лампа с голым амуром, развернувшим на пухлых коленах хартию (должно быть, список побед), бронзовый чернильный набор ему в тон, барометр и деревянный нож для резки бумаги погрязали нередко под кипой газет и журналов, уже начинавших снизу желтеть. Синее сукно было придавлено в центре стола стеклом, под ним располагались фотоснимки: экспозиция семейного альбома. Дед следил, чтобы никто не был забыт. Покойников это касалось в той же мере, что и живых. Даже нелюбимая им Ира была среди прочих домочадцев на дымчатом фото и с таким благим выражением лица, какого мне у нее в жизни не доводилось видеть. Снимок изображал ее в день школьного выпуска в 8-м классе. На ней было платье, бант и передник с большим, домашней работы кружевом. Она была хороша на снимке, и я знал, что как раз в тот день она вскружила голову соседскому парню, кузнецу. С тех пор она всегда вслух потешалась над ним. Впрочем, я не раз замечал, как в сумерках они гуляли где-нибудь вместе. От меня они не таились: мне до этого не было дела.
День медленно уходил, вечерний свет озарял комнату. Кроме тахты, на которой я спал, тут был еще холодный кожаный диван с ящиком для белья под сиденьем. Верно, оттого что стол, как всегда, был на запоре, я присел на корточки и выдвинул этот ящик. Белье лежало стопками. В пустом углу скучала кипа детских книг, давно уже мной и Ирой читанных. Рядом с ней съежилось крохотное и нищее кукольное царство Иры. Два пупсика разных полов (судя по прическе). Кукла Света в довольно грязном платьице и со следами макияжа на губах и ресницах закатывавшихся экстатически глаз. Какой-то игрушечный скарб и лишь одна новинка: сшитый из старых открыток ларчик в форме дивана, тоже с ящиком под сиденьем, куда можно было спрятать флакон духов. Ларчик мне понравился; он превращал большой диван в нечто вроде заглавной матрешки либо «вампукской хрюри» Кэрролла, которого я не любил за сюжет, похожий на скарлатину, когда ничего уже нельзя понять… Вздохнув, я закрыл и задвинул маленький и большой диваны. Потом настал вечер.
Не знаю, зачем я медлю на этой последней точке моего детства, но что-то удерживает меня. Что-то велит вспомнить холод той майской ночи, проникший на веранду, где в тусклом свете «экономической» лампочки подле зеленого глазка радиолы мы пили перед сном с дедом травяной чай. Он любил намешивать в него варенье, я предпочитал ничего не мешать. Дед смотрел в газету, я перечитывал надписи на нижней панели радиолы, той, под которой ползала взад-вперед красная стрелка, никогда, конечно, ничего не ловя, кроме столиц и Киева. Зато желтые надписи обещали круиз: Стокгольм, Лондон, Афины, Париж. Нью-Йорк – имя родины, словно я на чужбине… Я усмехнулся радиоле. Дед ушел спать на сеновал, я запер дом и погасил свет. Я думал, что тотчас усну. И ошибся: то была первая ночь, когда я узнал страх.
VI
Кофейня Люка была пуста – лишь посетитель с пейсами, такими же, как у хозяина, нежно листал в углу фолиант. Люк обрадовался мне чуть ли не больше, чем всегда. «Aгa, мистер, вот посмотрим, – сказал он, загадочно щурясь и подмигивая мне, – будет ли вам по вкусу то, что я тут для вас приготовил». С проворством циркача (торговый, а не литературный штамп) он выхватил из-под прилавка том и протянул мне. Это был Амброзий Бирс – собрание стихов и рассказов. Признаться, после бессонной ночи я предпочел бы чашечку кофе. Но, конечно, сделал вид, что рад.
На деле я никогда не питал страсти к писателям вроде Лавкрафта, Бирса или Говарда. Их ужасы всегда казались мне слишком условными, чтобы выйти за рамки простых сюжетных схем. Например, Гамлет-старший (если уж искать сравнений) страшнее их, как и вампир Толстого полнокровней их бледных фантастических фигур, сквозь которые, как ни гляди, не увидишь никакой яви. Иное дело – По. Недаром он все пытался шутить в своих самых скучных рассказах: жалкая гримаска, за которой трудно скрыть правду. Однако благодаря Люку – он как-то понаведался вскользь о цели моих поездок в Нью-Йорк, – а также из-за пристрастий нашего издательства, впрочем, всегда покорного вкусам рынка, у меня в доме собралась целая библиотечка таких книг. В масштабах Америки ее, верно, можно было бы счесть очень солидной. Но русские эмигранты, как погорельцы, вообще склонны хранить хлам. Порой, листая на ночь тот или другой том, я с удивлением обнаруживаю (как специалист у дилетанта) какой-нибудь ловкий ход, ритм, даже очерк чувств, мне слишком понятных, хотя вряд ли известных самому автору. Правда, как раз Бирс, может быть, кое-что пережил и сам. Что до Лавкрафта, то один прием составляет всю суть его литературной удачи и основу манеры – трюк, заимствованный затем у него сворой деятелей этого жанра, но даже и после того не потерявший игривой способности отразить более или менее верно зыбкость любого кошмара на фоне скучных дел дня. «Оно (признание) было невероятным, – пишет Лавкрафт (перевод мой), – но в тот час я поверил ему безоговорочно. Не знаю, верю ли ему теперь» – вот формула этого тропа. Назовем его «эндоастос» (сомнение) и запомним его.
Ира приехала утром. Я сразу проснулся – она стучала в дверь, – но уже было поздно. Я побежал к двери, шлепая ногами по полу. Ее рассмешило, что я в одной рубашке, без трусов: «как девчонка». Весь дом сразу наполнился ею. Она отдергивала шторы в гостиной, солнце золотило пыль под столом, дед спешил с animal farm (двор для кур), а я пытался понять, было ли вправду то, что я видел ночью.
– Ты спал один? В доме? – спросила вдруг Ира, странно на меня взглянув. Мы вышли в прихожую. Медный «жук» для съема сапог высовывал толстые усы свои из-под стойки с обувью. Эндоастос заставил меня покраснеть. Я смотрел косо вниз, на «жука». Дед, войдя в дом, избавил меня от вопроса. Они с Ирой мельком поцеловались. Уже через пять минут он хмурился и вновь ворчал себе под нос, ожидая от Иры проказ, недовольный и тем, что она сама, без спроса, накрыла стол к завтраку, захватив с огорода столько зелени, сколько попало ей в руки, – что, впрочем, было кстати, ибо мы тотчас съели все, от чеснока до салата, с яичницей, запеченной по-украински в сале… День был жаркий, недвижный. Ира ушла на реку курить. Я плелся сзади, подавленный сомнениями, которые не покидали меня вопреки бесспорному знанию (с которым я все же пытался в душе спорить), что это был не сон. Но было странно знать также и то, что это – правда.
Это была давняя история. Сколько я помню, я никогда не боялся темноты. По вечерам, в отличие от племянника г-на де Галандо (ссылка: де Ренье), я не испытывал в своей комнате страха. К тому же спальня, где я проводил ночь, была самой обжитой для меня комнатой в доме деда. И все же именно с ней в нашей семье были связаны смутные слухи. Их я слышал не раз и прежде, но никогда вовсе не обращал на них внимания, так что теперь силился вспомнить, что же именно говорилось, между тем как спросить Иру – возможно, в силу ее слишком поспешного любопытства и чуть ли даже не догадки, тотчас, с порога, – я не мог. Лодка покачивалась на привязи. Я сел на корму, наблюдая совокупление двух мух. Кое-что как бы стало постепенно проясняться в моем уме.
Я знал, что моя мать, как и я, с детства жила в той же комнате. Тахта – не та, что теперь, но тоже большая и в том же месте (как раз против дивана) – стояла там и тогда. На ней мать спала вдвоем с сестрой, моей теткой, матерью Иры. Нравы деревни не разлучали на ночь детей. О чем те шептались перед сном – Бог весть, но, думаю, именно от нее мать услыхала впервые, что в доме есть мара. Сестра была старше ее. Как-то она уехала по делам в Киев. Той же ночью дед прибежал на крик и нашел маму с головой под подушкой. Дрожа и плача, как и положено юной девушке, она рассказала, что видела в темноте привидение. Дед поднял ее на смех, но замолчал, услыхав о высокой женщине в белом платье с мережкой. Уилки ли Коллинз из сельской библиотеки, страстно прочитанный накануне и еще дремавший у изголовья, был тайным виновником кошмара, по крайней мере, костюмер его; существовали ли иные тайные причины (шепот сестры, ее уезд), – но, как бы то ни было, в ту давнюю ночь мать видела именно Женщину в Белом. И вот именно эта женщина в предрассветной тьме несколько часов назад беззвучно перешла порог моей спальни…
– Знаешь ли что? – сказала Ира, швырнув окурок точно меж двух кувшинок и потянувшись. – Ну и жара! На чердаке есть подсолнухи с прошлого года. Я хочу семечек. Пошли?
Я молча выбрался на кладки.
Чердак был запретной зоной, туда вела лестница из кладовой, ледяной, как погреб. На полках вдоль стен стояли кувшины, старые бутыли и фляжки зеленого и синего стекла – серого, впрочем, от пыли. Тут же были банки с маслом, с повидлом, с вареной смородиной и малиной. Дед болел редко и лекарствам из буфета предпочитал как раз их. В углах висел лук. Наконец, лестница упиралась в квадратный лаз с тяжелой квадратной крышкой, обитой по краям войлоком, которую стоило сил поднять. Свет едва пробивался на чердак сквозь два узких оконца, прикрытых к тому же с улицы ветками слив. Смотреть сквозь них нельзя было иначе, как только опустив надвижное стекло. Тут, в коричневой тьме, под скосами крыш, было и впрямь много такого, с чем шутки плохи: это действительно была «нэ гра». Тут был сундук с полным дедовским охотничьим снарядом, от пороха до шомполов, исключая только саму двустволку, висевшую над кроватью деда; другой сундук с ядами; запас сухого горючего; сифоны с керосином. Керосиновые лампы всех сортов – от домашних «приталенных», с узкой ножкой и шляпкой абажура поверх стекла, до переносного фонаря в клети из железной проволоки – стояли тут же строем, как взвод. Старые фитили показывали язык из своих щелей. Отдельно пылились съемные колбы. Ира не нашла подсолнухов, которые грезились ей (верно, по ошибке), и дернула меня за рукав прочь. Но я еще задержался на миг подле маленькой астролябии и безопасного во всех смыслах граммофона с утерянной давно иглой. Мы вернулись к реке.
Не могу вспомнить, когда я взял из сарая весла. Но хорошо помню зато сам сарай и теплую его темь, не чреватую выходом мертвых дам. Этот же мирный мрак был мне приятен, как понимаю теперь, и на чердаке. Я заглянул еще в клозет и после того был готов к плаванию.
Мы отчалили тотчас. Дно лодки прошуршало по ряске и окунулось в свежую воду русла. Я неторопливо греб. Почему-то с Ирой мы плавали всегда на став. Ветер был в спину, мы миновали изгиб, и «Плакучие Ивы» стали виднеться прямо по курсу. Ира смотрела через плечо, порой зачерпывая через борт пригоршней воду. Сейчас, в моем глухом уединении, посреди чужой суши, многое мне кажется необычным, и даже какую-то горечь нахожу я в душе, пытаясь вспомнить те свои первые взгляды, которые бросал тогда исподволь (как и всегда, впрочем) под сень ив, слишком густую, чтобы что-нибудь рассмотреть. Но тогда, в лодке посреди реки, залитой солнцем, никакой горечи во мне, разумеется, не было, хотя все равно я был уже хмур (ночь не прошла даром), так что Ира даже заметила вскользь:
– У тебя мрачный вид. Что-то случилось?
Я мотнул головой. Может быть, тогда впервые в жизни (потом мы это склонны забывать) я вдруг захотел одиночества. Позже я его хотел не раз. И потому-то я знаю, что нынешняя тишина моего жилища по вечерам, моя неуверенность перед книжной полкой, молчание телефона, по которому некуда позвонить, беспредметная боль в душе, особенно перед сном, а по утрам кофейня Люка – все это мой тайный выбор; ужимка воли, неуместность желаний. Или, может быть, просто ошибка ума.
– Смотри, – сказала Ира. – Там кто-то есть.
Мы плыли уже у «Плакучих Ив». Был полдень, зной. Река блестела под солнцем.
VII
Я как раз зацепил веслом ряску – «поймал краба», – лодку развернуло кормой к берегу, и мне пришлось оглянуться, чтобы увидеть мельком какое-то странное серое существо между прибрежных кустов, убегавшее, как мне показалось, со всей возможной прытью вглубь двора. Я не понял, что это было, но Ира вдруг поднялась на скамье и закричала громко, с пронзительным взвизгом в голосе, как у деревенской бабы, который вообще-то порой был свойствен ей:
– Тетя Глаша! А, тетя Глаша! Продай семечек! У тебя есть? Продай!
И тут я разглядел старуху.
Впрочем, конечно, не разглядел – этого успеть было нельзя, – а только увидел на миг, словно в старом альбоме иллюзий, где локоть девушки вдруг становится крючковатым носом, а ее волосы превращаются в шаль. Старуха обернулась к нам на ходу, но сразу юркнула в тень.
– Вот черт! – сказала Ира. – Придется идти к ней… Причаливай. – И поддернула сарафан.
Мне идти никуда не хотелось – отчасти и потому, что я узнал старуху. Это было нетрудно: в деревне все хорошо ее знали. Она была божевильной (сумасшедшей) и, кроме того, горькой пьяницей – до горячки. О причинах ее безумия мнения расходились. Одни говорили, что виной всему был самогон (им она торговала успешней, чем семечками), другие – старики – рассказывали, что в войну немцы расстреляли на ее глазах всю ее семью: мужа и детей, а ее изнасиловали. Мой дед говорил, что это брехня. При всем том жалости она ни в ком не вызывала, у детворы меньше всех. Правда, ее не дразнили, и хлопот у нее было больше со взрослыми: раз или два в год ее с шумом и воплями увозили в больницу. Но это ни к чему не вело, она вскоре вновь являлась на улицах, ни с кем не говоря, зато бормоча беспрестанно что-то себе под нос. Ходила она в мешке, как капуцин, перехваченном посредине поясом. Еще у нее была сумка, очень старая, с которой она наведывалась в магазины и – зачем-то – в лес. Для меня новостью было лишь то, что жила она, оказывается, в «Плакучих Ивах».
Впрочем, как тотчас же стало ясно, это было не совсем так. Мы прошли по едва видной тропке (я послушался Иру) в соседний двор, миновав обломки забора, давно сгнившего близ реки, и усадьба, таким образом, осталась сбоку. Двор был совсем маленький, узкий. На три четверти он порос бурьяном. Тень от ив не добиралась сюда, так что бурьян весь выгорел и пожух. Сейчас тут тоже был солнцепек. Единственное строение – белая мазанка размером с летнюю кухню – почти совсем развалилось, битые окна глядели мрачно, и из них, словно вата, вываливалась клоками пыль. Это было жилье старухи. Здесь, должно быть, она и варила свой самогон: подле крыльца лежали грудой бутыли. Совсем вросшая в землю собачья будка, давно, как видно, пустая, составляла все надворное хозяйство безумной. Сама она сидела тут же, на корточках, высоко задрав голые грязные колени и буравя нас взглядом. Можно было подумать, что так она сидит уже добрый час: она вовсе не двигалась. У нее были маленькие желтые глазки, как у мумии, и такие злобные, как у цепной собаки (не той ли, что жила прежде в будке?). Но в первый миг я вздрогнул и был поражен – глубоко, навсегда – видом ее настежь открытого паха, голого, с седыми прядками по бокам, огромного и, как мне тогда показалось, вздутого изнутри, который она отнюдь не думала прятать от нас. Ее мешок задрался почти под грудь. Рассказы деда вспомнились мне. Она между тем молчала, хотя Ира в десятый раз повторила ей свою просьбу. Наконец старуха шевельнулась.
– Полузгать? Семечек? Десять копиек, – сказала она басом, после чего легко поднялась, скрыв наконец свой ужасный пах, ушла в дом и вернулась с граненым стаканом в руке, полным, действительно, семечек. Ира дала ей монетку.
– Убогой, убогой надо дать, – забормотала быстро себе под нос старуха.
– Я уж дала, – сказала Ира.
– А он? – Старуха вдруг вперила в меня взгляд, так что я сразу вспотел.
– Пойдем, – сказала мне Ира. Но я не двигался, чувствуя слабость в ногах.
– Он тоже лузгает? Что? он лузгает? – бормотала меж тем старуха. – Он лузгает… лузгает… Тоську он лузгает! – вскрикнула вдруг она неестественно громко и, сев вновь на корточки, стала щелкать пальцами. – Тось-тось-тось! – быстро звала она так, как в деревне хозяева подзывают уток. – Тось-тось… ей заплатит… ей всё заплатит… – бормотала она как во сне. – Всё… Тось-тось… Всё… Будь проклят! – опять крикнула ведьма и с размаху швырнула в меня монетку. Потом подхватилась с прежней легкостью и улизнула в избу. Машинально я поднял несчастный гривенник. Не знаю, верю ли в это теперь, но тогда я ясно видел, что упал он орлом.
VIII
Моя жизнь у деда, когда мы оставались вдвоем, была всегда размеренной и спокойной. Утром, еще до завтрака, я шел на речку и принуждал себя окунуться на миг в ее студеную воду (она питалась, я знал, из подземных ключей, а потому редко бывала теплой). Затем, весь дрожа, в мурашках с головы до пят, я выбирался на кладки и приникал к горячим струганым доскам, подставляя спину солнцу. Тому же солнцу подставляла спину огромная черепаха, жившая в заводи и тоже выбиравшаяся погреться на кладки невдалеке от меня. Я никогда не задирал ее, и она, должно быть, скоро прониклась ко мне хладнокровным рептильим доверием, так что дремала, подняв мешковатые веки, после чего неспешно и гордо ползла боком назад, в свой затон. Короткий всплеск сопровождал ее уход, а к тому времени я и сам успевал высохнуть и проголодаться.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: