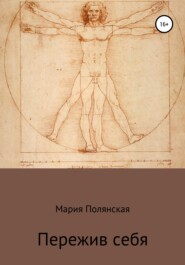скачать книгу бесплатно
Пережив себя
Мария Полянская
Это роман-исповедь о неправильной любви, которая выпала на долю героини, полностью изменив ее жизнь, и ради которой ей пришлось отказаться от прежней себя.
Мария Полянская
Пережив себя
I will survive…
Предисловие.
Этот дневник вела моя клиентка, Лара С., приходившая ко мне на сеансы психотерапии в течение двух лет. Лара обратилась ко мне по причине невозможности разрешить или принять сложившуюся в ее жизни ситуацию, перепробовав к тому моменту целый ряд тех или иных мер. Я встречалась с Ларой не чаще, чем раз в 3-4 месяца по ее собственной инициативе. За этот период Лара вплотную подошла к разрешению ситуации и осуществила задуманное. Однако выбранный ей способ повлек за собой определенные последствия для ее духовного и физического здоровья. С этим Лара вновь обратилась ко мне спустя некоторое время. Во время нашей последней встречи я порекомендовала Ларе вести дневник или писать письма, чтобы дать выход эмоциям и чувствам, загнанным вглубь ее тела и разрушающим ее физически. Через полгода Лара прислала мне эту рукопись по электронной почте. С тех пор я больше не видела свою клиентку, она не оставляла мне номера своего телефона, как я теперь полагаю, намеренно. Адрес, с которого пришла рукопись, ликвидирован, и я склонна думать, что все это – звенья одной цепи.
Я как профессионал не могу не признать, что Лара была мне интересна, в первую очередь, как моя клиентка, а уж далее – как конкретно взятый человек с его духовным миром. Однако не скрою, что за эти годы общения я увидела в ней не только иллюстрацию действия тех или иных законов человеческой психики, но и живого, страдающего, глубоко симпатичного мне лично человека. Поэтому мне, безусловно, хотелось бы знать, чем закончится эта история, и я публикую рукопись по просьбе Лары, высказанной ей в тексте электронного письма единственно потому, что надеюсь числить ее среди живых и здравствующих. Удачи и счастья вам, Лара!
Предисловие от Лары
Это новое предисловие – вынужденная мера вмешательства жизни текущей в жизнь пережитую, описанную, препарированную и очищенную. Я как психотерапевт, соавтор и издатель писем Лары, отнюдь не подозревала, что пока ее рукопись мало-помалу появляется на страницах всемирной паутины, Лара будет внимательно следить за тем, что происходит, из своего никому не известного далека, изредка вмешиваясь в процесс и корректируя написанное ей самой. Так, недавно я получила от нее текст с требованием дословно разместить его в качестве предисловия к ее рукописи, что я и делаю под ее весьма жестким нажимом.
Признаюсь, увидев свои посмертные письма на сияющем изнутри экране компьютера, я поняла, что история приняла новый оборот, высвечивая те детали, которые до настоящего времени оставались в надежной тени. Читая повесть собственных страданий, боли и слез, я, безусловно, испытывала новое переживание, но далеко не такое сильное, как то, которое охватывало меня в момент нанесения строчек на компьютерный лист. Я понимала, что это все это уже в какой-то степени не я, или не совсем я – потому что это я, пережившая что-то важное в себе, лишившаяся чего-то главного, изгнавшая из себя что-то определяющее, и потому почти что чужая самой себе, существующей в письмах.
Может, в этом и заключалась мудрость лечения – в том, чтобы я взглянула на себя со стороны, поняла, как я теперь бесконечно далека от себя тогда, ужаснулась глубине собственного падения и нашла в себе силы полюбить себя такую, какая я получилась, – не знаю. Осознаю лишь то, что мне еще по-прежнему больно, и пока эта боль не утихнет, я обречена писать и печатать, но уже и вполовину нет той ненависти и злобы, которая помогала мне преодолевать, как я думала, саму себя, а на самом деле – просто была нужна мне когда-то как засохшая корочка, закрывающая доступ к открытой ране. Как только рана начала затягиваться, корочка стала не нужна и отпала сама собой.
Или нет, или мне нужно еще счищать и счищать ее с огрубевшей души? Ведь я только сейчас понимаю, почему я не хочу говорить с тобой – ведь дело вовсе не в том, что мне не разрешает мой психотерапевт, мой соавтор и соиздатель, нет, все не так. Я действительно не могу говорить с тобой въяве – все, связанное с тобой не-героем моих писем, а реальным человеком из плоти и крови – еще по-прежнему живое, пульсирующее болью настоящее. Ты в письмах – уже мое прошлое, но стоит тебе возникнуть в моей теперешней жизни в трубке телефона или в потоке машин, как я тут же понимаю, что ты в жизни – отнюдь не прошлое. Смысл моей работы над ошибками, к которой я приговорена этими письмами, в том, чтобы оставить в прошлом все – боль, страдания, унижения, и того, кто их причинил, а это значит, и тебя тоже. Ты должен остаться в моем прошлом, только так я смогу пережить себя и остаться в живых. А это значит – для меня ты должен умереть там, в конце моей истории, которого я еще пока не вижу, но к которому стремлюсь. Это не значит, что я желаю твоей смерти, это значит, что для меня сегодня нет ничего страшнее живого покойника.
С другой стороны, я бы желала, чтобы реинкарнация была возможна, и я однажды, не сейчас, но когда-нибудь встретила бы кого-то, как ты, во всем, кроме нашего прошлого, кого-то абсолютно незнакомого, но такого родного, словно мы две половинки рассеченной ударом меча старинной монеты, которые были вручены двум братьям, отправившимся в дальние странствия. Встреча бы знаменовала, что мы – ты и я – завершили свои круги, узнали друг друга и готовы перевоплотиться во что-то новое, что означает, в конечном итоге, смерть сущего, и так до бесконечности…
Письмо 1. Слова и письма
Я каждый раз тебя люблю и умираю,
Я каждый раз тебя из сердца вырываю.
Я каждый раз тебя в душе своей топлю.
И все равно – люблю, люблю, люблю…
Я и раньше писала тебе письма, если помнишь. Можно сказать, что помимо романа в жизни у нас был роман в письмах, по сути, представлявший собой ровно такую же бездну непонимания, как и вся наша трагедия, но теперь это уже не важно. Я думала, что больше никогда в жизни не напишу тебе ни строчки, не скажу ни слова, не отправлю ни единой смски, и так оно и будет. Я делаю это только ради доктора, которая считает, что «так будет лучше». Во всяком случае, ты никогда в жизни не прочтешь этих писем, потому что я пишу их не для тебя, а для себя.
Так вот, вернемся к тому, что я писала тебе письма. У меня до сих пор хранится объемный файл, в котором, словно в колодце днем, плещется темное и грозное ночное небо. Раньше, пока мы были еще вместе, я боялась его перечитывать, потому что каждая строчка сочилась живой и алой кровью, и, читая ровные и четкие компьютерные знаки, я всякий раз заново проживала свою боль и обиду. Согласись, что это невыносимо – вновь и вновь смотреть в театре трагедию собственной неудавшейся любви и жизни. Я и не смотрела, а старательно копировала все новые и новые потоки слов и знаков. До тех пор, пока однажды не перечитала все написанное за несколько лет и не ужаснулась. Это был бред сумасшедшего, с маниакальным упорством пляшущего вокруг одних и тех же камней, о которые этот несчастный все вновь и вновь разбивал себе голову. Иными словами, много лет я писала тебе письма об одном и том же. Много лет я кликушествовала, словно пророк в пустыне. Много лет я болела одной и той же болезнью и описывала одни и те симптомы. И ровно столько же лет ты меня не слышал и не слушал. И ровно столько же лет ты отрицал самое меня, и поносил меня, и упрекал меня за то, что я была сама собой. И ровно столько же лет ты не понимал меня и не считал нужным даже попытаться это сделать. Ты тоже ходил по кругу все эти годы. Зачем же я писала все эти письма?
Я точно знаю, зачем я писала их тогда. Мы стали глухими и слепыми от той долгой и мучительной болезни, которой болели много лет. Иначе нельзя назвать те отношения рабской физической и духовной зависимости друг от друга, которые мы смогли разорвать лишь недавно, да и то ценой собственных жертв и благодаря манипуляциям тех, кто все это время смотрел на нас трезвым и рациональным взглядом. Мы были больны, мы отчаянно нуждались друг в друге, но лишь на одну краткую минуту соития мы становились одним целым, ты помнишь, я называла это природнением, но стоило объятиям разомкнуться, как мы тут же ожесточенно нападали друг на друга. И тогда словам не было места в борьбе за право быть услышанной и понятой – с моей стороны и право истолковывать и судить – с твоей. Это была борьба на выживание, вот только я не знаю, кто из нас по-настоящему выжил.
Но так было не всегда. Болезнь ведь не наступает внезапно – она подкрадывается, она стелется, она наступает, она завоевывает, она овладевает, и потом наступает точка невозврата. Жаль, что мы ее прошли, хотя может быть, так было суждено с самого начала? Ведь когда-то мы часами говорили обо всем и везде – в постели, по телефону, на работе, дома и на улице. И тогда каждое слово весило ровно столько, сколько надо и ни граммом меньше, и тогда каждое слово было просто одним смыслом, и никто не искал в нем второго и третьего дна, и тогда каждое слово было Бог и Любовь.
Ты же знаешь, что слова – моя профессиональная стихия. Я их люблю, собираю, шлифую, тасую в колоды текстов, складываю в схроны, оправляю как драгоценные камни, заменяю ими реальную жизнь. Я всегда верила в то, что говорила сама и в то, что слышала. Я считала абсурдной саму идею о том, что у каждого из нас собственный язык, ибо каждый вкладывает в слово собственные смыслы. Едины лишь понятия, но они существуют вне языка, в голове, а мысль воплощенная, как известно, есть ложь. Как же я ошибалась, но это стало понятно лишь тогда, когда мы с тобой открыли рот не для поцелуя. И каждое слово, сказанное мной, оказалось ложь, прах и тлен для тебя, и за каждое слово, вырвавшееся из моего рта, словно облачко пара в морозный день, ты судил и казнил меня, хотя я ничего об этом не знала. Я пребывала в убеждении, что два человека, любящих друг друга столь же безмерно как мы, не могут не понимать друг друга, потому что в основе всего, что они думают и изрекают, лежит любовь. Но для тебя любовь была отдельно, а я и мое прошлое, мое настоящее и даже будущее – отдельно, и одно никак не оправдывало другое. Я говорила, рассказывала, плела истории, а ты слушал и раскладывал их по папочкам – это для одного судебного заседания, это для другого, этим можно смягчить приговор, а это потянет на отягчающее обстоятельство. Я открывала тебе самое сокровенное в своей жизни, а ты подшивал мои исповеди к делу – делу о недостойном, о грязном, о порочном, о низком в человеке, в женщине и во мне. Я думала, что никто и никогда не понимал меня лучше тебя, но я ошиблась ровно на 180 градусов – никто и никогда не понимал меня так чудовищно неправильно. Словно глаголы и существительные вдруг взбунтовались против меня и стали жить своей отличной от всех и понятной только тебе жизнью, словно определения и обстоятельства вдруг вывернулись наизнанку и стали означать нечто противоположное самим себе – назло мне. Я говорила и чувствовала, что каждым новым словом все множу и множу непонимание, и ты кричал на меня, что не желаешь слушать мои объяснения. Ведь тебе, уже знавшему истинную цену собственным словам, не были нужны мои версии.
Я все-таки нащупала нужное слово – версии. У нас с тобой были разные версии одних и тех же слов и их смыслов. Наши версии никогда не совпадали, последнее время – даже на долю процента. Они были несовместимы, словно разные операционные системы – одни и те же события выглядели в них по-разному. Теперь я думаю, что мы сами представляем собой разные версии неких операционных систем – поэтому нам так и не удалось совместить ни одного файла. Ты понимаешь, о чем я говорю, не правда ли?
Но вернемся к словам. Мои слова причиняли боль тебе, твои – ранили меня в самое сердце, так имело ли смысл вливать яд в уши друг другу? Письма стали для меня отдушиной, возможность сказать тебе что-либо прямо в душу, а не в голову, как бы кощунственно это ни звучало. Когда я писала письмо, я думала, творила и любила одновременно, я разговаривала с тобой без грубости, обиды и раздражения, я словно слышала, как ты читаешь его у меня за плечом. Я тщательно подбирала слова, я подолгу правила текст, словно это был роман, а не попытка оправдаться, объясниться, достучаться, спастись и спасти самой. В письмах я общалась с тобой по-настоящему: я говорила, а ты слушал, потом ты отвечал, а я подхватывала, и мы приходили к чему близкому и общему, ведь у этих слов неслучайно один корень. Общение это то, что позволяет достичь компромисса, согласия, умиротворения. Нам с тобой так этого не хватало в жизни реальной, и я надеялась восполнить это в письмах.
Ты уничтожал мои послания в почтовом ящике, ты отправлял их обратно с припиской, что не читал, ты чувствовал себя оскорбленным уже потому, что вместо диалога я предпочитала монолог как единственно возможный жанр. Ты обвинял меня в неумении слушать, в неумении вести разговор, в неумении уважать собеседника и во многом другом, что было для меня по меньшей мере странно – ведь я и язык были с детства одно целое, и никогда еще я не слышала от других людей о том, что со мной невозможно вести беседу. Позже я поняла, что беседа возможна, но не с тобой. С тобой общение – это бурный поток реки, в котором остается только плыть по течению. Стоит выпрямиться во весь рост, попробовать сделать шаг против течения, как тебя опрокидывает, переворачивает и со всей силы бьет о скрытые под водой камни. Синяки и раны, причиненные за эти годы, даже не успевали заживать на теле и в душе… А поток все нес и нес меня за собой.
Но теперь я выбралась из потока и, сидя на берегу, залечиваю раны. И пока они болят, я сушу волосы и пишу тебе письма, и кладу их в бутылку, чтобы потом вернуть их потоку. Тому самому, в который, к счастью, нельзя войти дважды.
Письмо 2. Город и время
Когда-то это был для меня просто город – место обитания. Когда-то именно из этого города я уехала в другой Город, жизнь в котором оставила на мне несмываемый след. Я всегда чувствовала тот, второй Город, как особое, мне предназначенное место, хотя провела там всего несколько лет – ничто в сравнении с теперешней вечностью. Но после нашей встречи мой первый город перестал быть безликой, трудно ворочающейся массой зданий, памятников, машин, фонарей, ресторанов, людей. Город стал для меня местом и временем наших встреч. Каждая из них отпечаталась в мозгу словно живая, из многих встреч сложились маршруты, из маршрутов – традиции и обычаи. Теперь я знаю – в этом городе практически нет района, где мы не встречались друг с другом – не занимались любовью, не обнимались, не сидели в ресторане, не гуляли, не ссорились, не дрались, не расставались – в конце концов.
У Яндекса своя карта города, а у меня своя. Сегодня я мысленно путешествую по своей собственной карте моего города.
Начну с северо-запада, расположенного вокруг двух толстых набухших вен проспектов. Здесь – начало всего, здесь я впервые в жизни потеряла голову, стыд, совесть и пропала, на долгие годы попав в плен не только твоего, но и своего собственного чувства. Проезжая мимо безликих офисных зданий, я всегда дрожу, потому что вспоминаю легкий падающий снег, тут же тающий на горячем стекле машины, и запоздалое ощущение опасности – одна фраза, сказанная тобой – я знаю, что потом будет очень плохо.
Тогда я не думала, что это потом когда-либо наступит. Тогда я не думала, что это потом будет таким ужасным. Тогда я вообще не думала, потому что чувствовала – после многих лет сравнительно спокойной и организованной жизни я чувствовала, что внутри меня оживает нечто давно забытое и похороненное – выползает любовь, просыпается желание, ворочается ревность. Все это казалось мне далеким и более ненужным прошлым, пережитком молодости, привилегией неопытности и платой за невинность. Я была уверена, что это уже давно прошло, как детская заразная болезнь или первое неумелое похмелье. Но именно там, под тихим и теплым падающим снегом, я поняла, что ошиблась. Я только не сумела оценить чудовищные размеры этой ошибки. И всякий раз, когда на лицо падает снег, я снова слышу про потом, и осознаю, что потом – это уже сейчас.
Неподалеку от этого места есть небольшой, вечно грязный перекресток, где безостановочно ползут большие грузовики и подпрыгивают на рельсах замотанные легковушки. И это место ничем не примечательно, кроме одного момента – однажды ты вышел из машины, пока мы стояли в пробке, постучал в боковое стекло, я открыла, а ты вдруг поцеловал меня и тут же убежал, потому что поток стронулся с места, загудел возмущенно клаксонами. Я не успела ответить тебе тем же, но до смерти буду помнить широко раскрытые счастливые глаза и нежные мягкие губы. Это был один из первых поцелуев любви – не близости, не желания, не примирения, не ненависти – все эти поцелуи у нас еще впереди, и несть им числа. Это был один из немногих поцелуев любви – чистой, тихой и нежной, не связывающей и не обременяющей, не требующей и не осуждающей, простой, безыскусной, безусловной любви. Боюсь, что больше их не было…
Неприметный дворик там же, на северо-западе. Мы провели в нем долгие часы нашей совместной жизни. Когда-то я говорила тебе, что я больше, чем жена, и это безмерно раздражало тебя. Но посуди сам – последние годы мы прожили друг с другом гораздо больше времени, чем дома, если вычесть ни к чему не обязывающий ночной сон-забытье, в котором каждый из нас все равно оставался одиноким. Так что я, как всегда, права – мы жили с тобой все это долгое время, пусть плохо и недружно, но жили, и это была очень насыщенная жизнь, выпадающая далеко не каждому, жизнь на грани любви и смерти, жизнь за гранью добра и лжи, жизнь вне законов общества и морали, жизнь на вынос, жизнь на слом. В этом самом дворе я задыхалась от боли и непонимания, от счастья и обиды, от стыда и отчаяния. В этом самом дворе, спустя 2 недели после начала задержки, я показывала тебе тест с отрицательным результатом. Еще не зная, почему ты требуешь предъявить вещественное доказательство, и в то же самое время, подозревая меня в беременности, обращаешься со мной нечеловечески грубо. Еще не понимая, что у тебя свое понимание ласки и заботы, а у меня свое, и они нигде не пересекаются, словно параллельные линии в евклидовой геометрии.
Много времени спустя ты признаешься мне, что в тот месяц протыкал презервативы иголками, потому и требовал от меня двух полосок. Ты думаешь, я обиделась на тебя за обман – ничего подобного. Я всегда жалела, что сама не сделала этого раньше, ожидая, пока бог из машины решит наши проблемы. Но бога нет, и однажды я взяла его функцию на себя. Оказалось, бог есть, и он все видит – нам с тобой так и не было суждено зачать ребенка – ни обманом, ни честным образом, ни вопреки, ни благодаря…
Хорошо, что это место перестроили – мне было бы больно знать, что оно еще существует, когда нас уже нет.
Однажды мы долго путешествовали по набережной реки на север города в поисках уединения. Стоял рабочий полдень, и везде были люди. Ты нервничал, я переживала, мы проехали почти до окраин, пока вдруг не увидели огромный пустырь и свалку, а рядом – красивое лесное озеро. Все это был город, и в то же время вокруг случайным образом не оказалось ни души, словно мы были Адам и Ева. Мы уже таяли в руках друг друга, как вдруг сзади послышался рев заводящегося мотора – это был экскаватор, приступающий к работе. Проезжая мимо нас, он замедлил ход – трудно было бы недооценить столь волнующее зрелище. И в этот момент я осознала, что вокруг не лесное озеро, и не уединенный уголок, а загаженный пожарный пруд и свалка, и это – метафора наших отношений, воочию представленная мне будто нарочно. То, что казалось таким святым и чистым, в глазах экскаваторщика было самой грязью, но вокруг нас любой понял бы именно экскаваторщика. Пришло время, и ты сам стал тем экскаваторщиком.
Изо всех городских дорог я больше всего не люблю новое кольцо и тот сектор, что связывает юго-восток и юго-запад города. Когда едешь по внутренней стороне кольца, по правую руку находится очень бодрое и зеленое в теплое время года кладбище. Я вижу его с противоположной стороны кольца и почему-то живо представляю себе по-американски жизнеутверждающие похороны – все в черном, играет музыка, люди печальны и прекрасны. Ужас только в одном – кладбище и та, могила, куда хоронят то ли меня, то ли кого-то из близких мне людей, расположено на пригорке, чуть выше кольца, и все проносящиеся мимо машины притормаживают, чтобы в красках и деталях насладиться оптимистической трагедией чужой смерти. Все мы, пришедшие скорбеть, словно стоим на арене цирка, а толпа ревом приветствует нас. Ave Caesar, morituri te salutant! И я, и мое горе, и мое платье, и даже отношения с покойным (пусть и неизвестно кем) – все напоказ. Но скорость кольца велика, и водители в машинах видят картинку смазанной, без особых оттенков и выражений, и у них нет времени, чтобы давать происходящему эстетическую оценку – они просто смакуют вид целиком и радуются тому, что они на своем месте, а мы – с покойником, разумеется, – на своем. Так и проходила наша жизнь – на виду у всех, кто нас окружал (или почти у всех, ибо всегда есть люди, для которых тайное становится явным в самую последнюю очередь). Мы рыдали, ругались, калечили друг друга, а наблюдающим со стороны это казалось прекрасным, богатым чувством, мы жили в застенках друг у друга, а со стороны это представлялось тихим раем, мы бились о скалы, а для проезжих туристов это было самое романтичное место… Конечно, нам говорили, что это опасно, но ни одна живая душа не предупредила нас, что война это не эстетично, что это грязно, что это страшно, что это заканчивается кровью, слезами и сепсисом, а потом, как водится, – ампутацией. И, как часто бывает на войне, внеплановую операцию делают без наркоза.
У меня есть несколько мест, чье приближение до сих пор заставляет мое сердце биться чаще. Не от счастья, поверь. Это страшные места, это даже не кладбища, это концлагеря, в которых я была заключенной. Надо заметить, добровольной заключенной. Дальний юго-восток города, пустынные диковатые улицы, странные дороги, неизвестно почему сохранившиеся лесопарки, возникающие из ниоткуда стражи порядки, не раз ловившие нас посреди самого сокровенного, – такова моя личная территория концлагеря, где в любой момент могло произойти все, что угодно. Ты мог часами разговаривать со мной сквозь зубы, после чего я в отчаянии абсолютно голой выскакивала на дорогу и бежала сквозь страшный ночной лес по колючему снегу. Ты мог самозабвенно ругаться со мной, я шла пешком по пустынному шоссе, ты догонял меня, все начиналось сначала и заканчивалось безобразной сценой полудраки, после чего я в беспамятстве летела обратно по мокрому и скользкому асфальту кольца, тайно желая, чтобы слезы застлали мне глаза настолько, чтобы я однажды улетела прямо в небо. Я звонила тебе с дороги, я рыдала в трубку от невыносимой боли – боли непонимания, самой страшной и неизбывной боли, которая только может быть, ведь в отличие от боли неразделенной любви эта боль не проходит никогда и с каждым разом поднимается на все новые и новые высоты.
Другое такое место лежит за границами города и по площади равно какой-нибудь маленькой европейской стране. Но для меня это та же зона, какой она была для сталкера в фильме Тарковского или романе братьев Стругацких. Прекрасное своей неухоженностью, заброшенностью, неприкаянностью и непредсказуемостью место, где ты обречен ходить кругами, каждую минуту опасаясь подвоха – взрыва, выстрела в спину, незваного гостя, липкого прикосновения смертельной паутины и откуда не можешь выйти по своей воле, пока не исполнишь то, ради чего появился здесь. Неприветливые леса, вечно раскисшие от дождей поля, грязные дороги, серые люди, все кажется мне теперь нереальным, а ведь именно здесь я, нет, мы прожили последние несколько лет. И каждая точка на карте, даже поставленная случайно, означает в нашем случае какой-то день, какое-то место, какое-то событие. Не могу вспомнить ничего, чтобы вызвало у меня смех или хотя бы улыбку – словно вся эта огромная территория – зона моей скорби. Помню только ссоры, обиды, боль, сожаления и слезы, как будто все это время я блуждала если не по аду, то уж точно по чистилищу.
Еще одно точное слово вырвалось у меня опять-таки не случайно. Это место было моим личным чистилищем, но кто приговорил меня или точнее нас к нему, кто выбрал эту мрачную серую дорогу, по которой мы неслись в разные концы города и обратно, кто назначил нам это место вечной ссылки? Ведь мы могли купаться под горячим южным солнцем, любить друг друга на чистом альпийском снегу, греться у пламени камина, плакать над пьесами Шекспира, замирать от восторга при звуках музыки, но всего этого мы были лишены – и по чьей же доброй или злой воле? Может быть, всевидящий бог наказал нас так жестоко за то, что мы жили во лжи и обмане, крали чужое счастье и калечили своих близких? Да нет же, это ты приговорил нас к бессрочной каторге-чистилищу, рассудив так – раз мы не можем достичь идеала, значит, мы обязаны быть наказаны и должны страдать, пока не покаемся и не сделаем так, как надо. Ты сам выбрал такой путь для себя, мне ничего не пришлось выбирать – я была изгнана из рая тобой и вместе с тобой по твоей же воле. Ты посчитал, что именно по моей вине мы не можем быть вместе, поэтому присудил мне жизнь, полную страданий и лишений – суровые, неласковые встречи, холод и неудобство, болезни и ссоры, а в промежутках между ними – крохотные прогалы счастья и абсолютного растворения друг в друге.
Ты был суров – ты сделал все, чтобы я каждую секунду ощущала себя виноватой, ты постоянно говорил мне об этом, напоминал, настаивал, упрекал, словом, поступал так, как вела себя мать из одной английской сказки, прочтенной мной в детстве. У нее было двое прекрасных детей, сама же она была красавицей, по воле злого колдуна превращенной в уродливую горбунью, которой колдун наказал жестоко обращаться с детьми, иначе они умрут. И несчастная мать пинала, и била, и ругала детей почем зря, но они узнали страшный секрет и убили чародея, поднявшись на вершину холма, а когда спустились вниз, то не узнали свою мать – их встретила добрая, прекрасная женщина, с глазами, полными слез. Она попросила у детей прощения за все зло, которое причинила им, будучи злой горбуньей, и дети простили ее и жили бы долго и счастливо, но мать раньше времени сошла в могилу, видимо, не в силах пережить своего прошлого. Я часто рассказывала тебе эту сказку, ты молчал, я же в глубине души надеялась, что твоя жестокость и бессердечие ко мне – те же страшные чары, наложенные самим тобой. Но стоит чарам спасть, как ты все поймешь, и я увижу прекрасного и доброго человека, застенчиво поцеловавшего меня на переезде. Но время шло, а чары, наложенные тобой, становились все изощреннее, проникали в твою душу, и я уже не смогла бы отличить, где ты, а где – злая воля колдуна. Вы стали одним целым, и я поняла, что ты так и будешь бить и пинать меня, несмотря на свою любовь ко мне, а я больше не смогу верить в то, что это чувство и вправду существует.
Зона – это не только место, но и время. У меня иногда складывалось впечатление, что вся наша жизнь проходила ночью – в темное, серое, унылое время суток – либо ранние утренние часы, либо поздние вечера, вот и все, что у нас было. И время было под стать месту – такое же бесцветное, безликое, как будто сама природа ставила перед нами фильм в сепии, лишая нас красок и цветов, высасывая из нас остатки жизни. Мы словно вращались по кругу диаметром несколько сот километров в безрадостном электрическом освещении, в то время, как стоило нам слезть с карусели, и мы бы увидели совершенно иной мир. Но мы каждый день, словно заключенные на работу, ходили на одни и те же черно-белые сломанные аттракционы с выжившим из ума смотрителем, который вновь и вновь запускал карусель, и мы кружились, кружились, кружились…
Почему никто из нас не покинул зону добровольно, не прервал безрадостный путь по кругам чистилища, неужели чувство, которое мы испытывали друг к другу, а потом и его отрыжка – привычка, было для нас сильнее инстинкта самосохранения, ужаснее страха потерять близких, мучительнее боли и унижения, страшнее отчаяния одиночества? Или это было сродни наркотическому опьянению мозга, когда краткий миг удовольствия или даже иллюзорная надежда его достичь заставляет больного преодолевать мучительный и опасный трип?
Наша последняя встреча произошла в этой же самой зоне, где мы бессчетное количество раз ссорились и мирились, били друга под дых и обнимали до хруста костей, тонули в грязи обвинений и признавались в вечной и чистой любви, кричали и молчали, умирали и возрождались. Но тот раз был самим смотрителем-богом предназначен стать последним.
За полгода до этого момента я написала пророческие стихи, еще не зная, что они станут последними в своем ряду:
Я предложила все начать сначала,
Я предложила прошлое забыть.
Ты на меня кричал, а я молчала,
Не в силах больше за двоих любить.
Я предложила все начать сначала,
Я предложила – с чистого листа.
Ты упрекал, а я опять молчала,
Не в силах осознать, что – пустота.
Я предложила все начать сначала,
Я предложила просто, чтоб начать.
Но ты молчал, и я теперь молчала.
У нас так много времени молчать.
Так однажды заканчивается любое место и любое время, и с этим концом для меня умерло еще много других мест – набережные реки, прямые и длинные шоссе, заброшенные церкви, лесные тропки, придорожные забегаловки, словом, целый мир, совершенно не связанный с тем местом и временем, в котором я обитаю сейчас. Это словно параллельная реальность, и она была ею все эти годы, и ты, и мы оба – тоже были ею. Сейчас, минуя эти места, я думаю о них как о том, втором Городе, который и был и не был в моей жизни. Придет время, и я точно так же буду думать о тебе – о том, как ты и был, и не был. Но пока это время еще не пришло, и вторая реальность мучительно вторгается в меня всякий раз, возникая за стеклом автомобиля, и я понимаю, что ни город, ни время для меня еще не закончились. А жаль.
Письмо 3. Вина и беда
Я сделала свой выбор – однажды и навсегда, как я тогда думала, в радости и в горести, в болезни и в здравии, но навсегда. Я вышла замуж и родила ребенка, чтобы он был счастлив со мной и со своим отцом. Моя вина лишь в том, что я никогда не любила так, как любила тебя, но это же и моя беда. Я испытывала нежность, благодарность, временами влечение, потом дружбу, но никогда – страстную, тяжелую, ослепляющую разум и завораживающую тело – любовь. Даже теперь, когда нас нет, когда я, подобно лису Домино из рассказа американского натуралиста, отгрызла себе ногу, попавшую в капкан, иначе говоря, ампутировала живое, трепещущее тело любви ради того, чтобы остаться в уме и целостности, так вот, даже теперь, эта любовь еще не умерла. Любовь тела еще живет в моих клетках, тогда как любовь души уже примирилась с потерей. Как говорят медики, есть органы, потеря которых не означает смерть, и они с легкостью советуют удалить то, что болит и угрожает заражением. Я долго не прислушивалась к этим советам, более того, считала, что это грех – уничтожать божий дар любви, чувство, соединяющее двух людей в единое целое, пусть и такое непростое, непрямое, как наше, но все равно – непостижимое, неповторимое, светлое и потому – святое. Ты считал иначе, ты видел не божий дар, а мою вину.
Но начнем по порядку. Мы были взрослыми людьми, несущими ответственность за свои поступки, но мы были и неразумными детьми, романтичными влюбленными, пастухом и пастушкой, одними на всем белом свете. И стоило нам разомкнуть объятия, как в права вступал окружающий мир, и он не был нежен с нами. Он напоминал нам о том, что мы не свободны, что рядом с нами есть люди, слепо доверяющие нам и всецело зависящие от нас, что у нас есть дети, а у них – родители, и так до бесконечности тянулась цепь привязанностей и обязанностей, словно гири, висящие на ногах. Но именно благодаря им мы оба прочно стояли на земле, во всяком случае, нам так казалось. Я понимала это всегда, осознавала это всякую минуту нашего существования и потому всегда говорила тебе, что мой жизненный выбор сделан. Сделан не в пользу лучшего или сильнейшего или богатейшего – сделан в пользу того, кто является лучшим отцом своему собственному ребенку. И это была та черта, которую я так и не смогла переступить. И это стала та черта, за которой я превратилась из любимой женщины в эгоистичное чудовище, из нежной возлюбленной – в расчетливую самку, из святой на пьедестале – в похотливую суку и шлюху. Словно в один момент в глаза тебе попал кусочек зеркала тролля из сказки про Снежную королеву, и ты все увидел в совершенно ином свете. Я стала вместилищем греха, виновницей всех наших несчастий и лишений, потому что выбрала не тебя. И напрасно я объясняла тебе, что выбор мой был сделан задолго до твоего появления в моей жизни, когда впервые зародилась во мне крохотная новая жизнь, пришедшая к нам издалека, все напрасно. Для тебя, в кривом зеркале, все было не так – была расчетливая, эгоистичная человеческая дрянь, упрямо желающая усидеть на двух стульях, ласковое и мерзкое теля, сосущее изо всех видимых вокруг маток, умелый и беспринципный манипулятор на чужой любви, дешевая бессердечная актрисуля, играющая спектакль любви и страсти дома и не дома, похотливая и лживая сучонка, ложащаяся под всех и каждого, одним словом, монстр, чудовищная женщина-вамп, уничтожающая, подобно саранче, все на своем пути. И лишь когда слезы боли и отчаяния застилали твои глаза, кусочек ледяного зеркала в глазу таял, и ты видел мир и меня таким, каким он был на самом деле. И тогда моя вина оборачивалась тем, чем она была изначально, – моей бедой. Я была глубоко несчастна – в том, что любила одного человека, а жила с другим, хотела ребенка от любимого, но не могла осиротить рожденного от нелюбимого, жила во лжи, а мечтала быть верной и чистой, обманывала невиновных и крала у обездоленных, но прежде всего – уничтожала сама себя, по капельке, по крупинке теряя то, чем я была до нашей встречи. День за днем я теряла дар слова, дар памяти, дар спокойствия, дар разума, превращаясь в то, в чем ты меня обвинял – в загнанную в угол озлобившуюся, отчаявшуюся крысу, готовую вцепиться без всякого предупреждения в любую протянутую руку. Со временем так и происходило – стоило тебе даже обратиться ко мне с ласковым словом, как я измученной спиной чуяла в нем подвох, злой и недобрый, и тут же кусала в ответ. Послушай притчу, недавно пришедшую мне на ум.
Однажды огрубевшему сердцем страннику, обошедшему полмира, встретилась на дороге девочка, полюбившая его всем сердцем. И странник впервые в жизни принял ее всей душой, и первое время они были несказанно счастливы. Однако страннику, привыкшему брать от жизни и от дороги все, было мало любви, он хотел большего – оторвать девочку от дома, от теплого очага, от семьи, он хотел ее всю, без ее прошлого, настоящего и будущего, без ее близких и родных, друзей и привычек, он хотел стать ей всем в одном лице – и матерью, и отцом, и ребенком и мужем. Но девочка колебалась, и тогда странник обвинил ее в том, что она недостаточно любит его. Он хотел увезти ее в далекий неласковый край, на границу с чуждыми племенами, он хотел ходить на тот берег и торговать запрещенным товаром, и он хотел, чтобы она ждала его каждый день дома, качая его дочь в колыбели. Девочка без памяти любила странника, но не могла покинуть отчий дом и родную деревню. Не могла она и расстаться с тем, кого любила. И тогда странник остался с ней, потому что и сам любил ее всем сердцем, но каждый день обвинял ее в том, чего она не сделала ради него, и она ползала в пыли у его ног, вымаливая прощение. В хижине, где они жили, он не сделал очага и не постлал постели, поэтому она изнывала от холода и неудобства. Он не приносил в дом еду и не одевал ее, и она мучилась от голода, унижения и побоев. Однако она любила его и терпела все, что он считал нужным. Каждый день девочка просыпалась с мыслью о том, что сегодня она соберет вещи и скажет страннику, что готова идти за ним на край света и даже дальше, но каждый день она оставалась и покорно терпела обвинения и издевательства, и ждала наступления ночи, когда странник терял разум и доверялся чувствам, и тогда они любили друг друга, чтобы утром начать с новых обвинений и ругательств. И так продолжалось много лет, девочка превратилась в сварливую, угрюмую женщину, и было пусто и неуютно в их доме, где не слышался детский смех, потому что странник не хотел заводить детей, пока они жили в деревне, а не там, где им, по его мнению, следовало бы находиться. Много раз они расходились, а потом сходились снова, чтобы сцепиться в смертельной драке, и когда-нибудь убили бы друг друга, пока однажды девочка не взглянула в речную воду и не увидела себя – обрюзгшую, с презрительными складками вокруг рта, с бугристыми руками, с перекошенной поясницей, с усохшими пустыми грудями, изношенную старуху, и тогда она поняла, что случилось с ними и их любовью, и кинулась в воду реки, чтобы покончить смертью с тем, с чем не смогла покончить своей жизнью… я думаю, ты меня понял.
Когда-то ты сказал мне – я буду всем тем, в чем ты меня обвиняешь. Нет, это не совсем так. Ни ты, ни я не превратились в тех чудовищ, которыми представлялись в глазах друг друга, но какая-то часть чужой маски приросла к нашим лицам. Мы изменились, мы не приняли вину на себя, но стали жить так, словно были виноваты. Сейчас я пишу о себе, но подозреваю, что и тебе знакомо это чувство превращения – из нежного, любящего существа в холодное, получающее удовольствие от чужих страданий насекомое. Чем страшнее и обильнее были обвинения, тем ниже опускалась моя голова, тем больше сгибалась моя спина, тем суше и мертвее становились мои внутренности, я чувствовала себя бесконечно виноватой, проклятой, недостойной, бесплодной, наконец. И самое ужасное, я ей и стала. Мне даже страшно подумать, во что же превратился ты….
Любая вина ведет к смерти, если она не ведет к покаянию. Ты обвинял меня в том, в чем я не считала нужным каяться, и я сначала молчала, потом огрызалась, потом стала обвинять в ответ, и ты был так же далек от покаяния, как прокурор от оправдательного приговора. И это стало моей дорогой к самоуничтожению. Будь я даже вполовину тем, что слышала от тебя, я уже была бы достойна смерти, что уже говорить о всей моей жизни. Да, я не признавала себя грешницей, но в душе сознавала, что виновна во всем остальном – во лжи, в обмане, в двоемужестве, в дурных мыслях и плохих словах, во многом том, что ты справедливо считал не вполне достойным твоего идеала.
Опять прозвучало нужное и далеко не случайное слово – идеал. Ты искал в отношениях идеальную женщину, женщину, возведенную на пьедестал, вознесенную на немыслимую высоту. Найдя ее, ты бы пал ниц и молился на нее, говорил ты, с сожалением замечая во мне каждый день все новые и новые изъяны, отдаляющие меня от идеала. Ты был готов ждать ее вечно, но когда понял, что ее не существует в природе, решил, что есть возможность подогнать меня под нее, как костюм по росту. Тебе казалось, что я с радостью возлягу на прокрустово ложе твоих требований и позволю и удлинить, и укоротить себя так, как тебе надо. Ведь я, по твоему мнению, не могла не ощущать, как мало я похожа на истинную женщину, достойную тебя и наших отношений.
Но в том-то и заключалась моя вина или, с моей точки зрения, моя беда, что я ничуть не хотела соответствовать какому-то ходульному идеалу, взятому из книг о чести и нравственности. Я всегда была живой, пульсирующей от эмоций, страстей и жизненной силы женщиной, из самой натуральной плоти и не менее реальной крови, и я не желала превращаться в нечто, глубоко противное всей моей натуре и жизни. В начале наших отношений я надеялась все это преодолеть, полагая, что живая и настоящая женщина в объятиях лучше, чем выдуманная – в голове. Но однажды ты мне сказал: для того, чтобы любить тебя, ты мне не нужна. Тогда я вряд ли бы поняла, как глубоки наши противоречия, но сегодня они настолько очевидны, что не может быть и речи о прощении или о примирении. Ты можешь любить призрак, химеру, холодный и пустой идеал, далекий от жизни образ, и тогда, обнимая и лаская мое тело, ты живешь не со мной, и тебе все равно, холодно мне или больно, грустно или невыносимо, и тебе нет нужды заботиться обо мне, потому что на самом деле я для тебя не существую в этом мире. Но когда я реальная, из плоти и крови, вдруг кричу от боли, гнева или тоски, ты приходишь в себя и обнаруживаешь, что рядом с тобой кто-то другой, человек из мяса и нервов, и он чего-то требует и ждет, потому что живет рядом с тобой, живет тобой, живет в тебе. И в тебе поднимается глухая, неукротимая волна раздражения оттого, что я – иная, не идеальная, не правильная, не праведная, не достойная. И ты бьешь меня наотмашь – потому что считаешь, что это моя вина.
А я просто другая. Я не ищу идеального мужчину, у меня в голове живут свои химеры. Я жажду идеальных отношений, любви из сказки, любви вечной и бесконечной, какая мечтается каждой женщине от 9 до 99, и я обвиняю тебя в том, что в поисках идеала ты забыл о том человеке, который словно костер, горел рядом и согревал тебя в зимнюю стужу. Я обвиняю тебя в том, что ты предал великий и единственно ценный на земле дар – дар настоящей любви, разменял его на педантичное чувство к манекену, на исполнение долга в семье и на обязательства чести. Я обвиняю тебя в том, что ты пренебрег драгоценной возможностью – воплотиться друг в друге, пусть и тайным образом, и оставить после себя хоть что-нибудь, кроме пепла и праха сегодняшней ядерной зимы. Я обвиняю тебя в том, что медленно и верно казнил меня и себя за то, что ни мы, ни наши отношения не желали отвечать твоим прекрасным идеалам. Я обвиняю, обвиняю, обвиняю, и так до бесконечности. И ты обвиняешь, и мы оба обвиняем.
А может, все дело в том, что мы просто хотим, нет, требуем, чтобы нас любили. Нас, не доласканных родителями, нас, не долюбленных в юности, нас, обремененных долгом и обстоятельствами, нас, жестоких и разумных. Любили, как должны и могут любить только родители – слепо, безумно, без страха и упрека, без сомнений и претензий, жертвуя собой и не требуя награды, безнадежно, нелепо, с первого толчка и на всю жизнь, и даже после смерти. Но такая любовь дается человеку один раз и уходит вместе с последним родительским вздохом, и тогда понимаешь, что ты больше никогда не будешь ребенком.
Мы с тобой не прожили свое детство, как надо, и требовали друг от друга невозможного: я видела в тебе строгого, но справедливого, заботливого отца, ты – нежную, не рассуждающую в силе своей любви мать. Можно и их обвинить в том, что мы были несчастны в детстве, обречены в молодости, прокляты в зрелости и наверняка будем мертвы к старости, но это уже никого не спасет. Вместо того, чтобы любить себя сегодняшних, мы требовали друг от друга уплаты по долгам прошлого, причем, уплаты сторицей. Если уж подчинения, то полного, если уж заботы – то до хруста ребер, если уж любви, то до самопожертвования.
Не удивительно, что ни наши тела, ни души не вынесли такого напряжения и просто лопнули, как туго натянутые струны. Порванные с мясом, они возвратили нас обратно, на землю, потому что звуки музыки, звучавшей все это время, умерли вместе с разъятым металлом. И пришла тишина, в которой все стало на свое законное место – когда никто не виноват, потому что никого больше нет.
Как тяжело мне без тебя,
Как тяжело, что я с тобою.
Как тяжело, что я любя,
Живу сама себе рабою.
Как тяжело, что я не ты,
Как тяжело, что я другая.
Как тяжело средь немоты
Не понимать, слова теряя.
Как тяжело, что я живу,
Как тяжело, что я скучаю.
Как тяжело, что наяву
Тобой дышу, тобой мечтаю.
Как тяжело, что я пишу,
Как тяжело, что я рыдаю.
Как тяжело, что вновь дышу
Когда тебя опять теряю.
Как тяжело, что я – вина,
Как тяжело, что я – тревога.
Как тяжело, что не одна,
И все, что есть – по воле бога.
Письмо 4. Любовь и пустота
Тоскливо без ревности, боли и муки,
И незачем резать усталые руки.
И дважды тоскливо узнать на рассвете,
Как плачут твои нерожденные дети.
Но трижды тоскливо, взмахнувши крылами,
Скорей погасить за спиною их пламя.
Сейчас, когда я пишу эти письма самой себе, я хорошо знаю, что любовь ничем не отличается от прочих наркотических ослеплений – когда ее нет, наступает пустота – страшная, бесчеловечная, ломка, своеобразный абстинентный синдром, боль отвыкания, понять которую может только тот, кто хотя бы раз ее испытал. До этого момента я даже не представляла, что так бывает, потому что, подобно многим, полагала, что человек до некоторой степени (почти что на 100%, ха-ха) может владеть своими чувствами, управлять собственными эмоциями, обуздывать возникающие в нем мысли и желания. Возможно, я встретила тебя именно затем, что таким жестоким образом избавиться от иллюзий и понять, что есть вещи, запредельные для человеческого разума, недоступные воле и не постигаемые знанием. Думаю, мы оба получили хороший урок, равно как и те люди, которые жили рядом с нами и оказывались тем или иным образом вовлеченными в наши отношения. Несколько раз безобразные сцены разыгрывались между нами прямо посреди чужих людей, которые вольно или невольно становились свидетелями или почти что участниками кинематографически выверенных эпизодов. И надо сказать, что никто из них не выказал ни малейшего удивления или подозрения в том, что мы «играем на публику». Скорее всего, эти люди либо сами испытывали подобные приступы гнева, ярости и боли, либо самым серьезным образом пытались извлекать уроки из чужого горького опыта. Со стыдом вспоминаю, как зимой, в лютый холод, я лежала посреди дороги в легкой пуховой курточке, прямо под колесами твоего автомобиля, лежала, потому что считала (и до сих пор считаю), что ты не понимаешь иного языка, кроме языка насилия, принуждения, подавления, потом помню, как рядом с нами остановилась машина, водитель с сочувствием выяснил, что женщине, то есть мне, не «плохо с сердцем», просто происходит обычное, рядовое выяснение отношений, после чего мужчины поговорили, и тот, кто проезжал мимо, продолжил свой путь, а тот, кто остался, начал с того момента, где закончилось объяснение. Это была обычная, всем вокруг понятная чужая жизнь, никто не всплеснул руками, и даже полицейский, на глазах у которого в самом центре города ты ударил меня плашмя по голове, ничего не сказал, а просто сел в машину, словно ничего не произошло. И это тоже была любовь, как я теперь понимаю. Обычное, иррациональное, буйное чувство, торжество подсознательного над рациональным, стихии над планом, темного женского начала над светлым мужским.