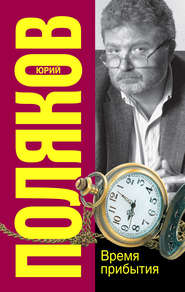скачать книгу бесплатно
Вас укачал полночный поезд…
В заключение рецензии непременный совет: «А идите-ка вы, юноша, в ближайшее литературное объединение!» И подпись, допустим, литературный консультант, например, Шилобреев.
– Как Шилобреев! – восклицаете вы. – Да я же читал его стихи. Он же графоман! Он сам не умеет писать… Мафия…
Обычно на первой, зубодробительной, рецензии ломается добрая половина начинающих, отсеивается, уходит в иную, бесстиховую жизнь. Но другая половина, превозмогая обиду, не отказывается от мечты и выясняет адрес ближайшего литературного объединения.
Я оказался во второй половине.
Все это я описываю со знанием дела, ибо в свое время получал очень похожие рецензии. Особенно запомнился мне своей зубодробительностью ответ, кажется, из «Студенческого меридиана», подписанный Владимиром Шленским – автором замечательной песни «Ах, необыкновенное танго послевоенное!». Впоследствии мы подружились и поддерживали отношения до самой его внезапной смерти в середине 80-х. Он был благороден, занимая деньги, никогда не брал больше пяти рублей (стоимость бутылки водки с плавленым сырком), объясняя: «Все равно не отдам!» Однажды, выпив в ЦДЛ, я мстительно напомнил о его уничижительной рецензии. Он пожал плечами, мол, не помню, знаешь, сколько у меня вас было! Это называлось работать «на заруб». Заведующий отделом поэзии вываливал внештатному рецензенту кипу подборок и говорил коротко: «На заруб». За каждый «заруб» рецензент получал, кажется, десятку и ходил, что называется, по локоть в крови начинающих поэтов. Но, с другой стороны, на десятку в те времена можно было погулять в ресторане.
Как правило, рецензенты даже не вчитывались в тексты, выискивали орлиным взором несколько «ляпов», благо их хватало, и рубили сплеча. Впрочем, бывали исключения. Например, поэт Илья Фаликов в довольно сдержанной рецензии на мою рукопись где-то в середине 70-х обмолвился, что, по его мнению, Поляков скоро перейдет на прозу. Вчитался…
Сегодня со всей прямотой могу сказать: рецензенты зарубили мои первые стихи справедливо – это было беспомощное ученичество, хотя какие-то строчки отмечались как удачные. Например, у меня имелся длинный-предлинный рифмованный диалог поэта с самим собой о том, зачем он, дескать, пишет стихи. Начинался диалог так:
– Зачем вы пишете стихи?
Вы что же думаете, строки
Умеют исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
Зачем вы пишете стихи?..
Вообще любимое занятие начинающего поэта, как сказано выше, поразмышлять о тайнах творчества, в которых он ни черта еще не смыслит. «Стихи о стихах» – бич юных поэтов, за что их корят рецензенты и наставники. Мой диалог поэта с самим собой тоже был подвергнут решительной критике, некоторое снисхождение заслужили лишь первая и последняя строфы:
– Ну хоть один от ваших виршей
Стал добродетельней и выше?
Скажите прямо, не тая!
– Один? Конечно! Это – я.
Их-то я и оставил. Пожалуй, это единственное из моих юношеских стихотворений, которое я включил в первый и последующие сборники. Но вернемся к судьбе молодого поэта, ошарашенного первыми рецензиями на его стихи.
5
Переболев обидой, я внял совету и отправился в литературную студию при Московской писательской организации и горкоме ВЛКСМ. Кстати, устроиться туда было не просто, но я еще в школе был комсомольским активистом и завел кое-какие связи в верхах. А поэтам, как инвалидам, начальники помогают охотно. Располагалась студия почему-то в Доме политпросвещения на улице Володарского, ныне Гончарной. Семинары там вели крупнейшие тогдашние поэты, прозаики, драматурги, критики, переводчики: Евгений Винокуров, Борис Слуцкий, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Александр Рекемчук… Даже студенты Литинститута бегали к нам «обсуждаться», считая, что у нас семинары посильнее.
Я попал в семинар Вадима Витальевича Сикорского – поэта, может быть, и не крупного, но чрезвычайно профессионального и образованного. Он был из литературной семьи, дружил с сыном Марины Цветаевой Муром, пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать в Елабуге из петли великую Марину. Сикорский был высок, плечист и с орлиным интересом поглядывал на юных поэтесс. Будучи опытным бильярдистом, он часто с гордостью говорил нам: «Я первый кий Союза писателей!» – причем слово «кий» произносил с неким не совсем бильярдным оттенком. Женат он был неоднократно.
В нашем семинаре собралось десятка два начинающих поэтов и поэтесс, не считая нескольких обязательных в таком месте рифмующих шизофреников. Кто-то так потом и сгинул безо всякого литературного результата, но многие стали настоящими профессионалами. Иных уже нет в живых. Признанный лидер нашего семинара Ефим Зубков, автор песни про пароход детства, повесился в 1976 году в собственном туалете. Его строчку про женские ноги, прорастающие в весенней толпе, отметил Вознесенский. Замечательный и явно недооцененный поэт Евгений Блажеевский, любимец Сикорского, умер в конце 90-х. Один за другим ушли уже в новом веке – Александр Щуплов, Игорь Селезнев, Юрий Чехонадский… Активно трудятся на различных литературных нивах Александр Буравский, Наталья Сидорина, Владимир Вишневский… Это все наш семинар! Поколение…
Кстати, я учился в ту пору на литфаке Областного пединститута имени Крупской. На одного парня приходилась дюжина девушек, будущих учительниц. Ностальгически вспоминая те времена, я лишь изумляюсь, что за все годы обучения так и не завел на курсе ни одного романа. Давно замечено: коренные обитатели прибрежных курортов редко купаются…
Из шестерых моих однокурсников трое стали известными литераторами. Ну, про меня вдумчивый читатель и сам, очевидно, догадался. Назову также Александра Трапезникова, отличного прозаика, сочинявшего в ту пору странный сюрреалистический роман про говорящие рога. А еще нельзя не упомянуть Тимура Запоева, который известен ныне любителям поэзии как поэт-концептуалист Тимур Кибиров. Помню, он всюду ходил с томиком Блока из Библиотеки всемирной литературы и сочинял что-то грустно-символическое, но в общении с товарищами был чрезвычайно ехиден. Когда, много лет спустя, я узнал, что он сменил свою изумительную, Богом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним, то был поражен. Ведь тот же Николай Глазков, из которого по сути и вышел весь наш отечественный «концептуализм», отдал бы половину своей печени за фамилию «Запоев». Всю печень, конечно, не отдал бы, так как был человеком серьезно пьющим. Кстати, поэт-сатирик Владимир Вишневский учился на нашем же факультете, но курсом старше и сочинял вполне лирические стихи под Рождественского, например, про мальчика, подающего во время футбольного матча мячи. На самом деле он, разумеется, имел в виду себя, начинающего поэта, который еще всем покажет. И показал!
Есть такое выражение в театре «Актер Актерыч». Так называют человека, который всем своим видом старается подчеркнуть свою причастность к сцене, говорит утробным голосом, а ходит наподобие тени отца Гамлета. Вишневский вел себя как заправский Поэт Поэтыч. В разгар студенческой пирушки он мог вдруг погрустнеть, уйти в уголок, достать хорошенький блокнотик, сувенирную авторучку и, ощупывая взыскующим взором пустоту перед собой, заняться сочинением стихов. «Володя, рюмку пропустишь!» – звал кто-то неосторожный. Но на него сразу шикали: «Т-с! Человек стихи пишет. Не видишь, что ли?» Я всегда царапал набежавшие строки на клочках бумаги, терял, горевал об утратах и завидовал, глядя на Володин блокнотик. После института мы довольно долго поддерживали отношения. Но как и большинство юмористов, обсмеивающих все, что шевелится и даже умерло, Вишневский не переносит остроты в свой адрес. Как-то представляя его на большом вечере в ЦДЛ, я сказал: «Чехов утверждал, что краткость – сестра таланта. Выступает брат таланта – Владимир Вишневский!» Я-то имел в виду его стихи в одну строчку, вроде «Давно я не лежал в Колонном зале». Но он понял по-своему, обиделся – и наши пути разошлись.
Но если в Вишневском тогда невозможно было угадать будущего смехача корпоративов, то я в ту пору как раз отдавал предпочтение пародиям и стихотворному юмору:
Теперь дома особенные строят:
Я слышу, как внизу бифштекс горит,
Как наверху кого-то чем-то кроют
И как «звезда с звездою говорит»…
Роясь в своем архиве, я отыскал дюжину пародий, показавшихся мне достойными, чтобы опубликовать их спустя сорок лет в этом томе. Кажется, они стали смешнее, чем в момент написания. Так бывает… Кстати, подражание, переходящее в пародирование, – обычный путь стихотворного ученичества. Ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается со школярством, с зависимостью от литературных авторитетов, осваивает чужую стилистику, учится замечать дурновкусие у других, а потом и у себя. Некрасов писал: «И скучно и грустно, и некого в карты надуть…» Дурачился. Но ведь он еще написал и «Русских женщин», и «Кому на Руси жить хорошо»… Если бы мне кто-нибудь тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со знаменитыми цитатами лет через двадцать станет основным содержанием поэзии и будет называться «постмодернистской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. Молодая литературная компания всегда живет пересмешничеством, розыгрышами, дурачествами, буриме, эпиграммами, но делать из этого профессию, объявлять эстетической школой – нелепость. Точно так же утренние ежедневные пробежки для растряски живота можно объявить большим спортом. Объявили. И что?
В начале минувшего столетия поэзия была полноправным участником и даже организатором грандиозного цивилизационного слома русской революции, изменившей мир. В лучшую или в худшую сторону – другой вопрос. В конце XX века не менее грандиозный катаклизм поэзия (не вся, конечно, но тем не менее) прохихикала и пробалагурила. Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать поэтов. Но с другой стороны: а если «иронизм» – на самом деле не что иное, как неосознанная ими самими реакция на чуждость, ненужность этого катаклизма нашей российской государственности и культуре? Или же, наоборот, «иронизм» – тот страшный грибок, который стремительно размягчает, сжирает несущие конструкции общественного устройства. Не знаю… Думаю. Но люди, особенно бурно потешавшиеся в начале 90-х, лично мне не симпатичны…
Однако вернемся в Дом политпросвещения на улице Володарского.
Главный смысл семинара состоял в том, чтобы научить нас даже не писать, а понимать стихи. А чужие стихи понять и оценить гораздо проще, чем свои. Владимир Николаевич Соколов как-то раз очень точно заметил: «Свой стиль у поэта появляется не тогда, когда он понимает, как должен писать, а тогда, когда он понимает, как писать не должен». Оказавшись в кругу себе подобных, сознаешь: несмотря на всю свою высокоталантливую исключительность, ты совершаешь те же самые ошибки, что и остальные сочиняющие граждане. А обнаружив двусмысленные «концы» в строчках товарища по перу, начинаешь иначе воспринимать собственные сочинения.
Занятия семинара проходили так. Назначался «виновник торжества». Допустим, выбор падал на тебя. Заранее размножив свои стихи с помощью дружественной машинистки, ты раздавал подборки товарищам по семинару, а первый экземпляр вручал, разумеется, руководителю. И трепетно ждал своей очереди… Ты уже знал, чем заканчивались такие обсуждения для других, но верил: с тобой все будет иначе! Семинар просто содрогнется от открытия небывалого таланта, на руках тебя качать, наверное, не будут, но все-таки…
И вот наступает день «Ч». С утра меня трясет и лихорадит, или, как выражается нынешняя молодежь, плющит и колбасит. Домашние встревожены: «Юра, что случилось?» Я отшучиваюсь. Ну как, в самом деле, признаться, что ты ждешь и отчаянно трусишь предстоящего семинарского обсуждения, предназначенного стать твоим звездным часом?! В последний раз, запершись в туалете, я, профессионально завывая, репетирую чтение лучших моих стихов. Таких, например:
Мелким дождиком неистребимым
Обернувшись, как целлофаном,
Одинокие грозди рябины
Исступленно зацеловал он…
Ну разве это не гениально? Все будет хорошо.
– Кто у нас сегодня? – спрашивает Сикорский, окидывая зал взором усталого патологоанатома.
И вот я на трибуне. Да, забыл сказать: мы занимались в конференц-зале, где имелась роскошная могучая трибуна, очевидно, для политических просветителей с их нудными докладами. В креслах – коллеги по литературному цеху. Одни смотрят ободряюще, мол, держись, старик! Это соратники и друзья. Другие поглядывают с чувством явного эстетического превосходства. Это литературные недоброжелатели и соперники. Все как в большой словесности! А откуда-то из самого уголочка шлет взоры, полные нежности и восхищения, некая милая девушка. Это – моя девушка.
Она знает все мои стихи наизусть, восхищается ими еще больше, чем я сам, и пришла сюда, чтобы разделить мой триумф.
– Ну-с, начнем! – объявляет Сикорский.
Я ощущаю во всем теле праздничную невесомость и начинаю. Сикорский внимательно слушает, что-то помечая на полях рукописи, а иногда после какой-нибудь особо удачной, на мой взгляд, метафоры отрывается и смотрит на меня с картинным удивлением, словно я безбилетник, предъявивший ему, контролеру, вместо билета бланк анализа мочи. (О, этот взгляд я запомнил навсегда!) По количеству таких «изумлений», если понаблюдать из зала, можно предугадать результаты обсуждения, а точнее – показательной порки.
Странное чувство испытываешь, выходя читать стихи залу. Еще минуту назад ты был абсолютно уверен в своей гениальности, но, увидев устремленные на тебя глаза слушателей, вдруг осознаешь, что ты, идиот, совершенно напрасно вознамерился морочить людей своей рифмованной белибердой. Освищут, зашикают – и поделом. Нет, еще хуже: отреагируют мертвым, ледяным молчанием. Впервые я читал стихи публике на каком-то студенческом празднике в переполненном актовом зале МОПИ имени Крупской. Это были пародии. Я сочинил «Мартовский триптих», пытаясь представить, как могли бы написать про весенних кошек Асадов, Евтушенко и Вознесенский – в те годы популярные до невменяемости. За несколько минут до выхода я решил еще раз проверить себя и шепотом прочитал пародии какому-то слонявшемуся за кулисами старшекурснику.
– Чепуха! – констатировал он, выслушав.
Тут меня объявили, я побрел на сцену, как на казнь, и зачем-то начал декламировать… Зал смеялся и долго мне аплодировал.
– Здорово! – похвалил тот же старшекурсник, поймав меня, окрыленного, за кулисами.
Счастье публичного признания можно, наверное, сравнить только с восторгом обладания прекрасной женщиной, еще недавно недоступной, а вот теперь нежно и покорно трепещущей в твоих объятьях…
Но вернемся в Дом политпросвещения. Я заканчиваю чтение стихов и на ватных ногах возвращаюсь в зал, друзья ободряюще пожимают мне руки, литературные недруги иронически усмехаются, а взор девушки обещает мне все, о чем только может мечтать молодой поэт.
– Ну-с, – предлагает Сикорский, – прошу высказываться. Кто у нас первый оппонент?
– Я! – с тихой улыбкой расчленителя-извращенца встает и идет к трибуне один из моих лютых литературных недругов.
И начинается Великое Избиение Поэтического Младенца. Никто лучше собратьев по перу не видит твоих огрехов и никто не умеет так чудовищно их громить. Все у меня не так: и ритм, и рифма, и настроение, а моими сравнениями и метафорами не стихи инструментовать, а забивать сваи в вечную мерзлоту.
– Ну что это такое: «Мелким дождиком неистребимым обернувшись, как целлофаном, одинокие грозди рябины исступленно зацеловал он»?!
– Почему, например, целлофаном, а не полиэтиленом? – вопрошает оппонент.
Зал хихикает. Я скрежещу зубами, ибо гордился рифмой «целлофаном – зацеловал он». Это удар ниже пояса. Общеизвестно, что ради рифмы в стихи не то что целлофан – тринитротолуол притащишь… Вот сволочь!
– Почему у тебя дождик «неистребимый», а грозди «одинокие»? Это не точно. Эпитеты случайные.
– Не случайные! – вскакиваю я со своего места.
– Случайные!
– Почему?
– Потому. Ходасевича надо читать! – бьет он наотмашь.
Полузапрещенного в то время Ходасевича я, конечно, не читал, о чем, наивный осел, как-то признался товарищам в курилке. Ему, гаду, хорошо: у него папа в АПН служит и наверняка таскает в дом весь «тамиздат». А мне, отпрыску рабочего семейства, где взять?
– «Исступленно зацеловал он» сказано не по-русски, – продолжает избиение так называемый оппонент. – Можно исступленно целовать. Исступленно зацеловать нельзя.
– Можно! – снова вскакиваю я.
– Нельзя.
– Можно!!
– Нельзя…
Все смотрят на Сикорского.
– Нежелательно, – вздохнув, отвечает он.
– Но все эти «огрехи» – ерунда… замахивается для смертельного завершающего удара оппонент. – Тебе просто не о чем писать. Какие-то пейзажики и прочая мура. В стихах нет судьбы. У тебя в жизни не было настоящей трагедии. Вот если бы твоя любимая женщина попала под трамвай…
В глазах моей девушки, жмущейся в углу, ужас. Под трамвай ей явно не хочется, даже ради моей поэтической судьбы.
– А у тебя была трагедия? – окончательно вскакиваю я.
– Была, – отвечает мой гонитель с той горделивой поспешностью, которая не оставляет сомнений в том, что и у него никакой трагедии пока в жизни не было. Разве что отец из загранкомандировки джинсы не привез.
«Ничего, – подбадриваю себя я. – Сейчас за меня заступятся…»
Но друзья, на поддержку которых я рассчитываю, вяло пытаются возражать и от растерянности хвалят какие-то мои совершенно необязательные строчки, нажимая на то, что молодой талант, даже если он и не совсем еще талант, заслуживает бережного к себе отношения. Тем более что обсуждаемый поэт, то есть я, – отличный товарищ, хороший человек и даже комсомольский активист. В глазах моей девушки появляется то выражение, какое обычно бывает при виде собачонки, раздавленной уличным транспортом. Сикорский все больше хмурится. И я с ужасом понимаю: моя жизнь, во всяком случае литературная, не удалась. Личная жизнь, кстати, тоже под угрозой…
Наконец товарищи по перу сказали все, что про меня думают, довершив черное дело, начатое «расчленителем». Теперь все смотрят на Вадима Сикорского. Надо заметить, он был в своих разборах объективен, хотя и строг до чрезвычайности. Не ругал он только явных графоманов – щадя этих чаще всего нездоровых людей, приносивших на обсуждения бесконечные стихотворные поздравления друзьям к праздникам и дням рождения.
– М-да, – вздыхает Сикорский, обегая глазами симпатичных девушек в зале. – А почему вы не прочитали «Февраль»?
– Какой февраль?
– Ну вот, у вас в подборке:
Снег цвета довоенных фото
Лежит, подошвами примят.
Ворчанье шин.
На поворотах
Трамваи старчески скрипят…
– Оно мне не удалось! – гордо объявляю я.
– Да, стихи неровные… «Ворчанье шин» – плохо. Ворчать на вас будет жена (короткий взгляд на мою девушку). «Старчески скрипят» – тоже плохо – «штамп». У вас вообще какой-то штамповочный цех! «Лежит, подошвами примят» – неуклюже… Хотя имеет право на существование. А вот «снег цвета довоенных фото» – хорошо. Даже очень хорошо!
Работайте над собой! Кого обсуждаем в следующую пятницу?
– Меня… – жалобно сообщает мой главный погромщик.
И в моей душе расцветает чертополох возмездия…
Вадим Витальевич прожил долго и скончался два года назад. Я написал некролог для «Литературной газеты». Вот он с некоторыми сокращениями:
«Умер Вадим Витальевич Сикорский. На 91-м году жизни. Один из могикан некогда многочисленного и могучего племени советских поэтов, точнее поэтов советской эпохи. Он дебютировал с книгой «Лирика» в 1958 году, уже зрелым человеком, а по меркам нынешних скороспелых дебютов – и вовсе «стариком». Его стихи были лаконичны, афористичны, сдержаны, почти лишены примет неизбежной тогда политической лояльности, что выгодно отличало их от многословия эстрадной поэзии, изнывавшей от этой самой лояльности.
В предисловии к «Избранному» в 1983-м году он писал: «Главным в поэте я всегда считал уникальную способность оказаться наедине с миром, со вселенной, со звездами, с самим собой. Умение взлететь ввысь сквозь любые учрежденческие потолки, сквозь стены и этажи увеселительных заведений, сквозь тяжелые железобетонные стены любых подвалов». Сикорский был всегда сосредоточен на странностях любви, на вечных и проклятых вопросах:
Ничто не вечно – ни звезды свечение,
ни пенье птиц, ни блеск луча в ручье, —
ничто не вечно. Смерть не исключение:
Не может вечным быть небытие.
После 91-го, когда в поэзии воцарился концептуальный цирк, Сикорский ушел в тень, его публикации стали редкостью, он сел за большой роман, главу из которого «ЛГ» напечатала несколько лет назад. До последнего времени он оставался бодр, в его крепком стариковстве явно угадывался некогда полный страстей, красивый, сильный мужчина, овладевший не одной женской привязанностью, чувствовавший себя без любви, «как скульптор без глины». Сам он с присущей ему самоиронией как-то назвал себя в стихах «атлетическим повесой». И мне хочется, вопреки строгому жанру эпитафии, процитировать мое самое любимое стихотворение ушедшего поэта «Встреча», по-моему, замечательное:
Опасность была не уменьшена
Ни светом, ни тем, что – народ…
Почти нереальная женщина
Навстречу спокойно идет.
Из облака солнцем точенная?
На лбу – неземного печать?
Нет, мысль, на слова обреченная,
Об этом должна промолчать.
Решусь объясниться лишь косвенно:
Всю мудрость налаженных дней,
Как нечто никчемное, косное,
Забыв, я пошел бы за ней.
Устроенность жизни, направленность,
Всех помыслов, все, чем я жив,
Я сжег, если б ей не понравилось,
К ногам ее пепел сложив.