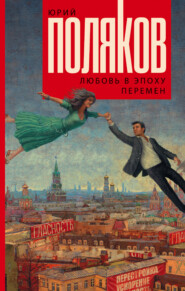скачать книгу бесплатно
Сколько их было, «последних прощений», – не сосчитать…
Сняли Танкиста вскоре после прихода Горбачева. Тогда многих погнали. Убрали, не дожидаясь оплошности, как полагалось прежде, при застое, просто вызвали на Старую площадь и освободили. От оскорбительной внезапности Дед слег с инфарктом и в редакции больше никогда не появлялся, а его немногочисленные вещи, включая макет «тридцатьчетверки», вывозила Зиночка – нерасписанная жена вдового шефа. Это обстоятельство они почему-то тщательно скрывали, хотя даже студенту, пришедшему в «Мымру» на практику, первым делом докладывали:
– С Зинаидой Антоновной повежливей. ППЖ!
– Что?
– Походно-полевая жена.
На пенсии они наконец расписались. Диденко выздоровел, поднялся, кто-то даже видел его 9-го мая у Большого театра в орденах и медалях. Умер он неожиданно: гулял во дворе и слушал по приемнику, висевшему на груди, трансляцию Съезда народных депутатов. Когда Зинаида, увидев в окно неладное, прибежала к рухнувшему в сугроб мужу, из транзистора молотил всезнайка Собчак, бодрый, как распорядитель утренней гимнастики.
Шабельский, сменивший Деда, велел убрать из редакции все напоминавшее о временах Танкиста, в том числе и рейку с номерами. Но когда Скорятин стал главным, он распорядился вернуть гвоздики. Зачем? Ну, во-первых, так привычнее. В старости не поспеваешь за торопливой новизной, которая кажется лавиной нелепостей и ошибок, и хочется чего-то давнего, знакомого, привычного. Кроме того, рейка с гвоздиками казалась ему признаком власти, как, скажем, скипетр или горностаевая мантия монарха.
Гена снова нажал кнопку – секретарша не откликалась.
«Вот сучка!»
Тогда он вызвал по селектору своего первого заместителя Сун-Цзы-Ло. На самом деле звали его Володей Сунзиловским. Когда-то он учился в институте восточных языков на китаиста, готовился в дипломаты, забредал на сходки Рыцарей Правды, сидел, молчал, ухмылялся… Сгубила его безответная любовь: втюрился в однокурсницу, сделал предложение, получил обидный отказ и наложил на себя руки – неудачно, по-детски. Как «суицидалу», ему прилепили диагноз, сослали на год в академку, но главное – он стал невыездным, и международная карьера накрылась большим медным тазом с колосистым советским гербом на днище. В журналистику Володя попал случайно: принес с улицы в «Мымру» статью о жуткой расправе на площади Тяньаньмэнь. Написал с тайных слов потрясенного однокурсника, служившего в советском посольстве в Пекине. Тот уверял, будто танки ездили по башни в размолотом человеческом мясе. Врал, наверное. Вон, сначала тоже кричали, что и в Белом доме в 1993-м убили тысячи людей, а потом оказалось: всего двести, и ни одного депутата. Шабельский пришел от материала в восторг и взял Сунзиловского на договор, а потом и в штат. Володя долго вел международную политику, дорос до зама. Исидор, мечтавший возглавить «Известия», готовил его в преемники, но не вышло. Неудавшийся китаист был скрытен, замкнут, немногословен, чурался женщин и очень редко смеялся из-за своих огромных желтых зубов, которые при малейшей улыбке выпирали изо рта, делая его похожим на веселую лошадь.
К 1991-му сумасшедших вокруг стало столько, что, казалось, в Москве проходит Всемирный фестиваль буйно помешанных. Доктора хором каялись за карательную психиатрию и признавались в жутких врачебных ошибках. Сунзиловского объявили жертвой совкового произвола, сняли диагноз и выпустили наконец в Китай. Вернувшись, он совсем перестал улыбаться, затуманился и ходил по редакционным коридорам скорбной тенью. Правда, не забыл угостить коллектив кислой китайской водкой, настоянной на змее.
– Ну и как там, в Поднебесной? – любопытствовали сотрудники, запивая кислятину родной «Пшеничной».
– Мы идиоты! – отвечал он.
– Почему?
– Скоро поймете!
В кабинет к себе он пускал неохотно, а дома у него вообще никто не был, хотя в те времена вломиться кочующей пьяной оравой к кому-то на квартиру в полночь и гудеть до утра было делом обычным. Осчастливленный хозяин хмурился, протирая сонные глаза, вываливал из холодильника последние припасы, а за водкой бегали потом к таксистам. Поговаривали, что Володя пишет стихи в духе Ли Бо, но их тоже никто не видел и не читал. Однажды Веня Шаронов, не найдя собутыльников в пустой редакции, решил проведать загрипповавшего Сунзиловского, взял пузырь и без звонка поехал к нему в Сокольники. На осторожный вопрос из-за двери: «Кто там?» – остроумный Шаронов ответил не своим голосом: «Мосгаз», намекая на знаменитого душегуба Ионесяна, в 1960-е кромсавшего топором доверчивых москвичей. Но Володя шуток не понимал, потянул носом воздух, отпер и попал по полной программе. Шаронов обнаружил за дверью квартирку, любовно отделанную в китайском стиле: ширмы, бамбуковые занавески, низкая мебель, яркие бумажные фонарики. Со стен свисали свитки с иероглифами, птичками и кудрявыми срединными пейзажами, а также майоликовые талисманы с алыми кистями. Из угла мудро улыбался Конфуций. На бамбуковом столике стояли крошечные глиняные чайнички и чашки, пахло жасмином. Простой, как сто грамм, Веня вломился в самый разгар изысканной чайной церемонии и воскликнул:
– Ну, ты прямо Сун Цзы Ло какой-то!
Кроме Володи, одетого как мандарин, в чаепитии участвовала замужняя мымринская дама в едва наброшенном на голое тело шелковом халатике с серыми уточками. Больше ничего выведать у Шаронова не удалось, как Жора ни накачивал его пивом с водкой.
– Женская измена охраняется государством! – еле ворочая языком, отвечал Веня.
Коллектив в ту пору был немалый, сто человек с лишком, поэтому редакционные сплетники так и не смогли вычислить, кто же чаевничал с зубастым китаистом на низком ложе. А за Володей с тех пор закрепилось прозвище «Сун Цзы Ло», на которое он с удовольствием откликался, чувствуя себя почти великоханьцем.
В последние месяцы Сунзиловский выглядел плохо, похудел, в лице появилась сухая желтизна, ходил, шаркая, и останавливался перевести дух. Говорили: «онкология». Зато он стал чаще улыбаться, и все наконец узнали, кто же та секретная дама. Корректорша Мила Тюрина теперь безвылазно сидела у него в кабинете, щебетала и с ободряющей улыбкой смотрела на больного Володю безнадежными глазами.
– Что происходит? – строго спросил Скорятин, когда Сун Цзы Ло тяжело уселся перед ним. – Где «Мумия»? – и осекся: бедный Сунзиловский сам стал похож на мумию.
– А нам это надо? – спросил зам, едва открывая рот, чтобы не показывать некрасивые зубы.
– Но другие-то пишут!
– Ты же знаешь, почему они пишут и откуда ноги растут. Нам-то это зачем? Кошмарик приказал?
– Нет.
– Тогда зачем людей стравливать? Ну да, у нас семьдесят лет была такая религия. Все молились на Светлое Будущее. Пролетариат – бог. Классовая борьба – Богородица. Маркс с Лениным – пророки. Верили, что человек и наука могут все. Понимаешь, все! Могут труп сделать нетленным. Почему мощи Ильи Муромца не гниют, мы не знаем. Чудо! А почему Ленин не гниет или почти не гниет, знаем. Наука! Мавзолей – храм этой бывшей веры. Зиккурат. Пирамида. Какая разница! Но теперь мы снова хотим верить в Бога Живаго, а не в Человека. Ладно! Попробуем. Но пусть эти позитивистские мощи лежат там, где их положили. Не мы положили, не нам выносить. Лет через сто разберутся…
– Ты уверен?
– Уверен. Китайцы древней и мудрей нас. Думаешь, они не знают, сколько народу Мао угробил? Отлично знают. Но условились: лет пятьдесят об этом ни-ни. Думать – пожалуйста. Говорить – нет…
– Разве это хорошо?
– Плохо. Но мерить прошлое настоящим еще хуже. Ведь то, что для нас зло, для потомков может оказаться благом. И наоборот. Так бывает.
– Конфуций?
– Не исключено. Не надо глумиться над бывшей святыней. Люди совсем отучатся верить. Понимаешь?
– Ну да…
– Ген, сними из номера «Мумию»!
– Я обещал.
– Кому?
– «Мемориалу».
– Напрасно. Сборище обиженных внуков.
– Ну, это как сказать, – возразил Скорятин.
Он ждал от «внуков» премию «За борьбу с тоталитарным прошлым».
– Сними!
– А что в «дырку» поставим?
– Найдем. Может, еще и некролог какой-нибудь выскочит. Жизнь течет. Помру – напишете.
– Типун тебе на язык!
– Я пошел?
– Иди! – бессильно махнул главный редактор.
– Ты что-то сегодня плохо выглядишь.
– Просто устал, не выспался.
– Я тоже думал, просто устаю. Оказалось – симптом. Чуть ли не главный. Обследуйся! Тут важно не прозевать. На второй, даже третьей стадии теперь лечат…
– Обязательно! Может, Вов, тебе в «кремлевку» залечь? Я позвоню.
– Оттуда меня точно вынесут, как Ленина. Помнишь, у Веньки:
Икрою кормят в ЦэКаБэ,
Зато врачи ни «мэ», ни «бэ».
Володя тяжело встал и пошаркал к двери.
– Как тебе моя «Клептократия»? – вдогонку спросил Скорятин.
Его задело, что Сун ничего не сказал о статье, а ведь Гена под большим секретом дал прочесть только ему и Жоре. Володя остановился, с трудом повернулся, улыбнулся шире, чем обычно, – во весь свой лошадиный оскал:
– Прежде чем говорить императору правду, не забудь встать на колени. Ты не осторожен, мой друг!
Гене показалось, что у бедняги похудели даже зубы.
3. Марина
Проводив Сун Цзы Ло, Скорятин попытался снова сосредоточиться на письме о незаконной вырубке Коми-лесов, но не смог. Он не выспался, чувствовал себя старым, усталым и, поднимаясь в редакцию, на шестой этаж, даже не заглянул, как обычно, на третий, в «Меховой рай», к Алисе, чтобы выпить кофе и поболтать. Ему было совсем скверно.
Ночью, очнувшись от путаного сна с погонями и сердечным испугом, он долго лежал, не открывая глаз и надеясь уснуть, но в голову лезло все то, от чего удавалось отмахнуться днем. Вспоминал ссору с Викой, ее уход из дому и ненависть в глазах дочери, когда она, обернувшись на пороге, сказала: «Ну пока, dady!» Английское словцо прозвучало как «дядя». За что? Была дочь – и нет!
Да и последний Маринин запой дорого обошелся. Она безобразно чудила, пыталась отравиться горстью антидепрессантов. Таблетки удалось выбить из рук, они раскатились по ковру, жена ползала на коленях, собирая, а он со скандалом отнимал. Когда примчался семейный «нарколог-гинеколог» (доктор сам себя так называл в шутку), Ласская, раздевшись догола, бегала по квартире, тряся жирным телом и мотая огромной вислой грудью. Она с девичьим хохотом увертывалась от нацеленного шприца и воображала себя, вероятно, чертовски пикантной. Догнали, повалили, укололи…
Мучил недавний звонок Корчмарика из Ниццы. Сбежав от прокуратуры, хозяин руководил «Мымрой» с Лазурного берега. В редакции его прозвали «Кошмариком» – за улыбчивую и непредсказуемую свирепость. Он добыл по случаю жуткий компромат на своего давнего врага – могучего кремлевского разводилу Дронова и потребовал, чтобы Скорятин сам написал разоблачугу.
– Леонид Данилович, а может, пусть лучше Солов, – уныло предложил главный редактор, – в стихах…
– Никакого Солова. Никаких стихов. Если будет утечка, нам всем пипец! А Солов – пустобол, в фейсбуке все вываливает: и как пожрал, и как поспал, и как трахнулся. Сам накатаешь. Лично. Ты же хорошо сочиняешь. Тряхни стариной!
– А Дронов? – осторожно спросил Скорятин.
– Не бзди, Гена! Ему конец. Дофокусничался, Кио! Мать его…! Мы вобьем последний гвоздь в гроб этого…!
Хозяин выматерился с прилежной изобретательностью интеллигента в третьем поколении. И Гена тряхнул, сочинил, да так сочинил, что сам удивился, перечитывал и розовел от удовольствия: «Даже кремлевские звезды краснеют со стыда, глядя на ваше казнокрадство! Карамзин на вопрос “Что происходит в России?” отвечал кратко: “Воруют…” Но вы свершили то, чего прежде не бывало в многогрешном Отечестве нашем, вы превратили пошлое воровство в мегапроект, в государственную идеологию, в религию. Осталось учредить медаль “За казнокрадство”…»
Несмотря на предупреждение, Гена показал статью самым надежным – Жоре и Володе. Хотелось похвал. От Кошмарика не дождешься, а только: «За что я вам плачу?! Разгоню к чертям свинячьим!» Раньше он всегда давал читать написанное Марине, но она стала слишком придирчива в последнее время, наверное, чует измену. Даже во сне у нее подозрительное выражение лица.
Включив ночник, Скорятин раскрыл книгу модного писателя Миши Эпронова, но с первых строк ему сделалось тошно. С ума, что ли, сошли?! Очерк о доярке для «Сельской жизни» в прежние времена лучше писали. Силос какой-то! Он встал, заглянул в холодильник, поел и бродил по большой квартире, вздрагивая от шорохов, скрипов, водопроводных урчаний, пугаясь нагромождений советского авангарда, выползавшего из рам. Тесть, уезжая в Германию, лучшие картины увез, но кое-что, поплоше, оставил, хотел забрать позже и не успел.
Скорятин, жуя, долго смотрел в окно на заснеженный Сивцев Вражек, плотно уставленный прямоугольными сугробами, в которые за ночь превратились припаркованные автомобили. Вернувшись в спальню и улегшись в широкую супружескую постель, он старался не глядеть на мерно дышавшие тучные останки Марины.
В молодости Гена любил жену без памяти, нетерпеливо вожделел и ревновал к каждому, кто бросал заинтересованный взор на ее стати. Будь он военным при оружии – обязательно пристрелил бы кого-нибудь, посмевшего коснуться проникающим взглядом его женщины! А теперь? Теперь такое чувство, что спишь в одном купе с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, – и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…
«Нет, у любви, как и у жизни, должно быть только начало. Конец любви – это даже не смерть. Гораздо хуже!» – бессонно думал он, мучаясь в нервической полудреме и вспоминая молодость, когда каждое пробуждение становилось радостью.
…Они учились вместе в университете и поженились на последнем курсе. С восьмого класса Гена занимался в кружке юных журналистов при доме пионеров, даже получил почетную грамоту как лучший юнкор Бабушкинского района, печатался в многотиражках, даже опубликовал в «Алом парусе» заметку «Здравствуй, лось!» – про сохатого, забредшего в город из лесу. Однажды Фаза после урока тяжело посмотрела на юнкора и сказала: «Останься!» Он похолодел: «Ну какого черта было курить натощак!» Однако речь пошла о другом.
– И как ты с таким немецким на журфак собрался?
– Не знаю.
– А кто знает, Шиллер? Завтра останешься – будем заниматься по два часа. Каждый день. Понял?
– Понял.
И Фаза, растившая без мужа мальчиков-двойняшек, стала ежедневно вбивать в него немецкий язык, как железную сваю в мерзлый грунт. Иногда он делал уроки у нее дома вместе с близнецами, послушными, четкими, как маленькие солдатики вермахта. Отец с матерью, узнав, что сын занимается с репетитором, долго совещались, крутя так и сяк семейный бюджет, и выделили ему двадцать пять рублей в месяц, но когда он принес Фазе в конверте четвертной, она взбесилась и чуть не выгнала его вон.
– Мне не деньги твои нужны! Мне надо, чтобы ты артикли не путал и приставок отделяемых не глотал, думкомпф!
«Проведать Фазу!!! Говорят, совсем ослепла…» – делая пометку в ежедневнике, он вспомнил старушку, которая на прошлогоднем сборе класса натыкалась на рослых, раздобревших своих учеников, угадывая: «Петя? Володя? Леночка?…»
За все лето Гена так и не выбрался на Торфянку искупаться с друзьями, но немецкий сдал на «отлично», хотя гоняли его, как врага народа, даже заставили Гейне наизусть читать. Однако в университет юнкор все равно не поступил: схлопотал тройку за сочинение. Возмущенная директриса школы Анна Марковна, тоже принимавшая участие в его судьбе, помчалась в приемную комиссию, где работала ее подруга. Вернулась расстроенная, сообщила: «Ты ляпнул две ошибки, синтаксическую и стилистическую, а это – твердая четверка». Тройку вкатили из-за небывалого наплыва «блатных»: ректору пришлось выбирать между дочкой известного историка-диссидента и сыном заместителя директора ЦУМа. Победила, конечно, торговля. Но диссидент сбегал в Минобр, пошумел, и дочку взяли на вечернее отделение, чтобы потом тихо перевести на очное.
А Скорятина забрали в армию, в ракетные войска, на Кольский полуостров. Сначала было тяжело, особенно в «учебке», да и потом, в части, нелегко. К изматывающим дежурствам и брюзгливому недовольству офицеров добавлялось дурное всевластие «стариков», гонявших «салабонов», как крепостных. Особенно лютовал сержант Мастрюк, который постоянно всем грозил надавать по ушам и приводил приговор в исполнение, используя для экзекуции колоду засаленных взводных карт. Почему-то он сразу облюбовал Генины уши, торчавшие на стриженой голове подобно двум локаторам на сопке. Было больно и унизительно. Но потом Мастрюк спьяну задрался с чеченцами из автовзвода и попал с переломом основания черепа в госпиталь, откуда его комиссовали. И через год Скорятина, отстегав по заднице ремнем, торжественно перевели в «скворцы», – жить стало лучше и веселее. В части оказалась отличная библиотека, и он много читал, особенно когда стал «стариком» и обрел тот ленивый досуг, какой возможен лишь в последние сто восемьдесят три дня службы на «точке», затерянной в мшистых скалах. Он писал Фазе письма на немецком, она отвечала, указывая ошибки и давая задания. Анна Марковна присылала темы сочинений и экзаменационные вопросы, выведанные у подруги, чтобы он, гордость школы, охраняя родину, мог подготовиться к реваншу. Гена помнил, что в приемную комиссию надо представить свежие публикации, и накатал пару текстов о мужественных буднях Н-ского подразделения, где командиры отечески-требовательны, а солдаты радостно-исполнительны. «Дивизионка» охотно тиснула его заметки под рубрикой «Ратная вахта», которую между собой ракетчики называли «Здравствуй, сказка!». С тех пор по просьбам однопризывников он строчил письма девушкам, томящимся во всех уголках огромного Советского Союза. Содержание было примерно одно и то же:
Вернусь и сразу обниму Тебя, прижав к груди. Жди, не давая никому! А если дашь – не жди!
Офицеры же стали звать писучего ефрейтора «военкором», вкладывая в это слово свое незлобивое презрение к армейской печати.
Ракеты, спрятанные поблизости в бездонной шахте, могли смести пол-Европы, но Скорятин об этом не думал, хотя знал: предполагаемый противник тоже обладает ядерным оружием, способным разнести в пыль Москву вместе с Бабушкинским районом. Атомная война казалась менее реальной, чем замысловатые выдумки Станислава Лема, Айзека Азимова или Роберта Шекли: на гарнизонных полках имелась даже Библиотека мировой фантастики. Бойцы-ракетчики, запершись в каптерке, пили спирт, купленный вскладчину у прапорщика, и пели под гитару, переиначивая советский шлягер:
Летит по небу сорок тонн. Прости нас, город Вашингтон…
Иногда Гена просыпался среди ночи, отгибал край байкового одеяла, служившего шторой, и впускал в казарму немного незаходящего летнего солнца. Он вынимал из-под подушки книгу, открывал страницу, заложенную фоткой одноклассницы, не отвечавшей на письма, и пропадал в чудесном мире чужого воображения. Собрание сочинений Джека Лондона было прочитано дважды с первого до последнего тома. Мартин Иден стал его старшим братом, которому хочется подражать во всем. Лежа на узкой солдатской койке, Скорятин мог часами мечтать о чем-то беспредметно-нежном и бесформенно-грандиозном, в его фантазиях отзывчивая девичья красота переплеталась с земной славой. В реальность бойца возвращал крик дневального: «Взвод, подъем!» Еще он читал фантастику, но вскоре мыслящие вакуумы, влюбленные андроиды, параллельные миры и нуль-транспортировки стали не интересны, как игра в «морской бой» на уроке литературы, когда класс бурно спорит, почему умная и тонкая Наташа Ростова втюхалась в дворянского раздолбая Анатоля Курагина, кинув замечательного Андрея Болконского. Вот тебе и дуб при лунном свете!
Домой Гена вернулся возмужавшим, окрепшим, его лицо, до призыва почти детское, обветрилось и посуровело, а в движениях появилась взрослая уверенность. Если в «учебке» он извивался на турнике, будто червяк на крючке, то через год уже крутил «солнышко». Пока Скорятин, гордясь своей мохнатой, словно бурка, дембельской шинелью, ехал на поезде в Москву, вся казарменная дурь и бестолочь как-то отшелушились, осталась благодарная тоска по тем временам, когда сердце, бесприютное по природе, стучало в добром согласии с ухающим строевым шагом. Перезимовав, он снова подал документы на журфак и поступил без конкурса, как положено тому, кто отдал долг Родине. Кстати, за сочинение на вольную тему «Мое Заполярье» ему поставили «отлично». Экзаменатор даже потом спросил удивленно:
– Вы написали: «Полярный день – это полярная ночь наоборот»?
– Я.
– Недурственно, очень недурственно! У вас способности. Не промотайте!
Темноволосую Марину Ласскую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. Ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться, мечтательно цокая языками. Она играла маленькие роли в студенческом театре, который разместился в университетской церкви Святой Татианы: сцену сколотили как раз на месте алтаря. Услыхав от внука про такое безбожество, бабушка Марфуша в ужасе перекрестилась: «Кому храм, а кому срам». Но бедный влюбленный не пропускал ни одного спектакля с участием Ласской, хотел даже записаться в труппу, но режиссер посмотрел на него грустными глазами и покачал головой: не подходишь. А вот Лёшка Данишевский им подошел и прыгал чёртом в «Черевичках». Отец Алексей теперь в пресс-центре Патриархии служит.
При каждой возможности Гена старался сесть на занятиях поближе к Марине, перехватить ее взгляд, подсказать нерасслышанное слово преподавателя, поднять упавшую тетрадку – все бесполезно: они едва здоровались. Он сообразил, в чем дело, и отрастил на висках волосы, как у актера Боярского, чтобы прикрыть свои броские уши. Не помогло. Ласская продолжала смотреть сквозь него в какую-то тайную девичью даль. Тоскуя, Скорятин уходил после занятий на плац возле психфака и перед зеркалами, вспомнив «курс молодого бойца», лупил по асфальту строевым шагом, удивляя редких студентов и пугая ворон, гревшихся возле вентиляционной будки подземки. Отпускало. Иногда с Ренатом Касимовым они отдавались в опытные руки психологов и, получив по рублю за участие в научных экспериментах, покупали вина. Злоупотребляли тут же на плацу, схоронившись за «паровозом» – бесхозным компрессором на колесах. Это еще лучше помогало от безнадежной любви.
Марина явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь назвали бы мажорами, а тогда именовали блатняками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую «импорть», курили «Мальборо», в крайнем случае «Союз – Аполлон», после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали, сколько бутылок «Киндзмараули» выпили на Пицунде и сколько телок сняли в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде»: деньги небольшие, зато заведующий редакцией Миша Танин, будущий банкир, обещал после университета взять в штат. Возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимопомощи, вылетел с работы.
На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатняки взирали с сонным недоумением, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, не имеет никакого права учиться на журналиста. Он в долгу не оставался и смотрел на них с презрением, как Мартин Иден на глупых и алчных добытчиков. Выходило, вроде бы, неплохо: брови от природы у него были хмурые, а подбородок Скорятин для достоверности выдвигал вперед. Наблюдательный Ренат называл такое выражение лица – «Чингачгук перед казнью». Но ни блатняки, ни Ласская ничего не замечали.
Познакомиться с Мариной поближе было невозможно: после занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же – «семерка» кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина на два месяца пропала. Говорили: болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятий, а, наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали – отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в глаз.
Почему Гена решился подойти – объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость – это когда понимаешь: жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.
Ласская сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена долго прятался за колонной, собираясь с силами. Наконец коротко выдохнул, точно хотел выпить рюмку, подошел к однокурснице и сел рядом. Она чуть отодвинулась, словно не узнала.