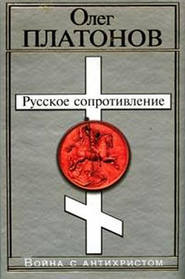скачать книгу бесплатно
Но в 1967 году я гордился своими знаниями; не понимая еще их истинного смысла, я тем не менее чувствовал свою невольную причастность к чему-то очень странному и значительному. Мне не хватало опытного наставника. В христианском смысле оценить смысл новых знаний я еще не мог. Бабушка Поля выслушала меня и строго отчитала, запретив заниматься этой «бесовщиной».
Но я-то уже тогда чувствовал, что интересуюсь этой бесовщиной не на радость бесу, а в ущерб ему.
Весной и летом 1967 в моем сознании происходили изменения – из подростка я превращался в целеустремленного юношу, пока с неосознанными целями, но отвергающего любые попытки просто пустить меня по течению. Образы монастырей и храмов, которые вошли в меня, создали фундамент моей личности. Каким-то особым чувством я понял, что именно там хранится главное в жизни человека, то, ради чего человек создан и ради чего его жизнь имеет смысл и ценность. Я стал посещать церковные службы, тихо заходил, становился в уголке и молился. Полюбив христианские образы и видя, в каком состоянии находится большинство христианских храмов, я начал осознавать, что против христианства идет непрекращающаяся борьба. Почти физически я начинал осознавать, что чистые, светлые силы бытия подвергаются атаке темных, страшных чудовищ, ненавидящих любимые мною храмы и саму Россию.
Конкретные примеры такой атаки я видел в разрушении церквей и памятников, исторических застроек Москвы. В 60-е годы на моих глазах закрывались и разрушались церкви. Взрывается ряд ценных архитектурных построек в Кремле, сносятся церковь Благовещенья, что на Бережках, 1697 год (на Ростовской набережной), Тихвинская церковь в Дорогомилове, 1746 года (около Киевского вокзала), Преображенская церковь XVIII века (на Преображенской площади), церковь Иоакима и Анны XVII–XVIII веков (на ул. Б. Якиманка) и Николы Чудотворца в Ямах XVII–XVIII веков; исчезают с лица земли Собачья площадка, дом Хомякова (где в 1920-е годы находился музей 40-х годов XIX века), десятки старинных московских домов и особняков.
Вместо разрушенных самобытных старинных московских построек возводятся безликие, однообразные коробки, спроектированные архитекторами-космополитами Посохиным, Макаревичем, Иофаном, Гельфрейхом и т. п. Ни одна столица мира не знала такого варварства в отношении к бесценным памятникам национального зодчества, которое в Москве осуществляют «творцы» вроде Посохина. Этот архитектор-космополит, «подаривший» Москве унылое, стеклянное здание Дворца съездов в Кремле, при осуществлении своего плана застройки Арбата (Калининского проспекта) с какой-то патологической яростью настаивал на сносе русской церкви XVII века на Поварской улице. К счастью, русские патриоты в буквальном смысле слова легли под бульдозер, но не позволили уничтожить святыню.
В это время у меня возникает идея написать полную историю московских улиц. Проследить по архивным источникам, как развивались архитектурные формы жизни из века в век, из год в год. Как на место изб приходили особняки, затем доходные дома. Мистическое движение жизни в архитектурных формах, быт простых и великих людей завораживали меня своей неодолимой тайной.
Осенью 1967 года мы поехали на обследование скита Саввино-Староржевсого монастыря. Какой-то знакомый Гены сообщил нам, что там на чердаке сохранились старинные книги. Мы обшарили все, нашли немало остатков церковной утвари, а книг не было. Возвратившись, мы собрались у Гены и стали обсуждать дальнейшие планы. В этот вечер я впервые встретился с роковой для нас с Геной девушкой по имени Наташа, получившей от Гены прозвище Миледи в духе романов Дюма. Это было очаровательное белокурое шестнадцатилетнее создание, чувствовавшее свою власть над мальчиками и получавшее от того явное удовольствие. Ни я, ни Саша до этого дня не знали ее, только слышали, что она и есть таинственная дама сердца Гены, в которую он был влюблен и о которой много говорил. Мне она сразу же понравилась; увидев ее, я растерялся. Она это почувствовала. После ее появления наша монастырская тема сразу же заглохла. Мы начали нести какой-то вздор, много смеялись. В конце концов я вызвался проводить Наташу до дома. На следующий вечер мы уже целовались. Вечерние встречи у Гены прекратились, так как все свободное время я проводил с Наташей. Несмотря на мою опытность, дальше поцелуев наши отношения не шли. Дамой сердца Гены Наташа стать не желала, ее больше тянуло ко мне.
Гена ревновал, переживал. В разговорах с Сашей называл меня предателем, а Наташу «коварной Миледи», хотя она никаких обещаний ему не давала. Гена даже заболел. Мы пришли его навестить. Его мама шепотом сообщила нам, что сын страдает от «жестокой, бессердечной девочки, которая отказывается даже разговаривать с ним по телефону». Генина мама просила нас чаще посещать сына. Но видеться с Геной мне с каждым разом становилось все труднее. Он рассказывал о Наташе всякие небылицы, называл ее девушкой легкого поведения. Портились отношения и с Наташей. Ее возмущали выдумки Гены, которые он распространял среди наших общих знакомых. Наташа считала Гену подлецом, настаивала, чтобы я порвал дружбу с ним. Наташа была мне нужна, меня тянуло к ней, но и с Геной я не мог порвать. А он чувствовал мою растерянность, проявлял чудеса интриганства, через третьих лиц распространяя слухи, что Наташа якобы встречается еще с одним парнем. В этой интриге он нашел себе союзника в лице моей одноклассницы Тани Прохоровой, которую я воспринимал как друга, а она имела на меня свои девичьи виды. Некоторое время я и Наташа продолжали встречаться, перезванивались, но как-то незаметно между нами вырастала стена. В начале 1968, когда, казалось, все отношения между нами угасли, она вдруг позвонила мне и сказала: «Один человек предлагает мне стать его женой. Как мне быть?»
– Ты его любишь? – просил я.
– Не знаю.
– Решай сама.
Сказав это, я почувствовал, что теряю что-то важное, хотя по-настоящему все понял позднее. Тем более как раз в это время я встречался с девушкой Ниной, жившей рядом с Петровским парком недалеко от Академии Жуковского (бывший Путевой царский дворец). Почти рядом с ее домом находился особняк «Черный лебедь» масона Рябушинского. И какие действительно бывают в жизни совпадения – дед Нины до революции приходил наниматься к Рябушинскому на работу. После 1917 в особняке устроили ресторан, а в 30-е годы – одну из «шарашек» ГУЛАГа – научное учреждение, где работали заключенные. Отец Нины, инженер, был осужден по политической статье «за анекдот» и попал в эту «шарашку». Гуляя с Ниной по окрестностям Петровского парка, я еще не знал, что при большевиках здесь проходили расстрелы русских патриотов, здесь же зарывали их тела. Еврейские палачи убили, в частности, духовного русского писателя о. Иоанна Восторгова, близкого Царской семье епископа Ефрема, министров-патриотов царского правительства И. Г. Щегловитова и Н. А. Маклакова. Наши горячие поцелуи и объятия проходили рядом с этими святыми для каждого русского человека местами, совсем по Пушкину: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть…»
Ранней осенью 1967 года моя мама составляла смету на ремонт дома по Газетному переулку. При осмотре одной из квартир она познакомилась с Евдокией Федоровной Никитиной, женой расстрелянного в годы революции крупного масона, министра внутренних дел Временного правительства А. М. Никитина. С 1914 Никитины собирали салон, в котором опытные «вольные каменщики» подготавливали себе смену. Заседания салона под названием «Никитинских субботников» продолжались и после расстрела Никитина в 1920-х годах. В заседаниях участвовали член Великого Востока Франции А. В. Луначарский, глава розенцрейцеров Б. М. Зубакин, Н. Л. Бродский, Ю. И. Айхенвальд, Л. П. Гроссман и др. Регулярно приглашалась студенческая молодежь. В 30-е годы Никитинские субботники прекратились, чтобы возобновиться в «оттепель». Никитина и «зубры» либеральной интеллигенции 20-х годов привлекали сюда молодежь, стремясь воспитать ее в духе космополитических идеалов и западного либерализма, привить вражду к русской истории и Православной церкви. Мама, услышав, что «Никитинские субботники» продолжают собираться, и зная мою любовь к литературе, попросила Никитину разрешить мне посещать эти вечера. Никитина, к тому времени семидесятидвухлетняя старушка, милостиво разрешила, выдав в качестве пропуска пустой бланк с эмблемой «Никитинских субботников».
В ближайшую субботу я прибежал на заседание в числе первых. Меня провели в большую комнату с длинным столом посредине, уставленным тарелками с печеньем и пирожками и чашками с блюдечками, двумя большими чайниками. Стулья вокруг стола стояли в два ряда. Молодежь вроде меня рассаживалась во второй ряд. Впрочем, во втором ряду сидели не только молодые. Было довольно тесно, вдоль стен стояли закрытые шкафы. С некоторым опозданием появились «мэтры», быстро заполнившие первый ряд и сразу же приступившие к чаепитию. Большинство присутствовавших знали друг друга. В этот день присутствовали мэтры Борис Абрамович Слуцкий и Владимир Моисеевич Луговой, критик Нея Марковна Зоркая.
Вечер начал Слуцкий. Сказав несколько слов о воспитании молодежи в духе коммунистических идеалов и интернационализма (и как я понял уже позже – еврейского мессианизма), поэт без всякого перехода начал декламировать свои стихи, с завыванием и выкриками. Мне, воспитанному на Пушкине и Тютчеве, содержание его стихов не было ясно, казалось, что они были зашифрованы для избранных. Еврейская студенческая молодежь, обильно присутствовавшая на вечере, каждое стихотворение принимала с восторгом, дружно хлопая. Я не хлопал, задумавшись, искренно стараясь понять смысл стихов. После выступления Слуцкого и попытался обсудить его стихи с одним из наиболее ревностных его поклонников. Мои вопросы поклонник расценил как скрытую иронию (или издевательство) и металлическим голосом сказал: «Ты ничего не понимаешь в великой (!) поэзии!» – и отвернулся. За чаем, который пили только мэтры, началось обсуждение. Мне запомнилось, что Зоркая открыто ругала А. Твардовского за то, что он не любит «Женю Евтушенко», колхозник Твардовский не может понять великого поэта. Вообще все обсуждения сводились к восхвалениям «великих», которыми, как правило, были евреи. Иногда было такое ощущение, что русская классическая литература существует параллельно с «современной великой», которую воплощают Пастернак, Эренбург, Слуцкий, Евтушенко, Шкловский, Маршак. Светлым воспоминанием вечера стало выступление дочери поэта К. Д. Бальмонта Нины. С большой теплотой и чувством она читала стихи отца и рассказывала о нем.
На следующем субботнике у Никитиной много говорилось о романе Цветаевой и Б. Пастернака. Никитина показывала кресло, на котором они целовались в ее доме. Подробности этого романа в устах Никитиной носили какой-то мелочный характер. Потом выступал некто Федоров (?). По его версии, Маяковский не покончил жизнь самоубийством, а был убит черносотенцами из круга Есенина. Без всякой связи, как о чем-то наболевшем, перекинулся на тему современных черносотенцев. По мнению большинства присутствовавших (мнение это никто не оспаривал), современными черносотенцами были М. Шолохов, Л. Леонов, И. М. Шевцов и другие русские писатели, «клевещущие и преследующие» великих и талантливых евреев. На этот вечер я принес подписать письмо в МГК КПСС с протестом против намечавшегося сноса церкви св. Николая. Письмо я пустил по рядам. Хотя в комнате присутствовало около 30 человек, свою подпись поставили только два студента, а Никитина попросила меня больше не приносить на ее субботники «подобные бумаги».
Третье и последнее посещение «Никитинских субботников» – этой кузницы космополитических, антирусских кадров, было связано с большим скандалом. Вечер начался с чтения стихов какого-то молодого поэта, которого дружно назвали талантливым и многообещающим. А затем слово попросил учитель из Одессы некто Ефим Махровский (?). Он заговорил о необходимости развеять «черносотенные мифы русской истории». Для начала он объявил «Слово о полку Игореве» грубой фальшивкой вроде Велесовой книги, поздней выдумкой русских «патриотов» (в устах Махровского это слово звучало как ругательство). По мнению учителя из Одессы, говорить о русской культуре до XVIII века некорректно. Она пришла в Россию с Запада с Петром I. Согласно Махровскому, Древняя Русь не была самобытным славянским государством, а искусственным образованием, рожденным еврейской культурой. История Руси создана евреями. Они дали ей не только свое имя (Кий, по Махровскому, был евреем) но и правящую династию Рюриковичей. Пассивное начало славянских племен оплодотворялось еврейской активностью. На этом вечере я услышал и другие откровения в таком же роде. Древняя, но очень агрессивная бабушка по фамилии Брунштейн поведала присутствующим о решающей роли евреев в строительстве СССР. Сколько выдающихся еврейских деятелей отдали свою жизнь во им революции и победы нового общественного строя! Подавляющая часть революционных вождей были евреями! Бабушка Брунштейн рассказала о том, что сам Ленин по матери был евреем.
Обсуждения докладов, вероятнее всего, были хорошо срежиссированы. Реально никто по существу не возражал. Почти все выступавшие «оппоненты» под видом возражения пели дифирамбы Махровскому. Получалось взаимное восхваление, осанна иудейскому племени. Торжественную еврейскую мессу нарушил подвыпивший старичок: «Все это ложь, а ты сионист!» – закричал он Махровскому и кинулся на него с кулаками. Думаю, что в этом случае самым уместным аргументом на антирусские аргументы Махровского был бы мордобой. Однако соплеменники стали грудью на защиту сиониста, я же, воспользовавшись суматохой, незаметно покинул этот дом, чтобы никогда сюда не вернуться. Под впечатлением услышанного я вначале собирался написать письмо в КГБ, чтобы рассказать о подрывной деятельности «Никитинских субботников». Но, к своему стыду, не хватило решимости, боялся прослыть доносчиком. Могу представить, как бы презирал меня мой прадед, узнав о моем либерализме и боязни стать доносчиком. Ведь речь шла о борьбе с врагами моего народа. Кроме «Никитинских субботников» в Москве во второй половине 60-х годов было еще немало и других центров по подготовке антирусских космополитических кадров, которые и дали свои ядовитые плоды в 80—90-е годы. По словам некоторых евреев – посетителей «Никитинских субботников», антирусский сионистский салон, состоявший преимущественно из учащейся молодежи, собирали К. Паустовский в Тарусе, а также И. Эренбург в своей московской квартире. В салонах этих культивировались идеи Талмуда, особого избранничества и одаренности евреев. Именно из них вышли сионистские деятели, впоследствии составившие контингент авторов альманаха «Метрополь» и ядро сионистской организации «Апрель».
Я много думал, читал, путешествовал по окрестностям Москвы и ее достопамятным местам, много времени проводил в Тургеневской библиотеке и вместе с тем именно тогда, в восемнадцать лет, во мне определилось и прошло через всю мою жизнь возвышенное чувство зависимости от женского, девичьего начала. Зависимость не просто от любовных встреч и чувственных радостей (хотя это тоже было), а зависимость от влекущего чувства найти такую женщину, которая станет моей частью, умеет понять мои стремления, особый мир моей жизни.
Но чаще всего было так: женщины вдохновляли меня, создавали тонус моей жизни, подталкивали к решительным поступкам, но не затрагивали моей души, остались вне духовных интересов моей жизни. Почти каждая заинтересовавшая меня женщина давала мне что-то важное, но вместе с тем как бы обтекала меня, не оставляя во мне никакого сожаления об утрате. Фея, Белоснежка, Суженая, Чародейка, Красная Шапочка, Актриса, Лукавая и другие (я специально зашифровал женские имена) прошли рядом со мной драгоценными образами. Но только Суженая (моя жена Таня) и Красная Шапочка стали частью моей жизни (последняя ненадолго).
Созревание национального чувства. – Осознание духовной брани двух начал – русского и антирусского. – Презрение к Окуджаве. – Восхищение И. Глазуновым, М. Лобановым, В. Солоухиным, И. Шевцовым. – Тяга к организованным патриотам. – Клуб «Родина». – ВООПИК
Время моего возмужания, период с 1968, – особый этап в истории нашей страны. На моих глазах столкнулись две идеологические силы – православно-патриотическая, идущая из исторической России, и либерально-еврейская, растущая из могилы еврейских большевиков и дореволюционных масонов. Столкнулись дети тех, кто тысячи лет строил великую Россию, и дети еврейских комиссаров, расстреливавших ее. Молодая поросль евреев в 60-х годах называла себя «чуваками», что на их птичьем языке означало – «человек, уважающий высокую американскую культуру». Было ли слово «чувак» введено в оборот этой, по сути дела, «дикарской среды» зарубежными спецслужбами или каким-нибудь отпрыском советской чиновничьей верхушки, оно схватывало самое главное в их жизни – преклонение перед Западом и презрение к России. Все остальные люди, жившие в СССР, на языке чуваков именовались либо «совками» (русские, разделявшие восторг чуваков западным образом жизни), либо «чурками» (представители национальных меньшинств).
Лишенные корней и высоких патриотических чувств, искавшие случай в жизни уехать на Запад, чуваки в массе отличались пошлостью, дурным вкусом, склонностью к сальным шуточкам и просто «порнографией духа». У нас во дворе жила еврейская семья торговых работников. Сын их Генка Болеба открыто мечтал уехать из России за рубеж, а в этой жизни занимался фарцовкой. Себя он называл чуваком, а меня совком. Спекуляция импортным ширпотребом среди чуваков считалась почетным делом.
Между собой эта публика объяснялась на особом птичьем языке – смеси отдельных слов английского, еврейского и искаженного русского. Вот два характерных диалога, записанных мною в те годы. Первый об отношениях с девушкой.
– Без кайфа нет лайфа, – говорил один, – я тебе клевую фенечку расскажу. Зафакал я клевую герлу, у нее пэрэнты крутые совки. Папик ходит в вайтовых трузерах, а шузы все равно совковые. Ха-ха-ха!
– Кончай свой стеб, – говорит, в свою очередь, другой, – я от этой телки торчу. У ней папик мажор, прикид стремный, не хочешь – не факай. Я ее сам подпишу на фак.
Или еще один диалог о посмотренном фильме:
– Этот фильм такой совок. Джаст а хип впадет в тоску – все хэнды попилены. Режиссер левый мэн. Никакого кайфа.
– И мне он не в кайф, такая шиза.
С приходом к власти Хрущева большевистские погромщики поняли, что могут взять реванш. В руководящие органы партии хлынули тысячи озлобленных евреев. На телевидении широко внедряли образ передового человека, носителя прогресса, «с добрыми еврейскими чертами лица», со специфическими интонациями и мотивом речи, которые как бы подготавливали второе пришествие деятелей либерально-масонской идеологии. Новый погром русской культуры осуществляли под лозунгом возвращения к ленинским принципам. Снова начались разгромы церквей, преследования священников. Враги России призывали к коммунизму в духе еврейского хилиазма и хлестали русских патриотов цитатами из Ленина. Помню кучку демонстрантов (в основном евреев) возле памятника Маяковскому летом 1968 года, призывавших поддержать «народное» восстание в Праге. Был там полный набор отпрысков еврейских большевиков: Свердлов, Якир, Литвинов, Тарсис, Румянцев и др. Все они уже обзавелись покровителями на Западе, снабжавшими их деньгами и посылками с вещами. В руках одного из них был том Ленина. Еврейский пиит читал стихи, в которых были слова «не позволим осквернить ленинское знамя» (в смысле подавления «народного» восстания). На мое справедливое замечание, что «восстание» подготовлено на деньги ЦРУ, один из демонстрантов заученно кинул мне: «Провокатор!» В 1990-е годы были опубликованы подробные сведения, как создавалась «пражская весна». Десятки агентов западных спецслужб, координируемых ЦРУ, развозили в просторных сумках миллионы долларов для зачинщиков беспорядков. Дубчек, Гавел и другие агенты влияния Запада при активном содействии сионистов и масонских организаций не нуждались в средствах. На эти американские деньги покупались услуги наемных убийц, стрелявших в спину русских солдат. Подкупленные проститутки после сношения со своими дружкам бежали в полицию с требованием их освидетельствовать, заявляя, что их изнасиловал «оккупант». Впрочем, слишком поздно мы узнали, что и демонстрации в поддержку «народного» восстания на площади Маяковского и возле Кремля тоже были инспирированы на американские деньги.
Бывшие агенты американских спецслужб сейчас уже не боятся говорить, как они строили так называемое диссидентское движение, опираясь на «недовольных евреев и психически неуравновешенных людей». Они откровенничают, как в целях «расшатывания России» ЦРУ использовало «сионистский дух» евреев, приобретший организованный характер с 1967[5 - Маркиш Э. Столь долгое возвращение. Тель-Авив. 1988. С. 337–338.]. В библиотеке Конгресса США я ознакомился с признаниями видной сионистки Э. Маркиш. Шестидневная война на Ближнем Востоке, писала она, «все расставила по своим местам в психологии российского еврейства… многими среди российского еврейства был сделан категорический выбор: «Израиль – это родное, Россия – это в лучшем случае двоюродное, а то и вовсе чужое». Так рассуждали не только те евреи, которые уже тогда решили свою судьбу: вырваться в Израиль. Так же рассуждали и те, кто на работе утверждал обратное…[6 - Маркиш Э. Столь долгое возвращение. Тель-Авив. 1988. С. 337–338.]
О вводе наших войск в Чехословакию я узнал, сидя с друзьями в пивном баре на Цветном бульваре. Я сразу же почувствовал, что сделано было правильно. Мы, русские славяне, спасали чешских славян от возможной оккупации Запада, который всегда старались перемолоть, использовать и уничтожить славян. У меня улучшилось настроение, и я стал объяснять своим друзьям благотворное значение этого шага. Мы были довольны, зато два еврея за соседним столиком заметно погрустнели. А я встал с места, поднял кружку пива и громко произнес слова: «За успешный ввод наших войск в Чехословакию!» Подавляющая часть зала поддержала меня, кроме двух типов за соседним столиком, которые выскочили из бара как ошпаренные, даже не допили своего пива, что-то бормоча про антисемитов. Эти люди воспринимали русское дело как враждебное, а все антирусское как свое, национальное. Русских патриотов они называли невежественными скифами, темными неудачниками. Известный еврейский бард, сын большевистского комиссара Б. Окуджава в своем кругу глумился над русским людьми, смеялся над их искренностью и добродушием, называл это признаком неразвитости. Навсегда мне запомнился вечер в Доме техники на Мясницкой (тогда ул. Кирова) в 1967 или 1968 году. На этом вечере Окуджава открыто говорил, что не верит ни в Бога, ни в патриотизм. «Когда я родился, – заявил он, – меня не крестили, меня октябрили, заместо Библии была книга Ленина. Я душой связан с Октябрем».
Одно из высших выражений духовности человека – патриотизм – Окуджава считал свойством неразвитых людей, чувством, подобным «кошачьей привычке к одному дому». Такой примитивный взгляд на мир Окуджава выражал в своих песнях, которые он исполнял плохо, блея, чуть ли не икая.
Христианство принесло человечеству огромное богатство чувств, переживаний, нюансов постижения духа. В песнях Окуджавы все это отрицалось, опошлялось, обеднялось, сводилось к убогим представлениям космополитов, ориентированных на теплую квартиру и хорошую пищу, идеалы местечкового еврейства.
«Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия», – пел, бренча на гитаре, этот еврейский бард, тоскуя по временам, когда его соплеменники чувствовали себя полными господами великой страны.
Арбатство, растворенное крови,
Неистребимо, как сама природа, —
декларировал сын большевика. —
Ах, Арбат, мой Арбат!
Ты мое призвание,
Ты и радость моя, и моя беда.
Или:
Солнце, май, Арбат, любовь —
Выше нет карьеры…
Патриотизм воспринимался Окуджавой как опасность, как вызов его соплеменникам. Отсюда его патологическая ненависть к патриотам и русским. По Окуджаве, «стать патриотом» значит «смешаться с толпой», а русские – «рабы» и «язычники» (т. е. гои).
Все, что пел и говорил в этот вечер Окуджава, было своего рода антирусским манифестом либерально-еврейских кругов. С тех пор Окуджава стал для меня символом пошлости, космополитизма, мещанского духа местечкового еврейства, своего рода эталоном всего того, что нельзя принимать русскому человеку.
Под стать Окуджаве был и другой еврейский бард А. Галич, пьяница и наркоман, поразивший меня во время выступления в Политехническом музее (или ЦДЛ?) фантастческими рассказами о своих встречах (?) с Ф. Юсуповым, убийцей Г. Распутина. В мерзкой манере он сочинял гнусные подробности из жизни последнего русского царя, вываливая на память о нем все бездны собственной растленности и ненависти к России.
Во второй половине 60—70-х годов вокруг Окуджавы, Галича, Слуцкого, Эйдельмана, Коржавина существовали кружки еврейско-космополитической ителлигенции, вызывавшие во мне отвращение не только из-за их растленно-антирусского духа, но и из-за смехотворных претензий на «элитарность» и «первенствующее положение» в русской культуре. В то время я с жадной любознательностью ходил по разным вечерам, лекториям, литературным встречам. Среди многочисленных выступавших и лекторов я скоро научился определять представителей этих еврейских кружков (причем, необязательно все они были евреи), вносивших в культурную жизнь диссонанс и местечковые разборки.
Особенно неприятные чувства во мне вызывали Н. Эйдельман и С. Рассадин с их самоуверенными и, по сути дела, невежественными рассуждениями о русской истории. Ее они коверкали так, чтобы языком событий прошедших эпох навести слушателей на определенные мысли о современной русской жизни. Вероятно, им казалось, что они поступают очень тонко и умно. На самом деле все это выглядело очень примитивно и малоубедительно. Ни одно из выступлений не обходилось без восхваления друг друга. Рассадин хвалил Эйдельмана, тот его, а все вместе пели дифирамбы Окуджаве, Галичу, Слуцкому и другим еврейским «гениям».
Почти физически я ощущал их убогий, одномерный мир безбожников, антипатриотов, пошляков, зацикленных на своих племенных переживаниях и чаяниях, ненавидящих все русское и глумящихся над историей России. Это был мир того самого Хама, который после 1917 года громил русскую культуру, был повержен в эпоху Сталина и возрожден стараниями Хрущева… По отношению к русской жизни это был антимир – скучный, серый и пустой, ужасный своими потугами возвыситься над русскими людьми.
В 1968–1969 я несколько раз бывал на выступлениях еще одного еврейского барда В. Высоцкого. Безусловно, он выгодно отличался от Окуджавы. Во всяком случае, в нем не было пошлости и духа местечкового мещанства. Признаюсь, тогда он мне понравился. Не лишенный песенного таланта и за это принимаемый частью русских людей, деформированных десятилетиями космополитической власти, этот бард, тем не менее, а это я понял гораздо позже, был глубоко чужд России, примешивая в ее народную культуру несвойственные ей уголовные, блатные нотки. Как справедливо писал русский поэт С. Куняев: «Высоцкий многое отдавал за эстрадный успех. У «златоустого блатаря», по которому, как сказал Вознесенский, должна «рыдать Россия», нет ни одной светлой песни о ней, о ее великой истории, о русском характере, песни, написанной любовью или хотя бы блоковским чувством… Знаменитый бард ради эстрадного успеха, «ради красного словца» не щадил наших национальных святынь… Песни (его)… не боролись с распадом, а наоборот, эстетически обрамляли его».
Кумиры, на которых я тогда равнялся, были совсем иными. Патриотический дух привили мне родители, любовь к храмам и монастырям создала во мне совсем другую систему образов, к которой я тянулся. Конечно, главными были русская художественная и литературная классика, посещение Третьяковской галереи, музеев, чтение запоем исторических романов. Однако, как всякого молодого человека, меня тянула и современность, хотелось видеть, что великая культура, созданная в прошлом, прорастает и в нашу жизнь. Кумиры либерально-еврейской молодежи тянули нас либо снова к Гражданской войне в 20-е годы, либо на Запад. Для меня и моих друзей это было неприемлемо, интересы отпрысков еврейских комиссаров были нам чужды, их кумиры скучны и фальшивы. Их искусство было не настоящим искусством, а зашифрованной знаковой системой (вроде песенок Окуджавы), чтобы объединить своих. Мы же, русская молодежь, жаждали своих кумиров (в молодости это вполне естественно). И мы обрели их. Помню, первыми нашими кумирами стали великий русский художник Илья Сергеевич Глазунов и замечательный русский публицист Михаил Петрович Лобанов. Первый доказал нам, что великое русское христианское искусство успешно развивается и сейчас, второй – подтвердил нам, что наши взгляды на идеологию Окуджавы и других отпрысков еврейских комиссаров являются не мнением одиночек, а неотъемлемой частью великой реки русской национальной мысли. Во мне и в тысячах других русских людей работы Глазунова и Лобанова создавали чувство уверенности в будущем нашего народа.
Художник Илья Глазунов – великий русский человек, далеко перешагнувший сферу живописи и ставший одним из глубочайших выразителей русского духа, духовным мыслителем, равным по своему значению И. Киреевскому, А. Хомякову, К. Аксакову, Н. Данилевскому. В созданных Глазуновым образах многие русские люди могли понять то, что было написано в произведениях самых выдающихся выразителей русской национальной мысли. Еще не познакомившись с трудами славянофилов, я получил от картин Глазунова много из того, что было написано в их книгах. Впервые на одну из выставок Глазунова еще в 1964 году меня привел отец. Помню возбужденные толпы и чувство великого, таинственного, родного, но еще мне не совсем понятного. Осознание величия трудов Глазунова пришло только в 1967–1968. Образы русской истории оживают для меня в картинах «Иван Грозный» и «Борис Годунов», «Князь Олег» и «Андрей Рублев», «Царевич Дмитрий» и «Русский Икар». Увлекаться Достоевским я стал после знакомства с иллюстрациями к его произведениям Глазунова. Через видение Глазунова мне стали более доступны многие персонажи книг Мельникова-Печерского, Лескова, Гончарова, Лермонтова, Островского. Помню, как с друзьями мы рассматривали иллюстрацию Глазунова к А. К. Толстому «У фрески «Страшный Суд». Возле своей кровати я повесил вырезанную из журнала картину «Господин Великий Новгород».
Через много лет, познакомившись с Ильей Сергеевичем лично, подолгу беседуя с ним, я понял, какого труда стоило ему пробиться с русскими образам через враждебную среду. С первых его успехов на него ополчились еврейские критики во главе с Б. Иогансоном. Критиков раздражало увлечение художника древнерусской живописью. В традициях пролеткульта они обвинили Глазунова в «достоевщине» и «поповщине», приводя при этом цитаты из Ленина. Еврейские круги относились к Глазунову с нескрываемой ненавистью, объявляя его картины враждебными социализму.
Искусство Ильи Глазунова стало знамением нарождающегося русского движения, символом мира русских патриотов. Можно даже сказать, что к концу 60-х Глазунов стал своего рода неформальным лидером «русской партии». Я и мои друзья, не задумываясь, «вступили» в эту партию.
В апреле 1968 в журнале «Молодая гвардия» появилась статья М. П. Лобанова «Просвещенное мещанство». Чтение этой статьи произошло как раз после нашего похода на вечер Б. Окуджавы, вызвавший у нас отвращение. Лобанов сформулировал то, что еще неосознанно бродил о в наших душах. Он обозначил одну из главных характеристик того, чего мы не хотели принять как враждебное русской культуре – «просвещенное мещанство», проявление местечковой еврейской культуры. «Все на свете можно опошлить, – писал Лобанов, – и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства». Автор коснулся в статье и пресловутого Окуджавы, справедливо показав его чуждость для России. В статье подчеркивалось разлагающее влияние местечкового мещанства на русскую культуру. В свою записную книжку я занес цитату из этой статьи, которую потом не раз зачитывал: «У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство – все мини. И Родина для них мини». Мы были в восторге! Сам Лобанов рассказывал мне позднее, что реакция либерально-еврейских кругов была страшной, как будто он посягнул на их «самое святое». Лобанова травили, не давали печататься. Мужественный, стойкий человек, фронтовик, тяжело раненный на Курской дуге, Лобанов не поддался на попытки еврейских кругов заставить его замолчать. Для русской молодежи он стал одним из любимых авторов, его статьи и книги мы читали в первую очередь.
После Глазунова и Лобанова среди русской молодежи большой популярностью пользовался писатель Владимир Алексеевич Солоухин. Впервые я его увидел в каком-то студенческом клубе (возможно, МАИ), где он выступал вместе с нашим кумиром Глазуновым в рамках клуба «Родина». Он был известен как автор замечательной книги о русском культурном наследии «Письма из Русского музея». В своей патриотической деятельности Солоухин так же, как и мы, был последователем Глазунова. Вместе с последним он стал одним из зачинателей общественного движения за сохранение национального, культурного достояния, исторических памятников и достопамятных мест. Мы не знали, что уже тогда Солоухин собирал материалы для книги «Последняя ступень», где остро ставил вопрос о еврейском засилье в России, о стремлении иудейских вождей к мировому господству над человечеством[7 - Об этом Солоухин рассказал мне в сер. 90-х годов. Он очень боялся, что у него обнаружат эту книгу, и отвез ее на сохранение в США, передав архиепископу Антонию в Лос-Анджелесе, завещав опубликовать ее в случае своей смерти. Писателю удалось издать ее при жизни в 1995 г.].
Клуб «Родина», о котором я упомянул выше, стал местом притяжения русской национальной молодежи. Лично я участвовал только в отдельных вечерах и лекциях клуба «Родина», проводимых в институтских домах культуры, «красных уголках» студенческих городков. Главная же деятельность «Родины» заключалась в безвозмездной помощи в восстановлении Крутицкого подворья и других памятников русской архитектуры в Коломенском, Радонеже, Больших Вяземах. На отдельных вечерах, помню, присутствовали писатель Л. Леонов, певец И. С. Козловский, поэты Г. Серебряков, И. Лысцов, а чаще всех знаменитый архитектор-реставратор П. Д. Барановский, один из руководителей клуба. Именно здесь я впервые увидел замечательных русских общественных деятелей того времени – Василия Дмитриевича Захарченко (гл. редактор журнала «Техника – молодежи»), Виктора Алексеевича Виноградова и Олега Игоревича Журина. Два последних были архитекторами, учениками Барановского, впоследствии видными активистами общества «Память». Среди активистов клуба «Родина», наверно, впервые в СССР стала распространяться антисионистская литература. Солоухин рассказывал мне, что именно здесь он впервые познакомился с «Сионскими протоколами».
В этом же году отец принес мне почитать сильно затертую, ставшую почти ветхой от рук сотен читателей книгу Ивана Михайловича Шевцова «Тля». В ней впервые в советский период рассказывалось об идеологической борьбе патриотов и космополитов. Шевцов высказал вслух то, о чем перешептывались на своей кухне многие честные, но робкие интеллигенты, не решаясь открыто обсуждать опасность сионизма, боясь получить клеймо антисемита. С этим великим русским патриотом я познакомился и подружился только в конце 90-х годов. Но с первого романа полюбил его, чувствуя родственную душу. С юношеских лет Шевцов испытал на себе опасность сионистского подполья. Еще будучи школьником, работая литсотрудником в Шкловской районной газете, Шевцов был удивлен, что весь аппарат редакции, начиная с корректора и кончая редактором, состоял из евреев, которые между собой разговаривали только на идише[8 -
Здесь и далее рассказ о деятельности И. М. Шевцова дается в изложении самого Ивана Михайловича. Впервые опубликован мною в энциклопедическом томе «Русский патриотизм» (М., 2003).]. И в дальнейшем, при частой смене редакторов, все оставалось по-прежнему. Когда Шевцов начинал сотрудничество в газете, редактором был Гершман, его сменил Герцович, потом Роберман и, наконец – Трапер. Сельского паренька удивило и то, что все руководство района было еврейское. Когда он поступил в педтехникум г. Орши и стал сотрудничать в городской газете в качестве внештатного репортера, увидел то же самое, что и в редакции шкловской газеты. В Орше пединститут и педтехникум размещались в одном здании. Юноша обратил внимание, что директором института был Левин, а техникума Тодрин – оба евреи. Посещая по заданию редакции предприятия города, Шевцов увидел ту же картину: директора и главные инженеры заводов – евреи по национальности. Проницательный юноша не мог не задуматься над таким нелогичным явлением, не анализировать: почему эта немногочисленная нация занимает командные посты? А тут еще подвернулся случай, коснувшийся лично Шевцова. Студент-однокурсник, некто Маневич, с которым Шевцов откровенно поделился своими наблюдениями, написал в дирекцию донос, обвинив Шевцова в антисемитизме. Реакция последовала незамедлительно: Шевцова, даже без формального разбирательства, исключают из техникума. Но вмешалась республиканская газета, опубликовавшая статью своего корреспондента «Как в Орше понимают бдительность», и приказ об исключении был отменен. Но оскорбленный юноша не пожелал возвращаться и поступил в Саратовское училище пограничных войск. Шел 1938. Тогда многие юноши мечтали о героической романтике. С мечтой о границе связывали самые благородные стремления и жажду подвига, к чему и стремился Шевцов. Но шкловская история навсегда отложилась в восприимчивой юношеской памяти Шевцова. Он анализировал ее и будучи начальником погранзаставы в 1940–1941, и разведчиком, и командиром роты в битве за Москву, и особенно в последние годы войны, когда он работал в редакции журнала «Пограничник», где в аппарате и среди авторов было всего 2 славянина, включая самого Шевцова.
Борьбу с космополитами в конце 40-х Шевцов встретил в должности специального корреспондента газеты «Красная звезда», где на смену гл. редактору Ортенбергу пришел генерал-славянин Фомиченко.
Русская патриотическая интеллигенция встретила борьбу с космополитизмом с пониманием и одобрением. Для журналиста Шевцова, познавшего еще в молодости засилье евреев во всех сферах жизни, их высокомерие и подрывную деятельность, еврейский вопрос приобретает особую актуальность, достойную серьезного исследования и анализа. Он включается в борьбу с сионистами. В 1944 на страницах газеты «Красная звезда» появляется большая статья «Против антипатриотов в батальной живописи», подписанная И. Шевцовым и руководителями студии военных художников им. Грекова.
Иван Михайлович был, по сути дела, первым крупным советским писателем, который открыто выступил против развращающего влияния еврейства в русской культуре. Шевцов подробно рассказал мне, как создавался его знаменитый роман «Тля». Казалось, что время для издания было самое подходящее (1946–1948) – разгар борьбы с безродными космополитами, под которыми подразумевались евреи-сионисты. Однако даже в это время издать роман было нелегко. Иван Михайлович передавал мне ощущение тех лет:
«Я – молодой военный журналист – был дружен с художниками студии им. Б. М. Грекова и погранвойск. Там тоже часто звучали нелицеприятные слова «формалист», «космополит», «абстракционист». Сюжеты, характеры и образы действующих лиц – искусствоведов и художников лежали на поверхности, сами просились на бумагу. Да и с фамилиями, по молодости, я не видел проблем: главных персонажей назвал Осип Давидович Гершман (искусствовед) и Лев Михайлович Барселонский (живописец). Но именно они-то и вызвали «вопрос» у директора издательства «Молодая гвардия» И. Я. Васильева: «Почему Гершман? Еврея нельзя изображать отрицательным. Еврей должен быть либо хорошим, либо отличным. Меняй фамилию на явно русскую, например, Иванов». – «А можно на русско-украинскую? – спросил я. – Иванов-Петренко, к примеру». – «Валяй. На Украине Гершманов тоже полно, – согласился Васильев. – Вот только Лев Барселонский подозрительный». – «Но он же не Шкловский, не Могилевский, не Слонимский, – успокоил я. И дальше развил: – Представь себе русского парня-художника с фамилией Мудянка. И он решил поменять ее на звучную, иностранную: Барселонский. Почему испанскую? Да просто нравились ему ее живописцы: Веласкес, Эль Греко». Васильев согласился на Барселонского. Это было в 1950 году. Книгу заблокировала цензура на целых 14 лет. В свет появилась «Тля» только в 1964 году.
Я не ожидал такой бурной, истеричной реакции на обыкновенную книгу о художниках. А тут радиоволны «Голоса Израиля», Би-би-си и прочих «голосов» заявляют: мол, впервые в СССР издан антисемитский роман… Караул! И следом – дюжина разгромных статей почти во всех центральных газетах. Библиотекам дана негласная команда: роман читателям не выдавать. На меня был навешан ярлык «антисемита» и «фашиста». А между тем в романе нет слов ни «сионист», ни «еврей». В персонажах романа прототипы узнавали себя. Так, матерый сионист Илья Эренбург разразился гневной статьей, которую затем включил в собрание своих сочинений».
На Ивана Михайловича обрушился шквал самой гнусной клеветы. Сионисты книгу скупали и сжигали. Во дворе московской синагоги устроили костер из 2 тыс. экз. «Тли». Зато среди читателей роман пользовался большим успехом. Шевцов стал одним из самых популярных русских писателей. Выход романа свидетельствовал о том, что и в верхних эшелонах власти есть немало людей, понимающих опасность сионистского подполья. В частности, Шевцова активно поддержал член Политбюро, первый зам. главы правительства Д. С. Полянский, за что и поплатился своей карьерой вместе с другими партийными функционерами, выразившими свои симпатии Шевцову и его роману. Главным же гонителем Шевцова был идеолог партии Суслов.
С тех пор отношение к Шевцову и его роману в общественно-литературных кругах стало своеобразным барометром, определяющим уровень национально-патриотического и гражданского самосознания. Кто-то, пугливо озираясь, пожимал в темных коридорах руку и говорил: «Мысленно мы с вами!» Кто-то поспешил откреститься от знакомства с опасным писателем.
Пример Шевцова показал, что бороться с сионистским подпольем хотя и опасно, но возможно. Имя Шевцова объединило многих русских писателей-патриотов. В середине 60-х Иван Михайлович купил себе дом в 5 км от Троице-Сергиевой лавры в поселке Семхоз. Он посоветовал своим друзьям-единоверцам поэтам В. Фирсову и И. Кобзеву поселиться рядом с ним. Вслед за ними в Семхоз потянулись и другие известные московские писатели: поэты В. Сорокин, Г. Серебряков, Ф. Чуев, С. Поделков, В. Осинин, С. Куняев, прозаики И. Акулов, А. Иванов, И. Лазутин, А. Блинов, Н. Камбалов, С. Высоцкий, Б. Орлов, критик В. Чалмаев. Всех их объединяла общность взглядов, любовь к родному Отечеству, неприятие сионистского засилья и диктата еврейских писателей в творческих союзах СССР вообще и в Московской организации в частности, состоявшей в ту пору на 86 % из иудеев. Подмосковный поселок Переделкино был вотчиной преимущественно еврейских писателей. Группа «радонежцев» считалась неформальной писательской организацией, о которой вскоре заговорили в литературных кругах. Даже радиостанция Би-би-си в одной из своих передач объявила, что «черносотенец Шевцов создал под Загорском в поселке Семхоз анти-Переделкино». Для русской молодежи писательский поселок стал местом паломничества. Я, в частности, ездил к И. Кобзеву и Г. Серебрякову. Несколько раз мы приезжали сюда, гуляли в окрестностях Абрамцева, а потом шли в Семхоз. Позднее, собираясь пораньше, мы сначала ехали в Троице-Сергиеву лавру, а затем бродили по «радонежью».
К концу 60-х годов я и мои друзья окончательно духовно определились. Нашим последним университетом и национальным клубом стало Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Созданное в 1966 в ожесточенной борьбе с либерально-еврейским подпольем (объявлявшем его антисоветской организацией), ВООПИК включило в свое руководство почти всех главных кумиров русской молодежи – Глазунова, Солоухина, Корина, Леонова, Барановского.
ВООПИК стал, с одной стороны, центром спасения и реставрации русского культурного наследия, с другой – мощным рупором его пропаганды. Первоначально центральный ВООПИК разместился в Высокопетровском монастыре. Энтузиасты общества организуют многочисленные лекции по истории русской архитектуры, живописи, литературы. При обществе создается секция по шефству над памятниками русской культуры, ее члены регулярно по воскресным дням собираются для безвозмездной помощи на реставрацию конкретных памятников. После тяжелого физического труда с лопатами и носилками организуется чаепитие, во время которого обсуждаются разные проблемы – от современного положения страны до «Протоколов Сионских мудрецов». Для многих молодых людей ВООПИК становится национальным клубом, где, может быть, впервые за годы советской власти свободно обсуждались ранее запретные темы. Здесь можно было получить редкую национальную литературу, например, произведения славянофилов, а также антисионистские издания. Именно здесь мне впервые дали почитать книги Дикого «Евреи в России и СССР» и Селянинова «Тайная сила масонства». Здесь же ходили отпечатанные на машинке списки членов первого советского правительства, очерк о еврейском происхождении Ленина. Знакомства, завязанные в ВООПИК, нередко перерастали в дружбу. После некоторых мероприятий в Обществе мы шли к кому-нибудь домой и беседовали там допоздна.
Высшим воплощением национального клуба в рамках ВООПИК был созданный в 1968 под крышей секции по комплексному изучению русской истории и культуры Русский клуб. Название было неофициальным, протоколов и записей заседаний его не велось. В работе этого клуба я лично, по молодости, участия не принимал, но был много наслышан о нем. В этом клубе впервые за многие годы начинают обсуждаться животрепещущие вопросы формирования и развития русской культуры и духовности. В национальный оборот снова включаются ранее запрещенные даже упоминаться имена выдающихся русских деятелей и мыслителей прошлого: Данилевского, Каткова, Розанова, Леонтьева, Победоносцева, Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского. «Русский клуб» возглавляли писатель Д. А. Жуков (председатель), историк С. Н. Семанов и П. В. Палиевский (заместители), а от аппарата ВООПИК клуб курировал И. А. Белоконь. В течение нескольких лет клуб был центром формирования и развития русской патриотической мысли. Лучшие умы России пытаются осмыслить причины трагедии, постигшей Отечество. Клуб собирался в Высокопетровском монастыре в Москве. На его заседаниях, кроме уже перечисленных выше деятелей ВООПИК и участников конференции в Новгороде, активно работали: В. А. Чивилихин, В. А. Чалмаев, В. В. Сорокин, И. И. Кобзев, И. С. Глазунов, Ю. Л. Прокушев, Г. В. Серебряков, С. Г. Котенко, И. А. Кольченко, О. Н. Михайлов, Н. М. Сергованцев, А. И. Байгушев, О. И. Журин, В. А. Виноградов, М. П. Кудрявцев, В. Д. Захарченко, Л. П. Кабальчик, Н. А. Сверчков, З. А. Ткачик, А. П. Ланщиков, Е. И. Осетров, А. В. Никонов, С. Ю. Куняев.
«Организационно, – писал один из членов «Русского клуба» А. И. Байгушев, – мы приняли церковную структуру. Монастырь, Петровка, 28, был у нас чистилищем. Здесь был как бы открытый храм, и сюда свободно в любой день, в любой час могли зайти на постоянную службу, т. е. на любое мероприятие, любой творческий вечер, русские миряне. Здесь мы приглядывались в новым лицам, отбирали, кого какими интересами привлечь, а кого постараться под тем или иным предлогом «отшить». Постоянные и проверенные (в общении, в «соблазнах», мы не гнушались и анкетой) попадали под негласный статус оглашенных. Их мы уже сами начинали настойчиво приглашать на русские мероприятия, давали несложные, больше для проверки, просветительные поручения. Из «оглашенных» лучшие попадали в «верные» и уже могли посещать наши «русские вторники», на которых шла основная духовно-строительная работа. Здесь поочередно каждым из наиболее активных членов «Русского клуба» делался доклад на предложенную им самим русскую тему».
«Мы, – сообщает тот же член клуба, – не решались начинать хотя бы закрытые собрания «Русского клуба» с молитвы. Хотя священники появлялись рядом с нами на наших «светских» собраниях впервые не замаскированно, не стыдливо, а гордо в облачении и при регалиях, но нам только еще предстояло вернуть… самим себе собственное русское достоинство, чтобы не дрожать перед иудо-атеистами, а гордо осенять себя на людях нашим православным крестом. Однако «безмолвие» (исихазм) и благородный «византизм» сразу стали духовными знаменами «Русского клуба». В. Д. Иванов, знаменитый исторический писатель, автор «Руси изначальной» и «Руси Великой», с первых же шагов «Великорусского монастыря» стал его иереем. После многих лет преследования и травли он с особенным жаром отдавался клубу, найдя здесь самую благородную, затаив дыхание слушающую его аудиторию. И то же надо сказать об О. В. Волкове, не сломленном многолетним ГУЛАГом публицисте, дворянине самых высоких кровей, вдруг радостно увидевшем, что Россия еще жива, что идет молодая здоровая смена, в которой не убит масонским интернационализмом православный русский дух».
Несмотря на возвышенный «византизм» и внешне почти церковные формы организации «Русского клуба», большинство его членов оставались практически неверующими и невоцерковленными людьми, хотя все они осознавали огромную созидательную и жертвенную роль Православной церкви в русской истории и культуре. Осуждая еврейский большевизм за геноцид русского народа, они вместе с тем не смешивали его с русским государственным направлением, которое придал коммунистической власти И. В. Сталин. Более того, некоторые члены клуба были горячими почитателями этого великого человека. Положительный опыт сталинских национальных реформ 1940-х – начала 1950-х, остановленных космополитическим режимом Хрущева, подталкивал их к абсурдной мысли о возможности соединения большевизма с Православием (С. Н. Семанов) или, как иначе выражались Г. М. Шиманов и М. Ф. Антонов, «соединения Нила Сорского и Ленина», Православия с ленинизмом. Конечно, такие мысли могли возникнуть только в атеистическом сознании. По мере его изживания и воцерковления взгляды «национал-коммунистов» менялись в сторону традиционной русской идеологии.
Деятельность ВООПИК как национального клуба внесла большой вклад в возрождение национального сознания и в воспитание сотен, а может быть, даже тысяч русских людей в духе любви к традиционным русским ценностям Отечества и в беззаветном служении им.
Естественно, все это очень беспокоило сионистское подполье и связанные с ним структуры КГБ СССР. Сегодня мне достоверно известно от бывших работников КГБ, что эта организация внедрила в ВООПИК десятки своих информаторов и агентов влияния. Делалась попытка превратить эту организацию из патриотической в космополитическую и формально-бюрократическую. В некоторой части антрусским силам этого добиться удалось. Работой по разложению ВООПИК как патриотической организации начал заниматься еще в составе Второго главка КГБ (контрразведка) начальник отдела подполковник Бобков, тесно связанный с антирусскими, сионистскими элементами. Впоследствии он возглавил Пятое управление КГБ, главной задачей которого стала борьба с русским национальным движением. В борьбе с ВООПИК Бобков потерпел полное фиаско. Подавляющая часть агентов, с помощью которых он рассчитывал разложить ВООПИК, прониклись патриотическим взглядами и отказались проводить антирусскую работу[9 - Мне известны имена некоторых из них, несколько человек еще живы и пользуются заслуженным авторитетом в патриотических кругах, доказав своей жизнью приверженность русскому делу.], к оставшимся же в ВООПИК относились, как к прокаженным. Позорная судьба Бобкова известна всем – в конце 80-х годов он открыто перешел на службу еврейскому капиталу[10 - Бобков возглавил Службу безопасности международного афериста В. Гусинского. Продолжал собирать досье на русских патриотов.], верным цепным псом которого был всегда.
Учеба в Кооперативном институте. – Друзья-наставники. – Наука, история и патриотизм. – Национальное воспитание. – Книги и романтические увлечения
Увлечение историей, многочисленные встречи и походы с друзьями, довольно беспорядочный образ жизни вырвали меня из обычной колеи жизни. В начале 1968 г. мои сверстники уже готовились к поступлению в институт, а я еще оставался с аттестатом об окончании восьми классов. Вечернюю школу я фактически забросил. Мама была в отчаянии. Помог случай. У одного из наших соседей я узнал, что недалеко от нашего дома работает школа, при которой существуют курсы по сдаче экзаменов за десятилетку экстерном. Однако туда принимали только взрослых, не моложе 25 лет. Я пошел к директору этих курсов, объяснил ему свою ситуацию, рассказал о своем увлечении историей и нашел в нем единомышленника-патриота. Директор посоветовал мне заручиться письмом от руководства организации, в которой я работал, чтобы мне «в порядке исключения» позволили поступить на эти курсы и сдать экзамены экстерном. Отец легко подписал это письмо, а директор получил разрешение РОНО. На курсы я попал уже перед самыми экзаменами, а в июле месяце успешно их сдал. Тем не менее отнести документы для поступления в Историко-архивный институт я не успел. Прием был уже закончен. Выручила моя «палочка-выручалочка» по жизни сестра отца тетя Марина. Она договорилась, чтобы мои документы приняли в Московский кооперативный институт на экономическое отделение. «Сдавай экзамены сюда, – сказала она мне, – а потом мы договоримся о твоем переводе в историко-архивный».
В институт я поступил, а дальше все получилось иначе. В сентябре первокурсников отправили почти на месяц на картошку в подшефный совхоз, где я познакомился с людьми, значительно повлиявшими на мою дальнейшую жизнь. Это были доценты кафедры политической экономии Андрей Тихонович Миндаров и Владимир Александрович Ерпылев. Они были направлены сопровождать студентов. Миндарова и Ерпылева объединяли патриотизм, любовь к своему делу, редкая эрудированность в экономических и исторических вопросах и слава людей, попавших в опалу. И тот и другой за свои патриотические убеждения были уволены – один из Института международных отношений (МГИМО), другой из Московского университета. Миндаров к тому же до 1955 года служил консультантом в аппарате тогдашнего Председателя Совета Министров СССР Маленкова. Как позднее я понял из их рассказов, оба они «пострадали от жидов». Оба стали для меня настоящим кладезем знаний. Узнав о моих исторических увлечениях, они прониклись ко мне симпатией и охотно удовлетворяли мою любовь к знаниям. Андрей Тихонович был спокойным, рассудительным, тщательно взвешивал каждое свое слово, Владимир Александрович нередко рубил сплеча, мог быть резок, в спорах часто слов не выбирал. Но в главном оба они были единомышленниками и взаимно дополняли друг друга. Они сильно переживали, что в центральных органах власти работает «много мерзавцев, настроенных в пользу Запада». Миндарову в 1954–1956 гг. приходилось сталкиваться с А. Н. Яковлевым, в то время работником аппарата ЦК КПСС. Это редкий карьерист, применявший для достижений своих целей самые грязные методы – распространение лживых слухов (чтобы дискредитировать своих конкурентов) и главное – донос. В то время я еще мало знал о нравах в высших эшелонах власти. Андрей Тихонович рассказал мне историю, в то время обсуждаемую всей патриотической Москвой – как Яковлев написал донос в Политбюро на главного редактора журнала «Огонек» Сафонова, занимавшего патриотические позиции. В доносе Яковлев информировал начальство, что Сафонов является великодержавным шовинистом, его отец был городовым и убит революционерами. «Можно ли, – спрашивал он, – такому человеку доверять партийный журнал?» В доносе было много других гнусных подробностей, которые возмутили даже непритязательных начальников Яковлева. Один из них, по слухам, сказал доносчику – «стучать надо умно». «А что же, Яковлева за эту подлость не уволили из ЦК?» – спросил я. «Нет. Более того, доносчик понравился Суслову, который стал «двигать» его по служебной лестнице». Работа в МГИМО, Миндаров некоторое время готовил материалы для группы консультантов генсека ЦК КПСС, возглавляемой Бурлацким, однако вскоре, поняв их проеврейские, прозападные позиции, отошел от них. «Группа Бурлацкого, – рассказывал Андрей Тихонович, – состояла либо из евреев, настроенных сионистски (Арбатов и Иноземцев), либо были женаты на еврейках (Бовин)». Именно эта группа поссорила СССР с Китаем, разрушив единый политический фронт двух великих стран. В группе Бурлацкого было составлено печально известное «Открытое письмо ЦК КПСС» китайскому руководству, в котором, по сути дела, Китаю объявлялась холодная война. Разрыв с Китаем, а впоследствии и с Албанией, объяснял мне Миндаров, резко ухудшил международное геополитическое положение СССР. Морские и воздушные коммуникации Китая и Албании имели большое стратегическое значение для развития обороны нашей страны. Кроме того, единое союзническое пространство обеспечивало эффективный общий фронт, противостоящий западному экспансионизму и агрессии. В результате СССР не только ослабил свои мировые позиции, но и получил по всей советско-китайской границе постоянный очаг напряженности. Все это отвлекало силы СССР и позволило США начать осенью 1954 года агрессию против Вьетнама и не особенно стесняться в провокационных действиях против Кубы, Северной Кореи, ГДР, а также государств Ближнего Востока. Деятели из группы Бурлацкого, рассказывал мне Миндаров, были настроены космополитически. Их «культурными кумирами» являлись Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Ю. Любимов и подобные им еврейские деятели, с которыми они были связаны длительными личными отношениями. Абсолютно далекие от понимания национальных интересов России, более того, даже враждебные к ним, советники-космополиты рассматривали нашу Родину как обочину европейской цивилизации, давая своим хозяевам советы, многие из которых носили антирусский характер. Маскируя свою антигосударственную деятельность привычной марксистской фразеологией, эти партийные советники постепенно подталкивали политическое руководство страны к принятию решений, ставших первыми шагами к подрыву международного положения СССР и его политической стабильности. Склоняя окружение Брежнева к умалению значения русского народа и его культуры, консультанты группы Бурлацкого одновременно ориентировали СССР на уступки западным странам, лишая его главного стратегического союзника – Китая.
Доверительные, почти дружеские отношения (какие могут быть у студента с преподавателем), установившиеся у меня с Миндаровым и Ерпылевым, позволили мне получать систематические, достаточно серьезные знания, которые я в то время обычным путем никогда не смог бы иметь. Именно они дали мне правильное, грамотное понимание еврейского вопроса. Главное, что ни тот, ни другой не сводили его к национальному вопросу, а считали идеологическим. В столкновении русских с евреями Миндаров и Ерпылев видели, прежде всего, не столкновение «крови», а столкновение диаметрально разных мировоззрений, взглядов на жизнь. Миндаров стоял почти на христианской позиции, близкой той, которую впоследствии отстаивал мой главный наставник митрополит Иоанн – русских и евреев разделяет вера, отступиться от которой для каждой стороны невозможно. Православие – вера настоящая и единственная, жизнь русского. Талмуд с «иудейским избранничеством» и жизненным принципом «бери от жизни все» – настоящая жизнь еврея. Для русского главная часть жизни в сфере духовной, для еврея в сфере материальной. Это не означает, конечно, что русскому не нужно материального, а еврею – духовного. И Миндаров, и Ерпылев считали, что, начиная со второй половины XIX века, избраннические амбиции еврейских группировок сыграли трагическую роль в судьбе русского государства. Опуская рассказанные мне подробности участия евреев в революции 1917 года, сейчас известные всем, хочется вспомнить их рассказы (впрочем, рассказывал об этом главным образом Миндаров) о попытке евреев создать свою республику в Крыму. Это событие они считали «мировым еврейским заговором», так как в этой попытке, кроме советских евреев, участвовали международные еврейские финансовые круги. По данным, которыми располагал Миндаров, история создания этой республики уходит корнями в первые годы советской власти. Идея создания этой республики принадлежала Троцкому, Каменеву и Зиновьеву, которые согласовали ее с международными сионистскими кругами[11 - Впоследствии я получил подтверждение этим данным из уст еще одного хорошо информированного источника – бывшего помощника Берии Людвигова.]. Об этом совершенно секретном соглашении ходили фантастические слухи в кулуарах ЦК, рассказывали, что Троцкий под этот проект получил большие деньги от сионистов. В начале 20-х для реализации этого проекта в Крым были переселены несколько сот еврейских переселенцев. Однако тогда это дело по разным причинам не удалось. В очередной раз к нему возвратились после войны. Международные сионистские организации снова предлагали деньги в обмен на еврейскую республику, но в этот раз они имели дело не с Троцким, а со Сталиным. В конце 1947 года группа ведущих советских сионистов во главе с Михоэлсом и Фефером была приглашена для беседы к Молотову и Кагановичу. На этом заседании Каганович и Молотов предложили Еврейскому антифашистскому комитету составить письмо на имя Сталина с просьбой передать Крым для образования еврейской республики. Письмо было составлено, и его предложили подписать многим еврейским деятелям.
Однако среди руководителей еврейских националистов возникли серьезные разногласия по этому вопросу. Так, один из самых влиятельных лидеров сионистского движения П. Маркиш составил другое письмо, в котором предлагал передать евреям земли бывшей республики немцев Поволжья с центром в городе Энгельс. Такой акт, писал Маркиш, явился бы актом «величайшей исторической справедливости», – «после всего того, что немецкий народ причинил еврейскому народу». Однако предложение Маркиша не был поддержано и Сталину было передано письмо с ходатайством о Крыме.
Слепое стремление сионистских деятелей любой ценой собрать евреев в Крыму в ущерб другим народам, вызвало раздраженную реакцию Сталина, который справедливо расценил поведение сионистских деятелей как международный еврейский заговор. В январе 1948 был казнен Михоэлс, позднее арестовали жену Молотова. Доверия Сталина лишились Молотов и Каганович. Заговор сионистов сильно дестабилизировал политическое положение в СССР и сыграл роковую роль в жизни Сталина. Миндаров утверждал, что стремление создать еврейскую республику в Крыму международные сионистские деятели не оставляли и после прихода к власти Хрущева и Маленкова. Сионисты настаивали на выполнении соглашения, заключенного от имени советского правительства Троцким. Они требовали либо создания еврейской республики в Крыму, либо возвращения денег, выделенных ими под этот проект советскому правительству в 20-е годы. Передача в 1954 Крыма из состава СССР в состав УССР, по мнению Миндарова, была неуклюжей попыткой советских властей закрыть вопрос об обязательствах перед международными сионистскими организациями о переселении в Крым евреев. Так как договор был заключен от имени РСФСР, УССР по прежним обязательствам РСФСР формально не отвечала.
Общение с Миндаровым и Ерпылевым во время учебы в Кооперативном институте стало для меня особым научным курсом. По их рекомендации я прочитал большое количество экономической литературы, к концу учебы приготовил несколько научных работ по политэкономии и экономической истории, получивших одобрение с их стороны.
Однажды где-то в 1969 или 1970 Андрей Тихонович под строгим секретом познакомил меня с отдельными номерами так называемого «Политического дневника», циркулировавшего в еврейско-космополитической части советской интеллигенции. Отпечатанный на машинке, он содержал сведения, полученные по каналам зарубежных радиоголосов и американского посольства. Акценты в нем расставлялись чисто сионистские. В «Политическом дневнике» поддерживалась борьба «правозащитников» вроде Даниеля и Синявского, в деятельности советского правительства разоблачались «козни сталинистов». Зато полностью отсутствовало все то, что действительно могло волновать русских людей, – преследование православных священников и верующих, закрытие и снос церквей, катастрофическое положение национальных памятников и святынь. Миндаров получал этот «Дневник» от сотрудника журнала «Коммунист» Е. Фролова. По его словам, антирусский по своему характеру пропагандистский листок выпускался Роем Медведевым, а материалы ему поставляли Ф. Бурлацкий, Л. Карпинский, Э. Генри и ряд других очень важных лиц, близких ЦК КПСС. Имен их он тогда не назвал. И уже потом через много лет мне удалось узнать, что среди поставщиков информации и разных деятелей, связанных с «Политическим дневником», были такие известные русофобы, как Г. Арбатов, А. Бовин, Е. Гинзбург, В. Лакшин, О. Лацис, Ю. Любимов, Ю. Черниченко и Г. Шахназаров. Все эти люди еще тогда были связаны незримыми нитями с американским посольством, а значит, и ЦРУ, ибо по «этике» Госдепартамента США все контакты с советскими гражданами должны были контролироваться этой службой, по крупицам собиравшей сведения о внутренней жизни всех причастных к советскому правящему слою. Лица, причастные к созданию «Политического дневника», стали первым контингентом для подготовки агентов влияния в политическом руководстве СССР – прежде всего это касается Арбатова, Бовина и Шахназарова, ставших со временем ближайшими советниками генсеков ЦК КПСС – Брежнева, Андропова, Горбачева.
Помню, в одном из старых номеров «Политического дневника» (за 1966), принесенного мне Миндаровым, было письмо к Брежневу ряда еврейских и космополитических деятелей с призывами «не допустить возвращения к сталинизму». В подтексте письма явно чувствовалась ностальгия о том досталинском времени, когда еврейские большевики полностью контролировали власть над русским народом. Подписантов меньше всего волновали невинные жертвы того времени, а чувствовалось желание вернуться в тот золотой век еврейских большевиков, снова установить свою власть по законам Талмуда.
Тогда меня очень удивило, что среди подписей разных еврейских и космополитических деятелей стояло имя русского художника Павла Корина, неизмеримо далекого от этой воинственной антирусской среды. Андрей Тихонович объяснил мне, что подпись от тяжело больного (вскоре он умер) русского художника была получена обманом организатором письма Э. Генри. Последнего мой учитель характеризовал как «хитрого, воинствующего сиониста, служившего одновременно и в КГБ, и в ЦРУ». Андрей Тихонович, хорошо знавший Генри, рассказывал о нем как о подлейшей личности. Когда в 1969 стал публиковаться в журнале «Октябрь» роман В. А. Кочетова «Чего же ты хочешь?» о подготовке западными спецслужбами агентов влияния среди еврейских кругов советской интеллигенции, многие узнали среди персонажей романа черты личности Э. Генри. Да и сам прототип узнал себя, и рассказывали, что был взбешен. Осенью 1969 он написал донос на Кочетова в КГБ и ЦК КПСС, где обвинил его в антисемитизме, а также организовал коллективное письмо «советской интеллигенции» против публикации романа «Чего же ты хочешь?» отдельной книгой. В нашем институте роман пользовался большой популярностью. В библиотеке института на прочтение его в журнальном варианте выстроилась очередь в несколько десятков человек.
Учился в институте я легко и с удовольствием. Освоение основных предметов не составляло для меня труда, три четверти времени я тратил на самообразование и свои увлечения. С помощью Миндарова я составил план проработки научной и художественной литературы, которая не входила в программу института. В план вошли боле 50 авторов, представлявших лучшие образцы русской и зарубежной философии, экономики и литературы.
В части философии, например, сюда вошли Платон, Аристотель, Плотин Бэкон, Гельвеций, Кант, Гегель, Фейербах, Ницше, Шопенгауэр, Кьеркегор, Камю, Ломоносов, Болотов, И. Киреевский, Хомяков, Аксаков, Н. Я. Данилевский, Соловьев.
В части экономики в план входили А. Смит, Д. Рикардо, Пети, Родбертус, труды И. Т. Посошкова, Н. А. Карышева, А. Чупрова, А. Н. Энгельгардта, В. П. Воронцова, И. И. Каблица, Н. В. Калачева. Особенно меня увлекли труды, относящиеся к истории русской общины и артели.
Для общего развития Андрей Тихонович советовал мне читать как можно больше художественной литературы – от античности и Средневековья до наших дней, что я с удовольствием и делал. Я записался сразу же в несколько библиотек. Особенно мне нравилось заниматься в исторической библиотеке недалеко от Ивановского монастыря, а также в библиотеке Дома политического просвещения МГК КПСС на Малой Дмитровке. Последняя находилась в здании бывшего Купеческого клуба и включала фонды его библиотеки. Работать в ней было спокойнее, чем в исторической библиотеке. Именно здесь написаны мои первые научные работы.
В то время в библиотеках СССР было легче получить труд западных философов, чем христианскую литературу, которая выдавалась только по специальному разрешению. Для того, чтобы прочитать Библию, я должен был идти к ректору с просьбой подписать письмо-ходатайство на выдачу мне священной книги. Зато без всяких проблем выдавались труды философов антихристианского направления, например, Ницше, Шопенгауэра, Гартмана, Фрейда.
Достать нужную книгу было нелегко – только через букинистов и книжных маклеров. Букинистические магазины 60—70-х годов – особый мир, клубы по интересам. У каждого книжника завязывались свои знакомства с букинистами. Для меня это был Николай Николаевич из магазина в Столешниковом переулке. Он любил выпить, но дело свое знал хорошо. С его помощью я подобрал редкие тогда книги Соловьева, Хомякова, Данилевского, а главное, Русский биографический словарь в 25 томов, Московский некрополь и путеводитель по русским монастырям Павловского.
В проезде Художественного театра существовал магазин «Пушкинская лавка», в нем управлял Семен Израилевич, воинствующий сионист и русофоб. Он почти демонстративно не принимал книги русского направления. Зато у него можно было приобрести книги западных философов. Меня он знал и не любил. Вокруг него постоянно крутились еврейские маклеры, скупавшие у него редкие книги для перепродажи.
От общественной деятельности в ВООПИК я отошел, хотя время от времени со старыми приятелями ездил на экскурсии по разным достопамятным местам, монастырям и усадьбам. Страсть к знаниям, науке, исследованиям начинала занимать главное место в моей жизни. По-настоящему с этой страстью могла соперничать моя любовь к книгам. Большую часть своей стипендии я тратил на книги. Помню, своей первой стипендией распорядился так – пошел со своей девушкой в кафе «Метелица» на Новом Арбате, где выпили шампанского за успешное окончание сессии, а потом прошлись по букинистическим магазинам, в одном из которых я купил собрание сочинений Шиллера в издании «Академия» и двухтомник сочинений Адама Смита. Эти книги составили начало моей личной библиотеки. Гуляя по книжным магазинам, мы не забывали целоваться.
Мои студенческие подружки Таня, Нина, Маша, Вера, Оля – особая часть институтской жизни. Перебирая письма, записочки, присланные на лекции стихи в запечатанном конвертике, возвращаюсь к чувствам наполненности жизни и свойственному тем годам ощущению ее бесконечности и животной радости. Так уж получилось, что все мои подружки студенческой поры были не москвички. Я им очень благодарен, они много открыли для меня в понимании сложности человеческих отношений. Они несли в себе то, что почти невозможно было найти в Москве. От этих встреч осталось чувство свежести и чистоты. Почти все они хотели продолжения нашей нежной дружбы, а я, не понимая, как ранил их, как мотылек летел вперед, не оглядываясь. Тем не менее я считал, что эти встречи обогащают нас взаимно искренностью чувств, хотя с моей стороны и поверхностных. С позиции сегодняшней понимаю, что вел себя как язычник. Так меня в шутку однажды назвала бабушка Поля, удивлявшаяся, как я, еще вчера восхищавшийся Ниной, сегодня гулял с Машей. Некоторые романтические встречи побудили меня заняться «стихотворством». С Машей и Олей я на лекциях переписывался в стихах. Сочинял я их в духе Есенина. Одно время очень увлекся и даже занялся переводом на русский язык любовной лирики Байрона. Целый пласт поэтических увлечения у меня был связан с переводом стихов Уолта Уитмена. Верхом моего поэтического «творчества» стал перевод поэмы Стивенсона «Вересковое пиво»:
Давным-давно из вереска
Варили горцы пиво,
Забористое здорово
И сладкое на диво.
В первые студенческие годы учебы в институте я еще поддерживал отношения со старыми друзьями, но постепенно наши дороги разошлись. В институте складывались новые знакомства. В конце третьего курса у меня появился новый друг Саша Матвеев из Сергиева Посада. Наши взгляды на жизнь были близки. Как и я, он много читал, интересовался русской историей. У него был особый покровитель – одинокий, чудаковатый старик-историк Пылаев, рекомендовавший нам равняться на Суворова, которого считал образцовым русским человеком. Его кумиром в истории являлся издатель «Русского архива» славянофил Петр Иванович Бартенев. В своих лекциях Пылаев старался не упоминать евреев, а если упоминал, то в ругательном смысле, особенно Троцкого, Зиновьева, Каменева. Из его уст на лекции я впервые услышал слово «жид». Однажды на лекции он зачитал отрывок из воспоминаний большевика А. В. Воронского, рассказывавшего о своем знакомстве с Бартеневым. Этот троцкист, комментировал Пылаев, пришел к Бартеневу с желанием продать ему сомнительные книги. Познакомившись с ними, Бартенев отодвинул их от себя.
«– Жиды, сударь, жиды! Не могу подписаться, не буду. Не надо мне жидовских книг.
Я заметил, что названные мной историки не жиды, евреи же – культурнейшая нация. Старик поднял ладонь, как бы отгораживаясь от меня, с силой перебил:
– Жиды-с! О культуре расскажу вам, молодой человек, поучительную историю. Подобно вам одна дама наслушалась речей о культуре. Куда ни придет, сейчас: культура, культура. Ее и спросили однажды, что такое культура. «Это, – ответила дама, – зверок такой, на крысу похож». Культуру-то культурнейшая дама с крысой смешала.
Обескураженный, я сказал Бартеневу: