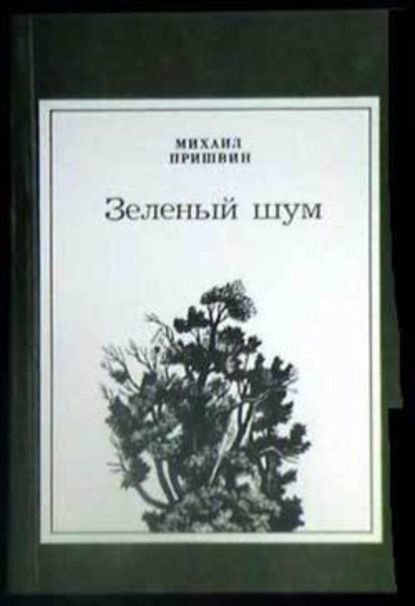 Полная версия
Полная версияКолобок
Изгибаюсь, перескакиваю с кочки на кочку, зорко гляжу на сухие сучки под ногами. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, я чувствую во рту почему-то вкус хвои, запах ее и запах сосновой коры. И неловкость в локтях. Почему? Да вот почему? Сосны куда-то исчезли, и я уже не иду, а ползу по каким-то колючим и острым препятствиям к намеченному дереву. Я доползаю, протягиваю ружье вперед, взвожу курок и медленно поднимаю голову.
Реки нет, птиц нет, леса нет, но зато перед глазами такой покой, такой отдых! Я забываю о птицах, я понимаю, что это совсем не то. Я не говорю себе «Это Имандра, горное озеро». Нет, я только пью это вечное спокойствие. Может быть, и шумит еще Нива, но я не слышу.
Имандра – это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился, у этого пустынного спокойного озера, окруженного чуть видными черными горами с белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь прозрачно и чисто, и все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе.
Никаких птиц нет. Это лапландские чародеи сделали так, чтобы показать свою мрачную Похиолу с прекрасной стороны.
На берегу с песка поднимается струйка дыма. Возле нее несколько неподвижных фигур. Это, конечно, люди: звери не разводят же огня. Это люди; они не уйдут в воду, если к ним подойти. Я приближаюсь к ним, неслышно ступая по мягкому песку. Вижу ясно: котелок висит на рогатке, вокруг него несколько мужчин и женщин. Теперь мне ясно, что это люди, вероятно лопари; но так непривычна эта светлая прозрачность и тишина, что все кажется, если сильно и неожиданно крикнуть, то эти люди непременно исчезнут или уйдут в воду.
– Здравствуйте!
Все повертывают ко мне головы, как стадо в лесу, когда к нему подходит чужая собака, похожая на волка.
Я разглядываю их: маленький старичок, совсем лысый, старуха с длинным острым лицом, еще женщина с ребенком, молоденькая девушка кривым финским ножом чистит рыбу, и двое мужчин, такие же, как русские поморы.
– Здравствуйте!
Мне отвечают на чистом русском языке.
– Да вы русские?
– Нет, мы лопари.
– А рыбки можно у вас достать?
– Рыбка будет.
Старик встает. Он совсем маленький карлик, с длинным туловищем и кривыми ногами. Встают и другие мужчины, повыше ростом, но также с кривыми ногами.
Идут ловить рыбу. Я – за ними.
Такой прозрачной воды я никогда не видал. Кажется, что она должна быть совсем легкой, невесомой. Не могу удержаться, чтобы не попробовать: холодная, как лед. Всего две недели, говорят мне, как Имандра освободилась ото льда. Холодная вода и потому, что с гор – налево горы Чуна-тундра, направо чуть видны Хибинские – непрерывно все лето стекает тающий снег.
Мы скользим на лодке по прозрачной воде в прозрачном воздухе. Лопари молчат. Надо с ними заговорить.
– Какая погодка хорошая!
– Да, погоды хорошие!
И опять молчат. Хорошая погода, но какая-то странная. Словно это первый день после какого-то всемирного потопа, когда только начала сбывать вода. Вся земля там, внизу, залита водой; остались только эти черные верхушки гор с белыми пятнами. Все успокоилось, потому что все умерло. Наша лодка скользит в тишине. Вода, небо, кончики гор.
Достаю мелкую монету и пускаю в воду. Она превращается в зеленый светящийся листик и начинает там порхать из стороны в сторону. Потом дальше, в глубине она светится изумрудным светом и не исчезает; ее зеленый глазок смотрит оттуда, из затопленных садов и лесов, сюда наверх, в страну незаходящего солнца.
Как бы хорошо с высоты спуститься туда, куда-нибудь вниз, в густую перепутанную траву между яблонями, в темную-темную ночь.
– Поуч-поуч! – вдруг говорит старик гребцу.
– Что это значит?
– Это значит: поскорей ехать.
И сейчас же еще:
– Сег-сег!
Это значит: ехать тише.
Мы у продольника, которым ловят рыбу, и теперь начинаем его осматривать. Это длинная веревка, опущенная на дно, со множеством крючков. Один лопарь гребет, а другой выбирает веревку с крючками и все приговаривает свое: «Поуч-поуч! Сег-сег!»
В этом горном озере за Полярным кругом должна водиться какая-нибудь особенная рыба. Я, как многие охотники с ружьем, не очень люблю рыбную ловлю, но здесь с нетерпением жду результата. Долго приходят только пустые крючки. Наконец что-то зеленое, совсем как моя монета, светится в глубине и то расширится до огромных размеров, то сузится в ленту.
– Поуч-поуч! – кричу я радостно.
Все смеются. Это вовсе не рыба, а кусочек белой «наживки» на крючке.
– Сег-сег! – печалюсь я.
И опять все смеются.
Теперь я понимаю, в чем дело, принимаю команду на себя и повторяю: «Поуч-поуч! Сег-сег!»
Лопари радуются, как дети, – верно, им скучно молчать на этом пустынном озере.
Потом мы вытаскиваем одну за другой серебристых больших рыб.
Голец – род форели, обитатель полярных вод.
Кумжа – почти такая же, как семга.
Палия.
Все редкие, дорогие рыбы.
– А как эта называется. Сиг?
Старик молчит, хмурится, чем-то напуган, оглядывает нас.
– Поуч-поуч! – говорю я.
Но мое средство не действует. Испуганный старик отрывает себе пуговицу, привязывает к сигу, пускает в воду и что-то шепчет.
Что бы это значило?
Лопарь молчит. Темная спина рыбы быстро исчезает в воде, но пуговица долго порхает внизу, как светлая изумрудная бабочка.
Что бы это значило? Вот она, Похиола, страна чародеев и карликов. Начинается!
Только после двух-трех десятков драгоценной форели и кумжи устанавливаются у нас прежние добрые отношения. Покончив с осмотром перемета, мы плывем обратно к берегу, где виднеется дымок от костра.
Подъезжаем. Те же самые люди, в совершенно таких же позах сидят, не шевелятся: даже котелок по-прежнему висит на рогатке. Что же это они делали целых два часа? Осматриваю: у девушки на коленях нет рыбы. Значит, за это время они съели рыбу и теперь, насытившись, по-прежнему смотрят на пустынную Имандру.
– Поуч-поуч! – приветствую я их.
Все смеются. Как просто острить в Лапландии!
Теперь варить уху из форели. Вот она, вот она жизнь с котелком у костра! Вот она, дивная свободная жизнь, которую мы искали детьми! Но теперь еще лучше, теперь я все замечаю, думаю. И хорошо же на Имандре, в ожидании ухи из форели!
Я достаю из котомки свой котелок. Это обыкновенный синий эмалевый котелок. Но какой эффект! Все встают с места, окружают мой котелок и быстро говорят по-своему о нем. Потом, пока девушка кривым ножом чистит для меня рыбу, все по-прежнему усаживаются вокруг костра. Котелок переходит от одного к другому, как дивная, невиданная вещь. Но у меня еще есть карандаш в оправе, складная чернильница, нож и английские удочки-блесны на всякую рыбу. Вещи переходят от одного к другому. Когда кто-нибудь долго задерживает, я говорю: «Поуч». Тогда все смеются, и вещь быстро совершает полный оборот вокруг костра с котелком. Это что-то вроде игры в веревочку, но только в Лапландии, на берегу Имандры.
Если не забыть с собою лаврового листа и перцу, то уха из форели в Лапландии глубоко, бесконечно вкусная. Я ем, а молодая лапландка-хозяйка указывает мне на розовые и желтые куски рыбы в котелке и угощает:
– Волочи, волочи, ешь!
«ПО ИМАНДРЕ»
Путь по Лапландии от Кандалакши до Колы остался тот же, как во времена новгородской колонизации. Совершенно так же шли и новгородцы на Мурман и до последнего времени – рыбаки-покрученники из Поморья.
Теперь в разных местах пути выстроены избы, станции; возле каждой станции живет группа лопарей и занимается частью охотою на диких оленей в Хибинских горах, частью рыбной ловлей в озерах и немного оленеводством.
«Как бы провести тут время по-своему? Проехать этот путь и познакомиться немного с жизнью людей, с природой. Не пуститься ли через Хибинские горы к оленеводам? Там поселиться на время в веже».
Мы долго совещаемся об этом со стариком Василием, почти решаем уже отправиться через Хибинские горы, но сын его не советует. Лопари перекочевали оттуда, и мы можем напрасно потерять неделю. Мало-помалу складывается такой план. Мы поедем на Олений остров по Имандре; там живет другой сын Василия, стережет его оленей; там поживем немного и отправимся в Хибинские горы на охоту.
Ветер дует нам походный. Зачем бы ехать со мной всему семейству, – лишний проводник стоит денег? Я советую старику остаться. Он упрашивает меня взять его с собой.
– Денег, – говорит он, – можно и не взять, а вместе веселее.
Как это странно звучит! Вот уже сколько я еду, и ни разу не слыхал этого.
Мы едем все вместе. Двое гребут. Ветер слегка помогает. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины: старуха и дочь ее. Лица их совсем не русские. Если бы можно так просто решать этнографические вопросы, то я сказал бы, что старуха – еврейка, а дочь – японка маленькая, смуглая, со скошенным прорезом глаз. Черные глаза смотрят загадочно и упорно: моргнут, словно насильно, и опять смотрят, и смотрят долго, пока не устанут и снова моргнут. На голове у нее лапландский шамшир, похожий на шлем Афины-Паллады, красный. Мы едем как раз против солнца; лодку слегка покачивает, и я вижу, как блестящий странный убор девушки меняется с солнцем местами. Это – дочь Похиолы, за которой шли сюда герои Калевалы.
Немного неприятно, когда смотрят в глаза и ничего не говорят. Я замечаю на уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.
– Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?
– Набрала в ручье, – отвечает за нее отец. – У нас есть жемчужины по сто рублей штука.
– И платят?
– Нет, не платят, а только так говорят.
– Какой прекрасный жемчуг! – говорю я девушке, похожей на дочь Похиолы. – Как вы его достаете?
Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает.
Развертываю несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листок из записной книжки и подаю обратно.
– Благодарю. Хороший жемчуг.
– Не надо. тебе.
– Как!
Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно кивает головой, Василий тоже одобряет. Я принимаю подарок и, выждав некоторое время, service pour service предлагаю девушке превосходную английскую дорожку-блесну. Девушка сияет, старуха опять важно кивает головой. Василий тоже. Имандра смеется. Мы спускаем обе дорожки в воду; я – с одной стороны, а дочь Похиолы – с другой, и ожидаем рыбу. Все говорят, что тут рыбное место и непременно должна пойматься.
Скоро показывается лесистый берег; мы едем вдоль него, и лопари, ознакомившись со мною, не стесняясь беспрерывно что-то болтают на своем языке. Время от времени я перебиваю их и спрашиваю, о чем они говорят. Они говорят то о круглой вараке на берегу, то о впадине со снегами на горах, то о сухой сосне, то о большом камне. Там был убит дикий олень, там на дереве было подвешено его мясо, там нашли свою важенку с телятами. Это так, как мы, идя по улице, разговариваем о знакомых домах, ресторанах, о лицах, которые почему-то непременно встречаются всегда на одном и том же месте. Им все здесь известно, все разнообразно; но я схватываю только величественные контуры гор, только длинную стену лесов и необозримую гладь озера.
Мне некогда разглядывать мелочи. Внимание поглощено всесторонне. Нужно держать наготове бечеву, потому что при малейшем толчке я должен ее пустить и задержать лодку, иначе рыба оборвет якорек. Нужно фотографировать, нужно спрашивать у лопарей разные названия и записывать; нужно держать ружье наготове: мало ли что может выйти из леса к воде!
Вдруг на носу лодки у лопарей необычайное волнение: говорят шепотом, берутся за ружья, указывают мне на белый клочок снега далеко впереди, у самого берега. Дикий олень!
Я поскорее свертываю бечеву, вглядываюсь, замечаю движения белой точки. Немного поближе – и разбираю: белый олень с недоразвитыми рогами. Василий долго прицеливается из своей берданки и вдруг опускает ружье, не выстрелив. У него явилось подозрение, что это кормной (ручной) олень. Если бы подальше, в горах, признался он мне, то ничего, можно и кормного за дикого убить, а тут нельзя: тут сейчас узнают, чей олень, – по метке на ухе. Мы подъезжаем ближе; олень не бежит и даже подступает к берегу. Еще поближе – и все смеются, радуются: олень свой собственный. Это один из тех оленей, которых Василий пустил в тундру, потому что на острове мало ягеля (олений мох). Я приготовляю фотографический аппарат и снимаю белого оленя на берегу Имандры, окруженного елями и соснами.
Сняв фотографию, я прошу подвезти меня к оленю. Но вдруг он поворачивается своим маленьким хвостом, перепутывает свой пучок сучьев на голове с ветвями лапландских елей, бежит, пружинится на мху, как на рессорах, исчезает в лесу. Немного спустя мы видим его выше леса, на голой скале, едва заметной точкой.
– Комар обижает! – говорит Василий. – Попил воды и опять бежит наверх, в тундры.
Это происходит где-то около Белой губы Имандры.
Тут мы должны бы и остановиться, дальше меня должны везти другие лопари. Но, выполняя свой план, мы едем немного дальше, на Олений остров. Здесь я опять спускаю в воду дорожку, потому что, как говорит Василий, здесь непременно поймается кумжа.
Спускаю блесну; она вертится, блестит, как рыбка, далеко видна в прозрачной воде Имандры. Спускаю саженей на тридцать; остальная бечева остается смотанной на вертушке, вставленной в отверстие для уключины. Не проходит минуты, сильный толчок вырывает мою бечеву из рук, катушка сразу разматывается.
Я не могу себе представить, чтобы рыба так сильно толкнула, и потому кричу лопарям:
– Стойте, стойте, зацепилось, оборвалось!
– Рыба, рыба, подтягивай! – отвечают они.
Подтягиваю, но там ничего не сопротивляется; очевидно, блесна зацепилась за камень и теперь освободилась.
Я говорю об этом лопарям. И они сомневаются, но все-таки не берутся за весла и смотрят вместе со мной.
Вдруг в десяти шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост; от неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бечеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре.
– Кумжа, кумжа! – говорят лопари. – Мотай.
И вот опять, как в начале пути при виде глухарей, мое я целиком уходит в глубину природы, быть может, именно в ту страну, которая грезится в детских сновидениях.
Я вожусь с этой рыбой целый час. Борюсь с ней. И час кажется секундой, и секунда – тысячелетием. Наконец я ее подтягиваю к борту, вижу ее длинную черную спину. Как теперь быть, как вытащить? Пока я раздумываю, лапландка вынимает из-за пояса нож, ударяет им рыбу и, громадную, серебряную, обеими руками втаскивает в лодку.
Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоят и, бывает, портят охоту. Но тут я не замечаю этого: я владею рыбой и счастлив обладанием.
Мне так хочется узнать, сколько в ней веса, вкусна ли она, хочется установить ее значение как моей собственности. Кажется, больше пуда весом, а лопари говорят – полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смеются.
– А что лучше, – спрашиваю я, – кумжа или семга?
– Какая кумжа, какая семга. Все-таки семга лучше: семга – семга и есть. Ты скажи – кумжа и сиг, вот так.
Тут я вдруг вспомнил о той рыбе, которую старик поймал вначале и привязал к ней пуговицу.
– Какая это рыба?
– Это сиг, – говорит он и тускнеет. – Сиг не может на крючок пойматься, сигов сетью ловят. Отец мой тоже поймал так сига и потонул. А за ним и мать.
– Потонула?
– Нет, так померла.
Мне хочется спросить еще, что значит пуговица, но не решаюсь. Вероятно, жертва водяному.
– Есть водяной царь или нет? – спрашиваю я окольным путем.
– Водяной царь! Как же, есть. Ведь молимся же мы «царь небесный, царь земной».
– И водяной?
– Нет, водяного нет в молитвах, а только есть же царь небесный, царь земной, значит есть и водяной.
Я расспрашиваю Василия дальше о его верованиях, он сказывается убежденным христианином.
– Но где-то и до сих пор, – рассказывает Василий, – верят лопари не в Христа, а в «чудь». Есть высокая гора, откуда они бросают в жертву богу оленей. Есть гора, где живет нойд (колдун), и туда приводят к нему оленей. Там режут их деревянными ножами, а шкуру вешают на жерди. Ветер качает ее, ноги шевелятся. И если есть мох или песочек внизу, то олень как будто идет Василий не раз встречал в горах такого оленя. Совсем как живой! Страшно смотреть. А еще бывает страшней, когда зимой на небе засверкает огонь и раскроются пропасти земные, и из гробов станет выходить чудь.
Василий рассказывает еще много страшного и интересного про чудь.
Рассказывает сказку о том, как лопарь захотел попасть на небо, настругал стружек, покрыл рогожей и сел на нее, поджег костер. Рогожа полетела, и лопарь попал на небо.
Я слушаю приключения лопаря на небе и вдруг понимаю Василия, понимаю, почему он болтлив, почему он хоть и старик, но глаза у него такие легкомысленные.
«ОЛЕНИЙ ОСТРОВ»
Возле берега на Оленьем острове мы испугали глухаря. Я успел его убить. Скорее найти его в траве, скорее подержать в руках!
Выхожу на берег, но меня встречает куча комаров и мошек. Бегом, скорей найти птицу – и в лодку. Но я спотыкаюсь о какие-то сухие сучья, камни, кочки. Комары меня едят, как рой пчел. Мелькает мысль, что и заесть могут, что это дело серьезное. Я поднимаюсь и с позором, без птицы, бегу к лодке. Глухаря достал один из лопарей.
Обогнув остров, мы подъезжаем, наконец, к тому месту, где должна быть вежа (лапландское жилище). Я замечаю их две одна – маленький черный колпачок аршина в два с половиной высоты, другая повыше и подлиннее.
– Одна, – говорит Василий, – для людей, а другая – для оленей. Какая побольше – для оленей, потому и олень побольше человека.
Теперь комары нас преследуют и на воде кажется, все, сколько их есть на острове, устремились к нам в лодку Истязание так сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, уничтожая сотни на своем лице. Я не имею мужества достать на дне моей котомки сетку, «накомарник», которым запасся еще в Кандалакше. Пока я ее нашел бы и приспособил, все равно комары съели бы меня.
А лопари с искусанными в кровь лицами и руками терпеливо и спокойно выносят испытание и даже рассказывают, что за каждого убитого комара до Ильина дня прибавляется решето новых, а после Ильина убавляется – и тоже по одному решету за комара.
Выскакиваю из лодки и стремглав несусь к веже, открываю дверцы и вместо людей вижу в полутемной веже оленьи рога. Я попал в оленью вежу. Звери не боятся. Я разглядываю их. Так понятны здесь эти кривые сучки-рога. Здесь, в Лапландии, столько кривых линий кривые, опущенные вниз сучья елей, кривые сосны, кривые березки, кривые ноги лопарей, башмаки с изогнутыми вверх носками. Тут есть белые, есть серые олени, есть совсем маленькие телята. Вся компания штук в тридцать.
Человеческая вежа – маленькая пирамидка, немного выше меня, из досок, обтянутых оленьими шкурами. Открываю дверцу и влезаю. Дверца с силой, своею тяжестью, захлопывается за мною.
Пока я разглядывал оленей, лопари уже все собрались в вежу, между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. В этой веже они все одинаковы, все сидят на оленьих шкурах у огня с черным котелком. Мне дают место на шкуре, я усаживаюсь, как и они, молчу. Отдыхаю от комаров и дыма. Потом начинаю разглядывать.
Вовсе не так плохо, как описывают. Воздух хороший, вентиляция превосходная. Вот только нельзя встать и необходимо сидеть.
С одной стороны огня я замечаю отгороженное место, покрытое хвоей, там сложены разные хозяйственные принадлежности. Это то самое священное место, через которое не смеет перешагнуть женщина.
Отдохнув немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные все на нее смотрят. Начинаю разговор с кривого башмака Василия. Выспрашиваю названия одежды, утвари и все записываю. На оленях ездят, оленей едят, на их шкуре спят, в их шкуры одеваются. Кочующие лопари.
– Почему вас называют кочующие? – спрашиваю я их.
– А вот потому кочующие, – говорят мне, – что один живет у камня, другой – у Ягельного бора, третий – у Железной вараки. Весной лопарь около рек промышляет семгу, придет Ильин день – переселится на озеро, в сентябре – опять к речкам. Около рождества – в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану. Лопарь – за ним.
Я узнаю тут же, что здесь, у Имандры, живут ненастоящие оленеводы; здесь пускают оленей на волю в горы, а занимаются больше охотой на диких оленей и рыбной ловлей.
Пока хозяйка чистит глухаря и устраивает его в котелке над огнем, мне рассказывают эту охоту на диких оленей, которая, впрочем, скоро совсем исчезнет со света.
Лопарь выходит в горы с собакой и ирвасом – оленьим самцом. В то время года у диких оленей «рехка», особенная жизнь; олень (ирвас) становится страшным зверем: шея у него надувается и делается почти такой же толщины, как туловище. Сильный старый самец собирает себе в лесу стадо важенок, стережет их и не допускает других. Но в лесу за ним следят другие ирвасы. Чуть только он слабеет, другой начинает с ним борьбу. Вот тут-то лопарь идет на охоту. Собака подводит к стаду. Домашний ирвас идет навстречу дикому. Прячась за оленя, лопарь подходит к дикарю, убивает одного и потом стреляет в растерявшееся стадо. Мясо спускается в озеро, «квасится» там, а лопарь идет за другим стадом. Осенью по талому снегу лопарь катит в горы на своих «чунках» и достает из воды мясо.
Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказывает мне жизнь лопарей. Другие все слушают внимательно, иногда вставляют замечания. Женщины молчат, скромные и почтенные, как у Гомера, занятые своим делом. Одна следит за ухой и глухарем, другая оленьими жилами шьет каньги (башмаки), третья следит за огнем.
Жизнь охотников рассказана. Теперь смотрят на меня: какова моя жизнь? Но как о ней спросить – этого никто не смеет. У них – охота, олени, лес. Что у меня?
– А есть ли в других державах лес? – слышу я голос с той стороны костра.
– Есть.
– На ужь!
Общий знак удивления, что и у нас есть лес.
Потом другой вопрос: «Есть ли горы?» И опять то же: «На ужь!» Потом разговор, совсем как и в настоящих гостиных, переходит на политику. Знают о Государственной думе, даже выбирали депутата, но только русского, а не лопаря. Я возмущаюсь: русские купцы, которые так безжалостно спаивают и обирают лопарей, представляют лопарей в Думе! Расспрашиваю ближе. Оказывается, кто-то раньше за них уже решил, кого выбрать.
– Пили вы при этом? – спрашиваю я. – Угощали вас?
– Пили, как же. Хорошо выпили, – отвечает Василий с легкомысленным видом. – А вот если бы меня выбрали, – продолжает он, – я бы тихонечко на ушко шепнул бы кому надо, как лопари живут.
– Что бы ты шепнул ему?
– А что вот у нас в озере сигов много: коптить бы их на казенный счет и отправлять в Питер. Да, я бы сумел, что шепнуть!
«Что бы им дать? – думаю я, представляя себя на месте царя, которому шепнул лопарь на ушко. – Христианскую проповедь? Но это уже использовано. Лопари – теперь христиане. Печенегский монастырь богател и разорялся и опять стал богатеть. Но лопари все такие же, и еще беднее, еще несчастнее, потому что русские и зырянские хищники легче могут проникать к христианам, чем к язычникам. Отдать их на волю цивилизации? Построить железную дорогу и дать образование?»
Я вспоминаю о том, что тут предполагалась железная дорога. Но ведь это не для них. При чем тут лопари?
– А как же! – говорит мне Василий. – И лопари тогда поедут в Петербург со своими сигами.
Василий смеется, радуется, как ребенок, этой воображаемой возможности, смеются и другие, даже женщины; радуюсь и я, потому что удовлетворен как гражданин: убиты зараз два зайца. Вот только образование. Но и образование как-нибудь так тоже неожиданно придет.
– А выучить лопаря, – замечает кто-то, – он тоже будет таким.
– Каким? – спрашиваю я.
В ответ на это мне рассказывают легенду об образованном лопаре.
Один лопарь поехал с оленями в Архангельск и потерял там мальчика. Продав оленей, он возвратился в тундру без ребенка. Между тем маленького лопаря нашли, воспитали, образовали; он стал доктором, и есть слух, что где-то хорошо лечит людей.
– Вот и лопарь, – заканчивает рассказчик, – а сделался доктором.
Я заражаюсь настроением лопарей. Под этим деревянным колпачком, с единственным отверстием вверху для дыма, культурный, прогрессивный мир мне вдруг начинает казаться бесконечно прекрасным, просторным и величественным, как небесный свод.
А я – несомненная частица этого мира!
Мне хочется что-нибудь сказать хорошее этим несчастным людям у костра. Что бы сказать?



