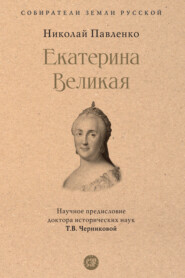скачать книгу бесплатно
20 февраля 1765 года императрица издала указ, начинавшийся словами: «Мы подлинно ведаем, что межеванье к государственному и народному спокойствию весьма нужно для пресечения беспрестанных тяжб, драк, смертоубийств, а чрез то и умножающихся в присутственных местах затруднительных дел». Специально созданной комиссии о государственном межевании в составе генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента Вотчинной коллегии Лунина и генерал-квартирмейстера князя Вяземского было поручено «рассмотреть, как удобнее и полезнее межеванье производить», какие коррективы надлежало внести в межевую инструкцию, чтобы избежать «неудобств и затруднений»[61 - РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 2, 3.].
Комиссия предложила утвержденные императрицей, принципиально отличавшиеся от прежних правила межевания, фактически положившие начало новому этапу в проведении этой важнейшей правительственной меры – манифест 19 сентября 1765 года устранил главное препятствие, замедлявшее межевание: отныне от землевладельца не требовались документы, подтверждавшие его право на владение землей. Граница между владениями считалась законной, если ее не оспаривали соседи[62 - ПСЗ. Т. XVII. № 12347.]. Таким образом все захваченные помещиками земли казны объявлялись им принадлежавшими. Подобных земель к концу XVIII века было зарегистрировано не менее 50 млн десятин.
Перспектива поживиться за счет казенных земель, разумеется, вызвала у помещиков нескрываемый восторг, описанный известным мемуаристом А. Т. Болотовым: «… Сей славный манифест о межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех владельцев деревенских заставил много мыслить, хлопотать, заботиться о всех своих земельных дачах и владениях»[63 - Болотов. Т. II. М.; Л., 1931. С. 324; Милов Л.B. Исследование об экономических примечаниях к Генеральному межеванию. М., 1968. С. 19, 20.].
Наиболее сложный и запутанный узел, который Екатерине предстояло развязать или разрубить, находился в области внешней политики. Заметим, что императрица во внешней политике, как и во внутренней, предпочитала не разрубать, а развязывать узлы, избегать крутых поворотов. 1 ноября 1762 года она изложила канцлеру Воронцову принципы, которыми решила руководствоваться во внешней политике: «При настоящем нерушимом состоянии европейских дел осторожность в новых алиациях и доброе внутреннее состояние должны быть нашим политическим правилом»[64 - Соловьев. Кн. XIII. С. 180.].
Первоочередная внешнеполитическая задача состояла в том, чтобы вывести Россию из тупиков, в которые ввергнул ее неистовый поклонник Фридриха II Петр III. Взойдя на престол, он поспешил заключить с Пруссией, с которой Россия вместе с союзниками воевала в Семилетней войне, не только мир, но и союз, передав в распоряжение прусского короля корпус Чернышова. В Берлине высоко оценили услугу русского императора. Министр Фридриха II Финкенштейн писал прусскому послу в Петербурге Гольцу: «Я желаю одного, чтобы этот государь, который кажется рожден для счастия Пруссии, жил и держался на русском престоле»[65 - Брикнер А. История Екатерины Второй. М., 1991. С. 272, 273.]. Взамен прусский король обещал Петру III оказать помощь в осуществлении абсолютно бесполезной для России затеи – отвоевания у Дании Шлезвига, полвека тому назад захваченного ею у Голштинии. Готовясь к походу против недавнего союзника, Петр III выступал в роли не Российского императора, а голштинского герцога. Парадокс поведения Петра Федоровича состоял в том, что он, покидая своих союзников, призывал их последовать своему примеру и немедленно заключить мир с Пруссией, прекратив взаимное истребление людей и истощение экономических ресурсов стран. Иными словами, он выступил, с одной стороны, в роли миротворца, а с другой – зачинателя новой бойни.
И. П. Аргунов.
Портрет Екатерины II. 1762.
Государственный Русский музей
Само собою разумеется, что этот неожиданный поворот в политике Петра III вызвал осуждение и резкий протест союзников России: Австрии, Саксонии, Дании, Швеции, Франции. После же переворота, совершенного Екатериной, Фридриха охватила такая паника, что он немедленно велел перевезти казну в Магдебург.
В сложившейся ситуации Екатерина проявила незаурядные дипломатические дарования: непоколебимую настойчивость в достижении поставленной цели, умение проявлять жесткость или, наоборот, выглядеть обаятельной в установлении доверительных отношений. В противоположность голштинцу Петру III, представлявшему на российском троне интересы Пруссии и Голштинии, немка Екатерина свято блюла интересы России. Она проявила широту взглядов на обстановку в Европе и место в ней России. Екатерина нисколько не лукавила, когда 17 ноября 1762 года писала Фридриху II: «Я чистосердечно сознаю, что принятая мною система не может одинаково нравиться всем моим друзьям… но я следовала в этом случае правосудию, интересу своей империи».
Первым внешнеполитическим шагом императрицы стала отмена датского похода, непопулярного как в армии, так и среди вельмож. Потребность в подобной акции со стороны Екатерины была настолько очевидной, что ее реализация не создавала простора для проявления мудрости. Другое дело – отношения со своими бывшими союзниками и с недавним противником. Возобновление союзнических обязательств и вероятное продолжение войны против Пруссии если и не были смертельно опасными для Екатерины, то во всяком случае не прибавляли ей популярности. Но еще больше бы охладели к ней ее сторонники, если бы она придерживалась внешнеполитической линии своего покойного супруга. Императрица избрала компромиссный путь: она осталась верной выходу из коалиции; более того, она претендовала на роль посредницы в мирных переговорах между союзниками и Пруссией, впрочем, дружно отклоненной обеими сторонами, ибо Пруссия считала, что это посредничество будет не в ее пользу, так как Россия настаивала на выходе прусских войск из Саксонии, а союзники полагали, что императрица будет симпатизировать не им, а кумиру своего покойного мужа Фридриху II.
Чтобы окончательно не восстановить против себя прежних союзников, Екатерина отозвала корпус Чернышова, но на разрыв отношений с Пруссией не пошла, так что опасения короля относительно судеб своей казны оказались напрасными. Екатерина намеревалась извлечь выгоду для России, играя на противоречиях между союзниками и Пруссией. Послу в Берлине она велела «в разговоре внушить королю прусскому, будто бы от себя, что видимая его склонность к войне может удержать меня (Екатерину. – Н. П.) от вящей дружбы с ним, королем, хотя некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику (Репнину. – Н. П.) подавать виды склонности к венскому двору; а когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае мое желание видеть мир и тишину».
Императрице пришлось решать еще ряд задач, оставленных предшественниками и не способствовавших ее популярности, ибо действия ее вызывали осуждение со стороны некоторых слоев населения. Речь пойдет о трех следственных делах, имевших общегосударственное значение. Анализ этих дел важен не только по существу, но и вследствие того, что в них раскрывались грани личности Екатерины.
Одно из этих дел было порождено секуляризацией церковных владений и связано с именем ростовского митрополита Арсения Мацеевича. Другое, по терминологии наших дней, относится к уголовным деяниям – оно было вызвано злоупотреблениями служебным положением и связано с именами генерал-прокурора Сената Александра Ивановича Глебова и его креатуры, следователя Петра Никифоровича Крылова. Заметим, что в годы правления Екатерины II проводилось немало следствий, связанных с казнокрадством, вымогательством взяток, превышением власти и т. д., но все они имели локальное значение и локальные последствия. Рассматриваемое дело тем и знаменито, что закончилось отрешением от должности первого лица в чиновной иерархии империи – генерал-прокурора Сената.
Если одно следственное дело отражает стремление императрицы соблюдать законность, а другое – ее личную неприязнь к объекту преследования, то в третьем следствии, связанном с подавлением крестьянских волнений, императрица выступает в ипостаси монарха, требующего рабского послушания от подданных. Истоки этих представлений Екатерины, как и Петра Великого, следует искать, во-первых, в убеждении, что монарху беспрекословно подчиняться «сам Бог повелевает», и, во-вторых, во мнении, что все исходящее от государя преследует единственную цель – благо подданных. Власть предержащие знают, как достичь этого блага, поэтому им надобно подчиняться беспрекословно.
Среди первых документов императрицы обнаруживаем указ от 18 июля 1762 года, осуждавший лихоимство. Быть может, он и не заслуживал бы особого упоминания, если бы не высокий эмоциональный накал, который отличает его от аналогичных указов предыдущих царствований. Императрица извещала подданных: «Мы уже от давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло: ищет ли кто места – платит, защищается ли кто от клеветы – обороняется деньгами; клевещет ли на кого кто – все происки свои хитрые подкрепляет дарами». Гнев императрицы вызвал поступок регистратора Новгородской губернской канцелярии Якова Ринбера, исхитрившегося брать с каждого присягавшего императрице взятку. Ринбер поплатился ссылкой в Сибирь на каторгу.
Но любителя вымогать взятки эмоциями не прошибешь – лихоимство уходило корнями в систему кормлений, существовавшую в XVI–XVII веках, когда управляемое население должно было содержать воеводу и его аппарат, а также в практику послепетровского времени, когда канцелярской мелкоте вместо выдаваемого жалованья официально разрешали брать подношения от челобитчиков. Искоренить лихоимство могло не обращение к совести, а прежде всего установление контроля за деятельностью бюрократии и выплата чиновникам должного вознаграждения за труд. Однако подобный контроль, как и свобода, противопоказаны абсолютной монархии.
Императрица была права в одном – лихоимство в государстве действительно достигло невиданных размеров. Свидетельством этому стало нашумевшее дело следователя Крылова, к которому оказалось причастным высшее должностное лицо в государстве – генерал-прокурор Сената Глебов.
Своей карьерой Глебов был обязан Петру Ивановичу Шувалову, известному дельцу и прожектеру елизаветинского царствования. Когда положение Шувалова при дворе несколько пошатнулось, он решил поправить дела несложным, но испытанным по своим благоприятным последствиям способом – заключением брачного союза между двоюродной сестрой императрицы Елизаветы Петровны, вдовой Марьей Симоновной Чоглоковой (в девичестве графиней Гендриковой), и Глебовым, который в свои 32 года благодаря протекции Шувалова занял должность обер-секретаря Сената. Однажды, проезжая мимо дома Чоглоковой, Шувалов вымолвил запавшую в душу Глебова фразу: «Вот вдовушка изрядная живет, и чтоб я отведал своего счастья». Эта вдовушка пользовалась полным доверием императрицы, и Шувалов своими хлопотами о браке намеревался через будущего супруга и своего подопечного оказывать на нее влияние.
Глебов внял совету своего покровителя – познакомился с вдовой и после настойчивых ухаживаний стал супругом дамы, переживавшей последнюю стадию чахотки. Он полагал, что брак избавит его от финансовых затруднений, но ошибся – труда 900 душ крепостных и восьмитысячного жалованья явно недоставало для обеспеченной жизни в столице, и Александр Иванович Глебов лихорадочно принялся искать новые источники дохода. Лакомый кусок казенного пирога в виде металлургических заводов на Урале ему не достался – когда происходил дележ заводов между вельможами, Глебов еще не занимал важного поста, дававшего ему право на получение предприятий на льготных условиях, и он обратился к винным откупам и подрядам, причем взор его пал на Иркутскую провинцию, где, по слухам, местные купцы получали от винокурения и откупов баснословные барыши.
Глебов начал с попытки подешевле скупать купеческие винокурни. Дело в том, что по указу от 19 сентября 1755 года купцы лишались прав владеть винокуренными предприятиями – им предлагалось в шестимесячный срок либо продать винокурни дворянам, либо разрушить их. Винокурение, таким образом, провозглашалось дворянской монополией. Но указ 1755 года допускал исключения – в отдаленных местностях купцам разрешалось владеть заводами. Иркутская провинция давала купцам основание считать свое право владеть винокурнями незыблемым еще и потому, что в Сибири почти отсутствовало помещичье землевладение, следовательно, дворяне практически были лишены возможности претендовать на приобретение купеческих винокурен. Нашелся, однако, дворянин, решивший завладеть как заводами, так и откупом. За винный откуп в Иркутской провинции Глебов уплатил в 1756 году 58 тысяч рублей и тут же перепродал его двум петербургским купцам уже за 160 тысяч единовременно и по 25 тысяч ежегодно в течение десяти лет. Глебов отправил в Иркутск своего поверенного Евреинова, уполномочив его потребовать от купцов передачи винокурен. К удивлению Глебова иркутяне уперлись и не желали расставаться с выгодной статьей доходов. Вице-губернатор генерал-майор Вульф поддержал купцов, считая их требования вполне обоснованными. Уговоры не подействовали, и обер-прокурор прибег к угрозам – обещал найти на купцов управу и обратиться в Сенат с просьбой «об учинении следствия о всех их поведениях и иметь себе в сатисфакцию справедливость закона, и буде они тем себя льстят, чтобы его, через учиненные ему убытки, удержать от поставки вина, то сие несправедливо мыслят… а когда они надеются на свое богатство, то оно всеконечно, сколько бы велико ни было, не затмит правосудия»[66 - Головачев П. М. Иркутское лихолетье 1758–1760 гг. М., 1904. С. 35; РИО. Т. 1. С. 215, 216.].
В действительности не купцы, а Глебов попытался «затмить правосудие» и бесчестными средствами выиграть тяжбу. В итоге Сенат, идя на поводу у обер-прокурора, 30 января 1758 года издал указ, по которому отправлявшемуся в Иркутск следователю, коллежскому асессору Петру Никифоровичу Крылову, велено «все по доношению господина Глебова следствие производить надлежащим порядком, чиня основательные в чем кому надлежит допросы без наималейшего послабления и поноровки». Сенатский указ предоставлял Крылову неограниченные возможности для злоупотреблений и предвзятых заключений, ибо давал ему право опираться не на материалы следствия, а на показания поверенного Глебова. Более того, Крылову разрешалось в некоторых случаях «и без доказательств то следствие производить».
Крылов вполне оправдал надежды блюстителя законов. Чинимый им произвол оказался в диковинку даже для видавших виды жителей далекой Сибири. Глебов поощрял усердие следователя двумя способами: сулил ему награждение, уверяя, что «он без удовольствия Сената оставлен не будет», предоставлял ему право информировать о ходе следствия не Сенат, пославший его в Иркутск, а лично его, обер-прокурора Глебова. Таким образом, Глебов выступал сразу в трех ипостасях: доносителя, обвинителя и руководителя следствия.
Результаты деятельности Крылова не заставили долго ждать: прибыв в Иркутск, он вызвал из Селенгинска для своей охраны и исполнения распоряжений по одним сведениям 25, а по другим 77 казаков во главе с тремя обер-офицерами. Располагая такой военной силой, Крылов обрел полную независимость от местных властей. Более того, почитая себя представителем центральной администрации, он стремился не только подмять под себя местную власть, но и поставить ее в полную от себя зависимость. Селенгинские казаки вели себя в Иркутске, словно в только что завоеванном неприятельском городе. По свидетельству иркутской летописи, облачившись в белые саваны и встав на ходули, они наводили ужас на местных жителей, занимаясь грабежом и разбоем.
Крылов начал следствие с того, что велел взять под стражу членов городского магистрата и опечатать хранившиеся в магистрате документы. Начавшееся следствие сопровождалось жестокими истязаниями и вымогательством денег у иркутских купцов; под пытками те признавались в несовершенных преступлениях и злоупотреблениях и по повелению следователя вносили в казну деньги, якобы неправедно ими нажитые, – например, путем завышения себестоимости вина и его продажной цены или ухудшения его качества. В Иркутске не осталось ни одного купца, не подвергнувшегося вымогательствам. У 111 купцов в общей сложности было изъято 155 505 рублей 80 копеек – самые богатые из них под пытками и жестокими истязаниями раскошеливались на десятки тысяч рублей. Так, у Николая Брегалова Крылов изъял 23 тысячи рублей, у Ивана Бичевина – 30 тысяч рублей, причем этот купец в застенках Крылова скончался от пыток, у Михаила и Максима Глазуновых – по 15 тысяч с каждого. У менее богатых удалось выколотить десятки рублей: у Тараса Ракитина – 60, у Григория Кузнецова – 50, у Ивана Смирина – 15, а Василий Шарыпов внес всего-навсего 1 рубль 55 копеек. Под угрозой новых истязаний иркутские купцы отправили в Петербург депутацию, которая должна была выразить Сенату благодарность за справедливые действия Крылова, преподнести Глебову и его домочадцам подарки от имени иркутского купечества, а главе семьи – взятку в размере 30 тысяч рублей.
Действия Крылова оставили у многих поколений иркутян зловещую память о насилиях, несправедливости и лихоимстве, приведших к полному разорению подавляющего числа купцов. Многие из ранее процветавших купеческих домов стараниями Крылова превратились в нищих в буквальном смысле слова.
Крылов прославился не только вымогательствами, истязаниями и пытками, но и блудом. Иркутская летопись зафиксировала факты того, как следователь угрозами и истязаниями принуждал купеческих жен и дочерей к сожительству, растлевал малолетних, причем делал это публично. Летопись отметила садистские наклонности коллежского советника: поселившись в доме Ивана Мясникова, он превратил его в тюрьму и пыточную, а за «несклонность» жены хозяина к сожительству велел мужу бить ее батожьем, и тот к удовольствию следователя сек супругу. Жена, спасаясь от истязаний Крылова, вынуждена была скрываться у знакомых. На совести Крылова растление десятилетней девочки, изнасилование дочери купца Ивана Воротникова.
Купцы жаловались на бесчинства Крылова, но их челобитные ревнитель правосудия Глебов клал под сукно. Безнаказанность следователя еще больше распаляла его усердие, он входил в раж. Быть может, его действия так и остались бы без разбирательства и неприятных для него последствий, если бы он в своем усердии не перешагнул бы рамки дозволенного даже по сибирским меркам. Крылов замахнулся на самого иркутского вице-губернатора Вульфа. Этот Вульф еще в июне 1759 года доносил императрице о бесчинстве Крылова, но донесение, благодаря усилиям Глебова, осталось без последствий: вместо расследования злоупотреблений Крылова Сенат в угоду Глебову объявил Вульфу выговор: «к самой ее императорскому величеству того донесения присылать не надлежало и впредь бы такого дерзновения не чинить». Одновременно Сенат рекомендовал Крылову поступать более осмотрительно и в то же время выражал удовлетворение его деятельностью, принесшей казне свыше 150 тысяч рублей дохода.
Похвала Сената воодушевила Крылова на новые бесчинства – он отстранил от должности и взял под стражу Вульфа и «сам вступил в правление вице-губернаторской должности и тем узаконенную власть похитил». Вульф, однако, изыскал способ известить о случившемся в столицу, и императрица Елизавета Петровна велела расследовать подвиги Крылова. Сенат даже лишил его чинов, но Глебов и на этот раз выручил следователя из беды, замяв дело.
Петр III пожаловал Глебова генерал-прокурором, и, следовательно, его положение усилилось настолько, что иркутские купцы не осмелились подать новую жалобу. Должность генерал-прокурора Глебов сохранил и при Екатерине II. Многочисленные записки императрицы к генерал-прокурору свидетельствуют о том, что этот нечистоплотный человек вплоть до конца 1763 года пользовался ее полным доверием. Саксонский посланник граф Брюль, видимо, точно подметил одну деталь в поведении Глебова: он умел нравиться. Приведем полностью слова посланника: Глебов «человек с головою, следуя общему стремлению, умеет нравиться, пользуется большим влиянием, вследствие должности, занимаемой им при Сенате, дающей ему почти всемогущество в делах внутреннего управления».
Лишь новое расследование дела убедило императрицу в том, что служебное рвение Глебова наносит ущерб ее престижу и урон трону, и она отстранила его от должности. Уволенный Глебов 20 февраля 1764 года подал императрице письмо, претендующее на исповедь. В нем Глебов поведал, как он по совету П. И. Шувалова женился на вдове Чоглоковой, как он терпел нужду в деньгах, побудившую его заняться откупами. Однако в письме ни слова не говорилось о том, что он покрывал преступления Крылова и что ради своекорыстных интересов попирал законы. Екатерина оставила послание без ответа, ибо не обнаружила в нем раскаяния за содеянное. Это видно из ее «Наставления» назначенному вместо Глебова генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу Вяземскому, которое начинается фразами, осуждающими Глебова: «Прежнее худое поведение, корыстолюбие и лихоимство и худая вследствие сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и искренности против меня нынешнего генерал-прокурора, все сие принуждает меня его сменить и совершенно помрачает и уничтожает его способность и прилежание к делам…»[67 - РИО. Т. 1. С. 345.]
Неизвестный гравер. Фонтанка у императорского
сада в Петербурге. XVIII в.
Императрице были доподлинно известны достоинства и недостатки Глебова, но она по привычке уклоняться от резких оценок и характеристик не решилась на подлинную оценку генерал-прокурора даже в секретнейшем документе. В тексте, не предназначавшемся для печати, который публикаторы озаглавили «Портреты нескольких министров», императрица писала: «У Глебова очень большие способности, соединенные с равным прилежанием; это олицетворенная находчивость, но он плут и мошенник, способный однако на большую привязанность.
Жаль, что он молодым попал в руки Петра Шувалова, по образцу которого он и сформировался, он слишком тверд, чтобы можно надеяться, что бы изменится, только его личный интерес может его заставить измениться, это все, на что можно надеяться»[68 - Ек. Втор. С. 710, 711.].
Несмотря на суровую оценку служебной карьеры А. И. Глебова, он не подвергся каре, которую заслуживал. 3 февраля 1764 года Глебов был уволен со службы с присвоением чина генерал-поручика, но с запрещением занимать правительственную должность. С него велено было взыскать убытки, причиненные иркутянам. Внес ли он их – неизвестно. В опале Глебов находился десять лет, в апреле 1773 года был вновь принят на службу, участвовал в суде над Пугачевым, в 1774 году назначен смоленским наместником, но затем вновь оказался под судом. Ничем закончились и преследования Крылова. По указу, его велено было вместо заслуженной им смертной казни «высечь в Иркутске кнутом и сослать на каторгу в работы вечно, а имение его, описав, продать с аукциона и взятые за оное деньги употребить на раздачи обиженным, кому что принадлежит в силу законов». Указ не был исполнен, Крылов не понес наказания, и купцы никакой компенсации не получили.
Так называемая иркутская история повлекла не только смену генерал-прокурора, но и дала повод императрице выступить в роли законодательницы – в 1764 году она сочинила «Наставление» вновь назначенному прокурору А. А. Вяземскому. Значение этого документа выходит за рамки определения обязанностей данного должностного лица. По сути, документ с полным основанием можно отнести к разряду программных актов императрицы, наметивших задачи царствования на ближайшие годы.
От генерал-прокурора Екатерина требовала преданности и честности: «Я весьма люблю правду, – прокламировала свою позицию императрица, – и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против мене без всякого опасения, лишь бы только то благо произвело в деле». И еще одно пожелание автора «Наставления» – она не требует от генерал-прокурора «ласкательства», то есть подхалимства, «но единственно чистосердечного обхождения и твердости в делах».
По мнению императрицы, генерал-прокурор должен стоять выше существовавших в Сенате группировок, каждая из которых будет стараться привлечь его на свою сторону, и ко всем относиться одинаково беспристрастно. Екатерина призывала остерегаться как «раболепства» вельмож, от которого страдают интересы государства, так и обмана канцелярских служителей, всегда готовых в угоду начальству приукрасить истинное положение дел. Верность и честность будут вознаграждены: «а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам».
Выше отмечалась покорность духовенства, как должное принявшего изъятие у себя имущества. Лишь очень немногие встали на защиту церковного, архиерейского и монастырского землевладения. Среди них выделялся голос Арсения Мацеевича.
Когда вчитываешься в отраженные источниками перипетии борьбы Арсения за сохранение церковью ее земельных владений и крестьян, то вспоминаются события вековой давности, развернувшиеся вокруг патриарха Никона и протопопа Аввакума. Здесь находим тот же фанатизм, несгибаемую волю в борьбе за свои идеи и то же неумение соразмерить свои силы и возможности с силами противоборствующей стороны. Более того, упорство Арсения выглядело безрассудным и обреченным, поскольку силы сторон оказались еще более несоизмеримыми, чем столетие назад – тогда светская власть лишь двигалась к абсолютизму, теперь абсолютная монархия утвердилась и окрепла; тогда существовало патриаршество, теперь церковными делами командовал послушный светской власти Синод, низведенный до обычного правительственного учреждения; тогда события приобрели значение трагедии и имели огромный резонанс не только внутри страны, но и за ее пределами – теперь они выглядели фарсом (по крайней мере, им пыталась придать такой оттенок императрица) и оставили малозаметный след в истории.
Непокорный нрав, неуживчивый и властный характер Арсений Мацеевич (1697–1772) проявил еще в юные годы – его беспокойная и мятущаяся натура заставляла его то и дело менять место службы и место жительства: он учился в Киевской академии, не закончив ее, оказался в Новгород-Северском Спасском монастыре, затем Чернигов, вновь Киев, Устюг Великий, Холмогоры, Соловецкий монастырь, Камчатская экспедиция 1734–1737 годов. В 1741 году он был посвящен в сан митрополита и поставлен во главе Тобольской епархии. В Сибири Арсений тоже долго не задержался. Похоже, он успокоился лишь после того, как в 1742 году получил архиерейскую кафедру в Ростове, которую занимал свыше двух десятилетий[69 - РС. Т. 24. 1879. С. 24, 25.].
В первые же годы пребывания в Ростове Мацеевич вступил в конфликт с вышестоящими духовными властями, но тогда ему все сошло с рук: набожная императрица Елизавета Петровна относилась к нему снисходительно и даже благосклонно. Так, Арсений позволял резкие выпады против Коллегии экономии, оспаривая ее постановления. Когда в 1742 году Коллегия экономии прислала в Ростовский Авраамиев монастырь на содержание отставного солдата, Арсений резко отозвался об этой акции Коллегии, предварительно не осведомившейся, «есть ли в епаршеских монастырях порожние порции». Ход мыслей был оскорбителен для коллежских чинов: «У кого удобнее из порций убавить и дать солдату: у бедного ли монаха или у коллежского члена, которому и сверх жалованья из монастырей везут немало?»
В том же году Арсений вновь отказался принять партию инвалидов и на жалобу Коллегии экономии Сенату ответил последнему «поносительными словами». От неприятностей Мацеевича спасло опять заступничество Елизаветы Петровны. Арсений решил более не испытывать судьбу и стал проситься на покой, но императрица отказала в просьбе. При Екатерине Арсений воспрянул духом и всерьез воспринял обещание императрицы не отбирать имения у духовенства. Но последовавшие затем практические меры развеяли радужные надежды. Неведомыми каналами Мацеевичу стало известно отношение комиссии к церковному землевладению, и он, очертя голову, ринулся в бой. Уже 9 февраля 1763 года в Ростовском соборе Арсений совершил вызывающий обряд отлучения не только тех, «кто встанет на церкви Божии», но и их крамольных советников. Проклятию подлежали также все, кто покушался на церковные имения.
Тем самым Арсений встал на путь открытой схватки с церковными иерархами, сидевшими в Синоде, и самой Екатериной. 6 марта того же года он отправил в Синод доношение с напоминанием обещания императрицы поднять скипетр в защиту «нашего православного закона». Заявлением, что даже при татарском иге церковное землевладение оставалось неприкосновенным, Арсений бросил вызов как духовной, так и светской власти. Протестовал ростовский митрополит и против навязываемой государственной властью обязанности монастырей содержать «всякие науки»: философию, богословие, астрономию, математику. Он соглашался лишь на содержание монастырями начальной школы.
Одновременно с официальным донесением Синоду Арсений решил оказать влияние на императрицу через приближенных к ней лиц – он отправил письмо симпатизировавшему ему А. П. Бестужеву-Рюмину и давнему своему приятелю духовнику Дубенскому. Бестужев замолвил словечко в защиту Арсения, но, получив от императрицы резкую отповедь, решил ей более не докучать. Екатерина писала: «Я чаю ни при котором государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем Синодом митрополита ростовского». Она напомнила, что в прошлом даже за менее серьезные прегрешения «преосвященным головы секли», и что она, несмотря на свое милосердие и человеколюбие, обязана наказать нарушителя «тишины и благоденствия народа».
Синод 12 марта направил императрице доклад с осуждением доношения Арсения. «Оно клонится, – писалось в докладе, – к оскорблению ее императорского величества, за что Арсений подлежит великому осуждению». Однако Синод не осмелился определить меру «великого осуждения» и возложил эту обязанность на императрицу. Екатерина, хотя и обнаружила в докладе Синода «превратные и возмутительные толкования Священного писания» Арсением, а также его посягательство на спокойствие подданных, но, стремясь прослыть гуманной и имея возможность проявить милосердие, поручила определить наказание Синоду. Тот без промедления отправил в Ростов офицера с командой, поручив ему доставить митрополита Арсения в Москву, где в это время находился двор.
Между тем Арсений, не осведомленный о том, сколь неблагоприятные для него события последовали после первого доношения, отправил второе. В нем он восхвалял Елизавету Петровну за упразднение Коллегии экономии, писал об оскудении храмов и исчезновении церковного благолепия после секуляризации. Заканчивалось донесение просьбой уволить его на покой по причине одолевших его недугов. Вместо покоя Арсению довелось испытать множество тяжелейших испытаний.
В связи с доставкой Арсения в Москву Екатерина писала генерал-прокурору А. И. Глебову: «Нынешнюю ночь привезли враля, которого исповедывать должно: приезжай ужо ко мне, он здесь во дворце будет»[70 - РИО. Т. 7. С. 334.].
Разговор состоялся в присутствии Екатерины, но Арсений позволил себе столь непочтительно отзываться об императрице, что та заткнула уши и велела закрыть рот Арсения кляпом.
Портрет Екатерины II в меховой шапке.
Неизвестный художник. 1767.
Государственный Русский музей
Враждебное отношение императрицы к ростовскому митрополиту не подлежит сомнению. Истоки этой враждебности следует искать не только в посланиях Арсения, но и в нелестных отзывах его об императрице, которые он высказывал окружению и которые стали ей известны. Митрополит в числе прочего говаривал об отсутствии у Екатерины прав на престол. В изложении самой императрицы упреки Арсения выглядят так: «де величество наше неприродная и в законе нетверда и не надлежало бы ей престола принимать, но следовало бы Ивану Антоновичу».
Суд над митрополитом начался 1 апреля 1763 года, а спустя неделю, 7 апреля, Синод направил императрице приговор: «архиерейства и клобука его лишить и сослать в отдаленный монастырь под крепкое смотрение и ни бумаги, ни чернил не давать там». Приговор Синода дал Екатерине повод проявить милосердие. По сути, она оставила его без изменений, сохранив за Арсением лишь монашеский чин, что освобождало его от гражданского суда и возможности истязаний.
Синод назначил Арсению местом ссылки Ферапонтов монастырь – тот самый, где столетием раньше находился в заточении неукротимый патриарх Никон. В Синоде состоялась церемония лишения митрополита сана: его привели туда в архиерейском облачении, а вывели в простой монашеской одежде, усадили в колымагу и тут же тронулись в путь. Офицер, сопровождавший опального, в пути получил новый указ – местом ссылки был определен не Ферапонтов, а более отдаленный Корельский Никольский монастырь Архангелогородской губернии. На пропитание ему положили 50 копеек в день, причем три дня в неделю его велено было использовать на черных работах: колоть дрова, мыть полы, носить воду.
Императрица, торжествуя победу, все же чувствовала себя неловко. Это видно из ее письма к Вольтеру, в котором Екатерина пыталась изобразить себя в более благородном свете, а митрополита, наоборот, – в неприглядном, представив дело так, будто бы он воскрешает идею Никона о двоевластии. Екатерина извещала Вольтера, что Арсений, «фанатик, виновный в замысле, противном как православной вере, так и верховной власти, лишен сана и священства и передан в руки светского начальства. Я простила его, удовольствовавшись тем, что перевела его в монашеское звание». В этой информации множество неточностей – императрица зря приписала Арсению претензии на двоевластие и скрыла от фернейского мудреца факт ссылки митрополита в отдаленный монастырь, где больной старец должен был выполнять тяжелые работы.
Пребывание в монастыре на скудной монашеской пище, а также суровый режим, при котором ему разрешались прогулки лишь в сопровождении четверых солдат, не лучшим образом повлияли на строптивый характер Арсения. Вместо смирения он проявлял непослушание и раздражительность, в особенности после того, как до него донеслись слухи из столицы о двух важных событиях: о секуляризации церковных имений и о гибели Иоанна Антоновича. Арсений откровенно выражал свой протест в разговоре с караульными солдатами, говаривал им об Иоанне Антоновиче, что «невинно он смерть получил». Иногда монастырское начальство разрешало Арсению произносить проповеди, и тогда с амвона звучали обличительные слова. Все разговоры сходили ему с рук, пока в 1767 году протодиакон Иосиф Лебедев не настрочил донос в губернскую канцелярию. Об этом доносе стало известно Екатерине, и Арсений вновь привлек ее пристальное внимание. Непосредственное наблюдение за ходом следствия она поручила генерал-прокурору А. А. Вяземскому. В итоге Архангелогородская канцелярия получила указ, по которому поведению ссыльного дана была политическая оценка. Меру наказания определила сама императрица: она повелела лишить Арсения монашеского звания, облачить его в мужицкую одежду, назвать Андреем Вралем, переменить место ссылки и ужесточить режим содержания. Андрея Враля надлежало перевести в Ревель, лишив возможности общения с кем бы то ни было. Караульными были назначены солдаты, не знавшие русского языка.
Императрица понимала, что дело Арсения не украшает первые годы ее правления, и поэтому позаботилась о том, чтобы события в ее интерпретации стали достоянием не только Вольтера, но и просвещенной части французского общества. С этой целью, конечно же не без ведома Екатерины, была составлена статья о деле Мацеевича, переведенная на французский и предназначавшаяся для опубликования в газетах. Статья начинается с торжественной декларации, в которой сообщалось, что нет более милосердного и великодушного монарха, чем Екатерина, проявившая снисходительность к преступнику, выступившему «как против человеческих, так и против божественных законов». Далее следовало краткое изложение событий, к которым был причастен Мацеевич, причем без искажения. Екатерина, ознакомившись с содержанием статьи, наложила резолюцию: «Опробуется».
20 декабря 1767 года в губернской канцелярии состоялось расстрижение монаха Арсения. Сани с Андреем Вралем сопровождали два сменявших один другого офицера, каждому из которых вручалась инструкция: первый должен был везти его от Архангельска до Вологды, второй – от Вологды до Ревеля. Третья инструкция предназначалась ревельскому коменданту Тизенгаузену. О значении, придаваемом Екатериной ревельскому узнику, свидетельствует ее собственноручная записка коменданту: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка, береги, чтоб не улетела».
Не обделен был вниманием императрицы Андрей Враль и в последующие годы. В 1769 году Тизенгаузена на посту коменданта Ревеля сменил Бенкендорф. В этой связи Екатерина отправила генерал-прокурору Вяземскому записку: «Не изволишь ли писать к нему (Бенкендорфу. – Н. П.), чтобы он за Вралем имел смотрение такое, как Тизенгаузен имел, а то боюсь, чтоб не бывши ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии свои какие ни на есть штуки, и чтоб не стали слабее за сим зверком смотреть, а то нам от того не выливались новые хлопоты».
Насколько обоснованны опасения Екатерины? Действительно ли протест Арсения представлял серьезную угрозу светской власти. И в самом ли деле Екатерина должна была предпринять решительные меры, чтобы пресечь нависшую опасность? На поставленные вопросы можно дать отрицательный ответ: сорвать секуляризационные планы императрицы Мацеевич не мог, и это та прекрасно понимала. И если императрица уготовила бунтарю суровую кару, то эта ее акция, скорее всего, имела личную подоплеку: резкие и нелестные о ней отзывы, высказанные им еще в 1762 году. Во время второго следствия над Арсением в 1767 году доносчик писал: «Монах де Арсений говаривал слова такие: “ее да величество наша неприродная, и она де нетвердая в законе нашем и не надлежало де ей Российского престола принимать, а следовало Ивану Антоновичу, или лучше бы было, кабы ее величество за него вступила в супружество”.» Екатерина против этого текста сбоку написала: «Сии слова Арсений говорил и в 1762 году капитану Дурново, когда сей последний приезжал его брать в Синод, и так Алексеевский то не выдумал». Слова Арсения, как видим, столь глубоко задевали Екатерину, что она их помнила и пять лет спустя.
Обрушившиеся на Арсения кары осуществлялись в годы, когда императрица усердно сочиняла свой «Наказ» и созывала Уложенную комиссию. Идеи «Наказа» резко контрастировали с жестокостью, проявленной императрицей по отношению к Арсению. Поведение Екатерины кажется странным еще и потому, что Арсений до 1767 года наивно полагал, что ей неведомы подлинные его доводы против секуляризации, что она пользовалась донесениями Синода и вельмож, намеренно искажавшими его мысли, и что стоило ей почитать его подлинные донесения, как она проникнется его, Мацеевича, идеями и отменит секуляризацию.
Третье следственное дело связано с волнениями приписанных к уральским заводам государственных крестьян. Специфика этого следствия состояла в том, что следователи не ограничивались только дознанием, выявлением зачинщиков, но прибегали и к использованию воинских команд, вооруженных, помимо стрелкового оружия, еще и пушками.
Волнения начались в середине 50-х годов, вскоре после передачи казенных заводов вельможам, то есть задолго до вступления на престол Екатерины II. Они были вызваны хищнической эксплуатацией крестьян новыми владельцами. В погоне за барышами вельможи обременяли крестьян непомерно высокими нормами повала леса и жжения древесного угля: они считали для себя невыгодным использовать наемных работников, поскольку установленная казной еще в 1724 году оплата труда приписных крестьян была в три-четыре раза ниже рыночной.
Приводить крестьян в повиновение Екатерина поручила генерал-квартирмейстеру Александру Алексеевичу Вяземскому. В декабре 1762 года была составлена инструкция, которая разъясняла, как ему надлежит действовать. Первым делом Вяземский должен был привести заводских крестьян к послушанию, то есть принудить их выполнять возложенные на них повинности, и только после этого заняться выяснением причин, вызвавших их недовольство. Ведя следствие, Вяземский должен был опираться на жалобы обеих сторон, исследовать их «беспристрастно», ибо, говорилось в инструкции, «как крестьянская продерзость всегда вредна, так и человеколюбие наше терпеть не может, чтоб порабощали крестьян выше мер человеческих, особенно с мучительством». Вяземскому, располагавшему воинской командой, было предоставлено право чинить суд и расправу не только над зачинщиками волнений, но и над приказчиками, отличавшимися жестоким обращением с крестьянами. При наказании приказчиков «надобно брать предосторожность, чтоб крестьяне не возмечтали, что их начальники и тогда должны их бояться, когда им не нравится и правильная работа». В случае, если крестьяне будут продолжать упорствовать, в них разрешалось стрелять.
Кроме того, Вяземскому вменялось в обязанность изучение состояния уральских заводов, их оборудования, производительности, обеспеченности рабочей силой. Ему также поручалось дать аргументированный ответ на вопросы, не целесообразнее ли отказаться от использования труда приписных крестьян и заменить его вольнонаемным и не следует ли все казенные заводы передать в частные руки.
За выполнение поручения Вяземский и сменивший его генерал Александр Ильич Бибиков заслужили похвалу императрицы. Оба они действовали жестоко, оставляя кровавый след в приписных деревнях. По свидетельству Екатерины, генералы, унимая непокорных, «не единожды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек».
Примечателен секретный доклад карателей о результатах следствия, в котором дан обстоятельный анализ причин крестьянских волнений. Из этого анализа вытекает, что виновниками волнений были вельможи-заводовладельцы, обременявшие крестьян высокими уроками при низкой оплате труда.
Императрице удалось не только разгрести наследие предшественников, но и осуществить первые самостоятельные шаги. Причем речь идет не о традиционных первых шагах государей, вступивших на престол, – то есть не об обычных милостях по отношению к вельможам, оказавшимся ранее в опале. Екатерина в этом плане не составляла исключения и, как мы помним, вернула из ссылки А. П. Бестужева-Рюмина и отстраненного от дел Я. П. Шаховского. В данном случае нас не интересует и смена лиц, стоявших у кормила правления, которая обычно сопровождала смену лица на троне. Наше внимание привлекут новшества во внутренней и внешней политике, отраженные в действиях и законодательных актах нормативного характера, обозначавших вехи истории страны.
В первых самостоятельных действиях императрицы, прежде всего в области внутренней политики, практически невозможно обнаружить следы сколько-нибудь продуманной системы либо программы, части которой в строгой последовательности претворялись бы в жизнь. Ученица Вольтера располагала достаточным временем, чтобы подготовить себя к занятию трона, о чем она вожделенно мечтала по крайней мере лет шесть. Однако новшества, даже более или менее существенные, на наш взгляд, внедрялись стихийно. В этом смысле Екатерина, располагавшая большими возможностями, чем Петр I, практически повторила путь, пройденный великим реформатором: преобразования в течение первых тринадцати лет проводились в угоду сиюминутных потребностей. И еще одна перекличка с петровским временем – инициатива реформ часто исходила не от императрицы, а от ее окружения.
Исключение составляет указ, опубликованный спустя чуть больше месяца после восшествия на престол, 31 июля 1762 года, и скорее всего навеянный собственными размышлениями и наблюдениями императрицы. Документ расширил список товаров, находившихся в вольной продаже за счет смолы и ревеня. Отменялась казенная монополия на торговлю с Китаем, а также откупы на тюленьи и рыбные промыслы и табак. Сбор таможенных пошлин, находившихся с 1758 года на откупе у купца Шемякина, тоже изымался из его ведения, как и ввоз в Россию шелка. В казенной монополии оставалась лишь торговля поташом и смольчугом, что мотивировалось необходимостью беречь леса[71 - ПСЗ. Т. XVI. № 11630.]. Ликвидация откупов, как и монополии на ходовые товары, избавляла торговлю и промыслы от пут средневековой регламентации и являлась серьезной заявкой на свободу предпринимательства.
В 1763 году Екатерина взялась было проводить кардинальные реформы, но остановилась на полпути. Речь идет о проектах Никиты Ивановича Панина, заключавшихся в реформировании Сената и создании нового учреждения – Императорского совета. По мнению Панина, Сенат, состоявший из 25–30 вельмож, давно превратился в громоздкую и малоэффективную махину, поскольку сенатор, как писал Панин, «приезжает на заседание как гость, который не знает не только вкуса кушанья, но и блюд, коими его будут потчевать». Если эту метафору перевести на деловой язык, то суть критического замечания Панина состояла в том, что многие члены Сената бездельничали, позволяли себе отмалчиваться и пассивно наблюдать за происходившим. Положение исправится, полагал Панин, если Сенат разделить на департаменты, в каждый из которых должно определить по шесть членов. Тогда исчезнет возможность прятаться за спины других, и дела в Сенате пойдут быстрее.
Панин предлагал разделить Сенат на шесть департаментов, каждому из которых надлежало ведать строго определенной отраслью управления. Например, одному департаменту поручалось ведать делами Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегий; создавались департамент по Юстиц- и Вотчинной коллегии, Департамент, ведавший делами бывшей Рекетмейстерской конторы (он принимал жалобы); Департамент по Военной и Адмиралтейской коллегиям и др. Екатерина одобрила и утвердила панинский проект, и реформа Сената была осуществлена в 1763 году.
Иная участь постигла проект того же Н. И. Панина об учреждении Императорского совета. Панин подверг резкой критике предшествующие царствования, когда страной правили временщики и «припадочные люди», как он именовал фаворитов. И те и другие не радели об интересах государства, предметом их забот были личные интересы. И те и другие олицетворяли зло, поскольку не обладали необходимыми для управления способностями. Лица, преуспевшие в карьере, руководствовались правилами – «была бы милость, всякова на все станет». Создавался порочный замкнутый круг: «прихоть была единственным правилом, по которому дела к производству были избираемы». Власть «припадочных людей» котировалась выше власти государственных учреждений, а отсюда проистекало множество пороков: лихоимство, безнравственность, произвол. От этих пороков и должен был избавить страну Императорский совет. Но его надобность обусловлена и тем, что монарх, удовлетворяющий самым высоким требованиям, не в силах справиться с огромным потоком дел.
Императорский совет, по замыслу Панина, должен был состоять из шести персон, четыре из которых назывались статскими секретарями; каждый из них ведал важнейшими сферами управления: внешней политикой, внутренними делами, военными и морскими. (Подробнее о проекте учреждений Императорского совета будет рассказано в главе, посвященной Н. И. Панину.)
Екатерина отклонила проект об учреждении Императорского совета. Причем сделано это было не в решительной форме, а путем проволочек, его постепенного удушения. Поначалу императрица высказала ряд малозначительных пожеланий и замечаний: вместо шести предложила ввести в Совет восемь членов; ей не понравилось слово «министр», и она просила заменить его русским словом; не по сердцу Екатерине пришелся и резкий отзыв о царствовании Елизаветы Петровны, уподобленном Паниным «варварским временам». Синонима слову «министр» в русском языке не нашли и оставили его, а выражение «варварские времена» убрали. Екатерине ничего не оставалось как подписать Манифест об учреждении Императорского совета и утвердить его состав (Бестужев, Разумовский, Воронцов, Шаховской, Панин, Чернышов, Волконский и Г. Орлов), но от его опубликования она воздержалась, решив ознакомить с ним некоторых вельмож.
Критики не отклонили саму идею создания учреждения, но предложили внести поправки технического свойства: назвать совет не Императорским, а Верховным тайным советом, заседать ему не пять, а четыре раза в неделю. Наиболее критически к проекту был настроен генерал-фельдцейхмейстер Вильбоа: «Я не знаю, – писал он, – кто составитель проекта, но мне кажется, как будто он, под видом защиты монархии, таким образом склоняется более к аристократическому правлению». По мнению критика, над императрицей нависла серьезная угроза ограничения власти монарха: «Обязательный и государственным законом установленный Императорский совет и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения соправителей»[72 - РИО. Т. 1. С. 203–205.]. После этого Екатерина надорвала последний лист подписанного ею Манифеста, чем положила конец всем разговорам о создании Императорского совета.
Мотивов отклонения проекта об организации нового учреждения и согласия императрицы на реформу Сената источники не сохранили, и историки высказывают различного рода гипотезы. Одна из них объясняет согласие Екатерины на разделение Сената на шесть департаментов, то есть дробление данного учреждения на мелкие части, ее стремлением превратить Сенат в послушный себе орган и устранить возможность оппозиции с его стороны[73 - Очерки по истории СССР. Вторая половина XVIII в. М., 1956. С. 273.]. Подобное суждение представляется лишенным серьезных оснований. В самом деле, о какой оппозиции со стороны Сената могла идти речь, если он проявил трогательную заботу и усердие о благополучии только что взошедшей на престол Екатерины: он услужливо освободил ее от участия в похоронах убитого супруга, а 17 июля выступил с предложением соорудить ей монумент.
Искать подспудных мотивов одобрения Екатериной реформы Сената вряд ли целесообразно, они обстоятельно изложены самим автором проекта и настолько очевидны, что поиски каких-то особых причин поведения императрицы способны не прояснить, а затемнить проблему – цель реформы состояла в повышении мобильности и эффективности работы Сената и сенаторов. Сложнее обнаружить мотивы блокирования Екатериной проекта о создании Императорского совета. Заметим, критический отклик Вильбоа использован лишь в качестве предлога – императрица и сама видела ущемление им прерогатив абсолютного монарха, но не решалась в конце 1762 года открыто выступить против него. Разве она ожидала, чтобы ей кто-либо посторонний открыл глаза на следующий пассаж проекта, явно ущемлявший прерогативы абсолютного монарха: «Все то, что служить может к собственному самодержавию государя, попечении о приращении и исправлении государственном имеет быть в нашем Императорском совете, яко у нас собственно». Здесь просматривается олигархическая тенденция, попытка в какой-то мере уравнять заботы монарха с заботами формально подчиненного ему учреждения. Для отказа реализовать проект у Екатерины были и дополнительные мотивы – как выше было отмечено, она хотела не только царствовать, но и управлять. Более того, создание Императорского совета Панин мотивировал теми же причинами, какими в свое время руководствовались при учреждении Верховного тайного совета – бременем многочисленных и разнообразных обязанностей, ложившихся на плечи монарха. Это был намек на неспособность Екатерины самой справиться с управлением страной, что задевало ее самолюбие и тщеславие. Равным образом, осуждение роли временщиков и «припадочных людей» при Елизавете Петровне наводило тень и на Екатерину, ибо выходило, что она тоже не в состоянии была ограничить роль фаворита лишь любовными утехами. Не могли устроить императрицу и инициатива создания нового учреждения, исходившая не от нее, а от ее подданного. Но при этом императрица нисколько не сомневалась в целесообразности существования при ней совещательного органа типа Кабинета министров и Конференции при высочайшем дворе, что явствует из учреждения ею в 1768 году Государственного совета.
Вслед за реформой Сената была осуществлена реформа управления Украиной. Судя по всему, идея ликвидации гетманства принадлежала самой императрице, что видно из «Наставления» генерал-прокурору Вяземскому. «Наставление» помечено рукой Екатерины как «секретнейшее» не потому, что оно, например, обязывало генерал-прокурора вести борьбу с корчемством, получившим столь широкое распространение, что стало практически невозможно наказывать всех причастных к этому злу. И не из-за порицания деятельности генерал-прокурора Глебова. «Секретность» документа обусловливалась намерением ликвидировать автономные права, которыми пользовались окраинные территории России – Украина, Лифляндия и Эстляндия. Их, писала Екатерина, следовало «привести к тому, чтоб они обрусели бы и перестали бы глядеть, как волки в лесу». Сохранение за ними автономии она назвала «глупостью». Задачи, поставленные «Наставлением», серьезно продуманы Екатериной; это явствует из того, что императрица в ближайшее время приступила к их реализации.
О пристальном внимании императрицы к судьбе гетманского правления свидетельствует и ее поручение Григорию Теплову составить записку о положении дел на Украине. Сейчас трудно сказать, в каких случаях Теплов в угоду императрице сгущал краски, а в каких описанная им мрачная обстановка, сложившаяся на окраине империи во время гетманского правления, соответствовала истине, но в целом записка выглядит убедительно.
По версии Теплова, на Украине царила безысходность: произвол старшины, ее ненасытная алчность, сопровождавшаяся захватом земель, закрепощением казаков и крестьян и одновременно бесправием забитого населения. Пользуясь неграмотностью крестьян и казаков, старшина составляла фиктивные купчие на землю, города, местечки и села. Исследования историков XX века подтвердили это генеральное утверждение Теплова: за 14 лет гетманства Кирилла Разумовского (1751–1764) численность закрепощенного населения увеличилась в два-три раза[74 - Мякотин Б. А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв. Вып. 2. Прага, 1921. С. 222.].
Анализируя причины крайней нищеты населения, Теплов пришел к странному, на первый взгляд, выводу: в бедствии повинно сохранившееся право крестьянского перехода, отсутствие суровых форм крепостного права, существовавших в России. Свободный переход крестьян и казаков с одного места на другое приводил к двум негативным последствиям: бедный помещик становился еще беднее, ибо у него сманивал крестьян богатый землевладелец, предоставлявший им льготы; свобода перехода не приносила счастья и крестьянину, а также казаку: и тот и другой предавались лености, безнравственности, пьянству – прожив льготное время у одного богатого помещика, они переходили к другому, у которого пользовались новыми льготами. Вывод неутешительный: в плодородной стране свирепствует голод, бедный помещик разоряется, а от богатого, хотя он и становится еще более состоятельным, государство никакой выгоды не получает, ибо подушной подати ни крестьяне, ни казаки не платят. Выход из тупика напрашивался сам собою: благоденствие на Украине наступит только после закрепощения крестьян. Гетманским универсалом 1760 года крестьянам запрещалось переселяться на новые места без письменного разрешения помещика; равным образом помещику запрещалось принимать крестьянина без такого разрешения. В 1763 году Екатерина подтвердила гетманский универсал.
Критика порядков на Украине подготавливала почву для упразднения гетманского правления. Императрица, ознакомившись с содержанием сочинения Теплова, имела беседу с Разумовским. О содержании беседы она писала в своей записке Панину: «Никита Иванович! Гетман был у меня и я имела с ним экспликацию (объяснение. – Н. П.), в которой он все то же сказал, что и вам, а наконец просил меня, чтоб я с него столь трудный и его персоне опасный труд сняла». Екатерина велела передать Разумовскому, чтобы тот написал письменное прошение. Письменный документ «О снятии с меня столь тяжелой и опасной мне должности» появился, и Екатерина, не откладывая дела в долгий ящик, удовлетворила просьбу. Медлить не было резона, ибо старшина готовила Екатерине петицию об установлении наследственного гетманства за родом Разумовских.
10 ноября 1764 года Сенату был дан указ об учреждении Малороссийской коллегии вместо гетманского правления. Она состояла из четырех представителей России и такого же количества представителей Украины. Возглавлял Малороссийскую коллегию граф Петр Александрович Румянцев. Его власть приравнивалась к президентству в коллегии и генерал-губернаторской. Ликвидация гетманского правления – закономерный итог развития административного аппарата абсолютной монархии, стремящейся к унификации структуры органов власти, не терпящей автономии и игнорирующей национальные особенности окраин. Гетманское правление было упразднено еще при Петре Великом. Восстановление его явилось эпизодом, обусловленным фаворитизмом. Именно поэтому новое упразднение гетманства прошло спокойно и не вызвало осложнений.
К новшествам, достойным подробного рассмотрения, относятся еще две меры, осуществление которых было навеяно идеями просветителей. В 1764 году был учрежден Смольный институт, а в следующем году – Вольное экономическое общество. Эти меры Екатерины положили начало эре просвещенного абсолютизма.
Смольный институт являлся закрытым учебным заведением, в который зачислялись дворянские девочки в возрасте шести лет. Заканчивали же обучение восемнадцатилетние девицы. Помимо общеобразовательных предметов, смолянок обучали навыкам, необходимым добродетельным матерям: шитью, вязанию, домостроительству, светскому обхождению, танцам, музыке, учтивости.
Воспитанниц изолировали от окружающей среды, что исключало, как полагал инициатор создания Смольного Иван Иванович Бецкой, пагубное влияние семьи, улицы, родственников и знакомых. Девицы, прошедшие выучку в Смольном, призваны были положить основание новой породе людей, свободных от пороков. Став матерями, выпускницы Смольного передадут приобретенные знания и навыки своим детям, а те – следующему поколению. В итоге люди избавятся от пороков и приобретут полный набор добродетелей.
Императрица, имея страсть к рекламе своих начинаний, отзывалась о Смольном институте и его воспитанницах с присущим ей восторгом и была уверена, что цель, ради которой создавалось учебное заведение, достигнута вполне. В 1772 году, восемь лет спустя после основания Смольного, она дважды писала о нем Вольтеру. В первом письме читаем: «Пятьсот девиц воспитываются здесь в монастыре, назначенном прежде для пребывания трехсот невест Христовых. Эти девицы, я в том должна вам признаться, превзошли наши ожидания; они успевают удивительным образом, и все согласны с тем, что они становятся столько же любезны, сколько обогащаются полезными для общества знаниями, а с этим они соединяют самую безукоризненную нравственность, однако же без мелочной строгости монахинь».
С. Ф. Галактионов. Смольный институт.
Литография. 1823.
Государственный музей-заповедник Павловск
Почти два месяца спустя, 23 марта, Екатерина, отвечая Вольтеру, писала: «Не знаю, выйдут ли из этого батальона девиц, как вы называете их, амазонки, но мы очень далеки от мысли образовать из них монашенок; мы воспитываем их, напротив, так, чтобы они могли украсить семейства, в которые вступят, мы не хотим их сделать ни жеманными, ни кокетками, но любезными и способными воспитывать своих собственных детей и иметь попечение о своем доме»[75 - РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. 212, 226.].
Идеи Бецкого, разделяемые Екатериной, вполне утопичны, ибо исходят из посылки о влиянии среды, как единственного фактора, определяющего наличие в воспитуемом пороков и добродетелей. Вывести новую породу людей Смольный институт, конечно же, не смог, но его положительное влияние на распространение в стране просвещения является общепризнанным – это было первое учебное заведение со всем набором общеобразовательных предметов (иностранные языки, русский, арифметика, история, география), положившее начало женскому образованию в России. Вместе с тем это была первая ласточка в политике просвещенного абсолютизма, которым знаменательно время правления Екатерины.
Нартов Андрей Андреевич.
Литография А. О. Мошарского
по рисунку М. А. Кашенцева с портрета 1808 года (1830-е годы)
Второй шаг в этом же направлении Екатерина сделала в октябре 1765 года, когда учредила «Императорское вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства». Общество разделило судьбу Смольного института – оба учреждения оказались самыми долговечными творениями Екатерины и были упразднены лишь в октябре 1917 года. А. Т. Болотов считал организатором общества сына токаря Петра Великого А. А. Нартова: «Как самое основание оного, так и управление им и поддержание оного можно наиглавнейше приписать господину Нартову Андрею Андреевичу – бессменному секретарю сего общества. Он собственно старался о собрании оного, о побуждении первейших вельмож о вступлении…»[76 - Орешкин В. В. Вольное экономическое общество в России. М., 1963. С. 17.]
На Общество возлагалось множество задач, нацеленных на рациональную организацию помещичьего и крестьянского хозяйства – распространение «полезных и нужных знаний», способствующих улучшению животноводства и повышению урожайности, а также разумному использованию результатов земледельческого труда. Устав Общества определял его цель как заботу «о приращении в государстве народного благополучия», что может быть достигнуто стремлением «приводить экономию в лучшее состояние, показывая… каким образом натуральные произращения с пользою употребляемы и прежние недостатки поправлены быть могут»[77 - Труды ВЭО. Ч. I. 1760. С. 1.].