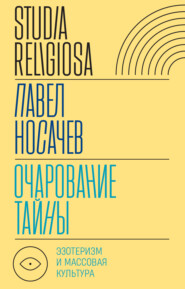скачать книгу бесплатно
4. Функция произведения. Отражается как в интенции создателя, так и в тех условиях, в которых его использует аудитория, причем необходимо различать потребителей, знакомых с эзотерическим мировоззрением и не знакомых, но также могущих взаимодействовать с артефактом.
5. Эстетика. Важнейшая черта, выявляющая, что делает объект искусства эзотерическим, отличая его от всех прочих[21 - Подробнее см.: Bauduin T. M., Johnsson H. Introduction: Conceptualizing Occult Modernism // The Occult in Modernist Art, Literature, and Cinema. London: Palgrave Macmillan, 2018. Р. 14–29.].
Конечно, модели Пази и Бодуэн фокусируются в первую очередь на объектах искусства, но нельзя не заметить, что они выделяют важные особенности функционирования и преломления эзотеризма в культуре. Их инструментальные концепции, в особенности в случае Бодуэн, выигрывают своей четкостью по сравнению с расплывчатой теорий оккультуры Партриджа.
В дальнейшем исследовании мы будем учитывать наработки всех зарубежных теоретиков. Ведь Партридж неплохо описал исторические условия проявления эзотеризма в современной культуре и отметил некоторые базовые формы этого процесса, а Бодуэн и Пази детализировали технические аспекты функционирования отдельных артефактов в пространстве культуры. Не ставя цель разработать собственную модель, мы продемонстрируем историческую динамику проявления эзотеризма в современной культуре через три различных медиума: литературу, кино и музыку, расположив их в хронологическом порядке. Исследование мы строим таким образом, чтобы формативный этап проникновения эзотеризма в современную культуру иллюстрировала литература, его развитие и распространение – кино, а ситуацию, когда эзотеризм стал повсеместным, – музыка. Для дальнейшего исследования основополагающими будут следующие принципы.
Историзм. Каждая отсылка или проявление эзотеризма в творчестве того или иного автора должны не просто фиксироваться; необходимо понять, откуда возникает та или иная мифологема, как сложился тот или иной образ, какой путь трансформации в религиозной культуре он прошел, поэтому определяющим условием исследования будет исторический анализ, призванный проследить путь становления эзотерической концепции или образа от истоков до современного воплощения. Это не означает, что нам постоянно придется отклоняться в длинные исторические обзоры: иногда достаточно будет кратких заметок, но в некоторых случаях необходимо будет развернуть целую панораму становления образа.
Опыт инобытия. Поскольку мы определяем эзотеризм как форму религии, принципиально важным нам представляется установить, что религия существует за счет веры ее адептов в реальность некоего иного (по отношению к нашему повседневно наблюдаемому материальному миру) бытия высшего порядка. Именовать его можно различно, но главное – зафиксировать факт его существования для верующих. Религиоведческое исследование не может базироваться лишь на концептуальных теориях, заимствованных из других дисциплин, поэтому редуцировать и интерпретировать этот опыт мы не планируем, нам достаточно констатировать, что верующие объясняют его для себя как опыт инобытия. И конечно, мы не разделяем модного ныне убеждения, что не существует религии, а есть только отдельные, не зависящие друг от друга религии и что сам термин «религия» возник лишь благодаря дискурсу Нового времени. Существуют исследования, опровергающие эти построения, имеющие под собой вполне определенную философскую и идейную основу; здесь, не вдаваясь в споры, просто зафиксируем свою позицию.
Язык гетеродоксии. Но поскольку опыт инобытия – чрезвычайно расплывчатая концепция, приложимая ко всему многообразию религиозной жизни, то далее эзотеризм в культуре мы будем выделять через убежденность в реальности опыта инобытия, выраженного с помощью языка (вербального либо символического) гетеродоксии, то есть учений, функционирующих в концептуальной рамке господствующей культуры монотеизма, но в корне отличных от установок этой культуры. Или, пользуясь введенным ранее делением, смешением установок космотеизма и монотеизма.
Контекстуальность. Прослеживания исторического генезиса некоего образа, выраженного на языке гетеродоксии и утверждающего реальность инобытия, само по себе недостаточно, чтобы описать многообразие проявлений эзотеризма в современной культуре. Как справедливо заметила Бодуэн, принципиальную роль играет контекст: кто, в каких условиях и с какой интенцией использует тот или иной образ, ту или иную мифологему или идею. Поскольку каждый современный творец по определению бриколер, то, чтобы понять место, занимаемое эзотеризмом в его творчестве, необходимо проследить логику, реконструировать границы мировоззрения и выявить отношение к эзотеризму. Без этого можно прийти к совершенно ложным выводам.
Концепция концентратора дискурсов. Последний пункт можно пояснить на примере. В 1960 году в Париже вышла книга Луи Повеля и Жака Брежье «Утро магов», имеющая броский подзаголовок «Введение в фантастический реализм». Этот текст создал целое направление в современном эзотеризме, одновременно выраженное и в массовой культуре, а именно крайне правый эзотеризм, связанный с мифом Третьего рейха. Текст Повеля и Бержье стал настоящим концентратором дискурсов, соединившим в себе эзотерические учения интегрального традиционализма, мифологию подземных рас, возникшую в художественном творчестве Э. Бульвер-Литтона, а позднее развитую во французском эзотеризме, немецкое фёлькиш-движение, ариософскую мифологию, теософское учение, историю реального Третьего рейха[22 - Одним из самых одиозных следствий действия этого концентратора дискурсов стала мифологема о НЛО в Третьем рейхе. Суть мифологемы сводится к тому, что НЛО создавались как секретное оружие, целью которого была эвакуация руководства Рейха и его служб на тайные базы как на Земле, так и за ее пределами. В основных работах, раскрывающих эту тему, НЛО рассматриваются не как простое оружие, а как продукт развития высшей цивилизации, их изобретение есть подтверждение особой внеисторической миссии арийской расы. Апофеозом развития сюжета становится миф о секретной базе нацистов на Луне. Отраженная наиболее полно в работах авторов крайне правого спектра (например, М. Серрано и В. Ландиг), мифологема черпает исток в фантастической литературе. Так, в 1947 году Роберт Хайнлайн опубликовал свой третий роман «Звездный корабль „Галилей“», сюжет которого строится вокруг путешествия трех молодых людей в сконструированной дядей одного из них ракете на Луну. Прилунившись, подростки обнаруживают нацистов, прибывших на другом корабле и обустроивших космическую базу на останках сооружений древней цивилизации селенитов. Пройдя через информационный шлейф, вызванный публикацией «Утра магов», этот литературный фантастический сюжет становится эзотерическим и наделяется соответствующими чертами. Подробный анализ этого сюжета см.: Носачев П. Г. Грани междисциплинарности: исследования западного эзотеризма и Culture Studies // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2016. № 4. С. 105–120.]. Причем все это объединялось с помощью ловкого художественного вымысла, ибо, несмотря на то что в заглавии стояло слово «реализм», основная часть работы была художественным эссе, представленным на литературный конкурс и лишь впоследствии обретшим статус квазинаучного исследования истоков Рейха. Такие артефакты, после которых в эзотеризме возникают новые течения, а культура обогащается оригинальными сюжетами, можно, следуя мысли немецкого религиоведа К. фон Штукрада[23 - Подробнее см.: Stuckrad K. von. The Scientification of Religion: An Historical Study of Discursive Change, 1800–2000. Boston; Berlin: de Gruyter, 2014. Р. 94–98.], назвать концентратором дискурсов. Роль таких формаций необходимо учитывать при изучении взаимосвязи эзотеризма и современной культуры.
В дальнейшем мы не будем отвлекаться на указание всех этих принципов на конкретном материале, но в основе каждого рассмотренного нами случая лежат именно они.
Теперь, когда общее представление о предмете и методах исследования составлено, можно перейти к основной части.
ЧАСТЬ I
Эзотеризм и литература
И рано-рано из Мопассана
Читайте только рассказ «Орля».
И перед вами, как злая прихоть,
Взорвется знаний трухлявый гриб.
Евгений Головин. Учитесь плавать
Глава 1
Введение
Заметки к истории литературы об эзотерическом
История связи эзотеризма и художественной литературы началась не сегодня. Эзотеризм как цельное и вместе с тем синкретичное явление, укорененное в западной культуре как минимум с эпохи Возрождения, не мог не проявлять себя в сочинениях поэтов и писателей. Но так как перед нами стоит достаточно скромная задача – выявить связи эзотеризма и современной культуры, то здесь позволим себе ограничиться рассмотрением одной темы, предшествовавшей появлению нового типа эзотерического мировоззрения, который стал господствовать в XIX–XXI веках.
В 1614 году в немецком городе Касселе свет увидело анонимное сочинение «Fama Fraternitatis, или Откровение Братства Высокочтимого Ордена R. C.», спустя год также без указания авторства появился еще один документ «Confessio Fraternitatis, или Исповедание достохвального Барства всечтимого Розового Креста, составленное для уведомления всех ученых мужей Европы». Оба документа были написаны от лица некоего тайного братства, адепты которого, благодаря создателю и наставнику Христиану Розенкрейцу, были посвящены в загадочное учение, направленное на духовное преобразование мира на началах равенства, добра и справедливости. Внутреннее устройство братства выражалось в шести заповедях, содержащихся в первом документе:
1) никто не должен заниматься иной профессией, как только лечением больных, и все это безвозмездно;
2) никто не должен носить какого-либо особенного платья, указывающего на братство, но применяться к обычаю страны;
3) каждый из братьев должен ежегодно в Христов День явиться в S. Spiritus или известить о причине его отсутствия;
4) каждый из братьев должен искать достойного человека, который по кончине этого брата мог бы занять его место;
5) слово R. C. должно быть их знаком, лозунгом и характером;
6) братство должно сто лет пребывать в тайне[24 - Андреэ И. В. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459. М.: Энигма, 2003. С. 140.].
Уникальность этого неизвестного до той поры ордена была в его полной секретности, которая сохранялась и через сто лет после возникновения, главной формой ее нарушения стала публикация анонимных документов, а из их туманных формулировок нельзя было создать никакого цельного представления о доктрине братства и локализовать его месторасположение. В 1616 году немецкий теолог И. В. Андреа издал аллегорическое сочинение «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459», и связанное и не связанное с предыдущими документами. Упоминание в нем Христиана, главного героя повествования, отсылало к документам неведомого братства, в то время как о самом братстве в аллегорическом сочинении не говорилось ни слова. Именно так в Европе началось то, что британским историком Фрэнсис Йейтс было названо «розенкрейцерским фурором»[25 - Йейтс Ф. Розенкрейцерское Просвещение. М.: Алетейа, Энигма, 1999. С. 119.]: все бросились искать неизвестное братство, многие мечтали вступить в его ряды, другие яростно критиковали, видя потенциальную угрозу для христианства. Сейчас для нас совершенно не важно, был ли это ловкий розыгрыш, продуманная игра, призванная вдохновить всех на исполнение декларируемых братством идеалов, или такое братство существовало в действительности. Главное, что эта история породила миф о розенкрейцерах – могущественном неведомом братстве, адепты которого пребывают незримо среди людей и могут скрытно влиять на общественные процессы, владеют системой тайного знания, объединяющего мудрость каббалы, алхимии и магии, и могут направлять на истинный путь интересующихся духовным просвещением. Этот миф нашел широкое отражение в литературе Нового времени. Для примера мы остановимся лишь на трех текстах, демонстрирующих, сколь по-разному эзотерические идеи тайного братства преломлялись в творчестве писателей.
Розенкрейцерский миф в литературе Нового времени: эскиз
Спустя чуть более полувека после истории с розенкрейцерскими манифестами свет увидело небольшое сочинение аббата Николя Монфокона де Виллара «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках». В этом экзотическом тексте по сюжету скептически настроенный рассказчик встречает некоего графа Габалиса. Из смутных намеков можно заключить, что сей мудрый муж – адепт тайного братства. То, что де Виллар намеренно рисует образ розенкрейцера, заметить не сложно: граф прибывает из Германии, родины манифестов, сам он слывет «великим каббалистом»[26 - Виллар де М. Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках. М.: Энигма, 1996. С. 16.], а когда встречается с рассказчиком, смиренно называет себя «наималейшим из Мудрецов»[27 - Там же. С. 19.], знания которого – «ничтожнейшая частица в сравнении с тем, чему [он] удивля<ется> и восхища<ется> у сотоварищей»[28 - Там же.], да и приехал в Париж он к своим братьям. Из пространных бесед с графом рассказчик узнает о тайном учении, согласно которому мир населяют стихийные духи (гномы – духи земли, сильфы – духи воздуха, ундины – водные духи и саламандры – элементали огня), существа эти вовсе не злы, а представляют из себя некий особый род – промежуточную сферу между людьми и ангелами, и они так же, как и люди, чают спасения. Искупление от греха для них возможно только посредством брака с человеком. Таким образом, перед мудрецами, посвященными в учение графа, открываются перспективы экзотически амурных связей с сильфидами и русалками, хотя как истинным адептам тайных знаний им требуется предаваться строгому аскетизму, отказавшись от отношений с земными женщинами. Рассказчик откровенно потешается над премудростью графа, находя его «человеком необычайного и необъятного воображения»[29 - Там же. С. 17.]. Текст «Габалиса» представляет собой сатиру на миф о розенкрейцерах и те тайные знания, которыми должны владеть их адепты, при этом автор использует реальное учение о стихийных духах, внедренное в эзотеризм Парацельсом, а поскольку все розенкрейцерское движение в той или иной степени связано с развитием идей этого великого алхимика[30 - Подробнее о влиянии Парацельса см.: Tilton H. The Rosicrucian Manifestos and Early Rosicrucianism / The Occult World / Ed. C. Partridge. New York: Routledge, 2015. Р. 128–144.], то это не просто сатира, а ловкая игра, со знанием дела деконструирующая один из аспектов мифа о братстве. Неудивительно, что впоследствии именно легкий текст «Габалиса» стал одним из основных источников представления об элементалях в литературной традиции[31 - Подробнее см.: Стефанов Ю. Н. Мистики, оккультисты, эзотерики. М.: Вече, 2006. С. 146–168.].
Чуть более столетия спустя великий Гёте берется за сочинение поэмы «Тайны», но, провозившись некоторое время и сочинив несколько десятков строф, отказывается от реализации замысла. Дошедший до нас отрывок поэмы весьма любопытен. В нем некий монах, брат Марк, путешествуя по горным тропам, в поисках ночлега обнаруживает в укрытой утесом лощине уединенный монастырь. Подойдя к вратам, он изумляется тем, что
Над аркой входа – странная замета.
Он поражен эмблемою стенной.
Глядит на крест. Необычайный вид!
Крест розами увит и облицован.
По чьей он мысли розами увит?[32 - Гёте И. В. Тайны: Сказка. М.: Энигма, 1996. С. 16.]
Войдя в монастырь, Марк был радушно принят его малочисленной братией, которая тут же поведала ему, что их ожидает тяжелая утрата: настоятель и создатель братства совсем скоро должен умереть. В трапезной Марк также видит необычную картину:
Тринадцать кресел по стенам стояло
При аналоях, сдвинутых вперед.
Их спинки и резные пьедесталы
Ласкали взгляд – безмолвный хоровод,
Между гербов он в среднем необычный
Знакомый крест меж роз узнал вторично[33 - Там же. С. 24.].
На этом текст обрывается. Позднее, в 1816 году, когда Гёте был приглашен с лекцией в Веймар, он пояснял замысел незавершенного текста: Марк должен был познакомиться с каждым из братьев, которые оказываются пришельцами из разных стран, носителями отличной от других культуры и религии, в монастыре же все они смогли «по-своему почитать Божество»[34 - Там же. С. 30.]. Каждая из религий на момент прибытия брата достигала максимального расцвета, концентрируя всю свою мудрость в том, кто вступил в таинственный монастырь. Тринадцатый же и главный брат по имени Гуманус должен был объединить всю их мудрость в общечеловеческое единство. По замыслу Гёте, после смерти Гумануса Марк должен был занять его место. Итак, вновь тот же миф о розенкрейцерах, но на сей раз в центр его поставлена философская гуманистическая теория, когда братство, вполне в духе анонимных манифестов, должно стать способом преодоления религиозных войн и мировоззренческих конфликтов.
Спустя еще около половины столетия английский писатель Эдвард Бульвер лорд Литтон, более известный как Бульвер-Литтон, публикует роман «Занони», в предисловии к которому пишет:
…так случилось, что несколько лет назад, в дни моей юности как писателя и как человека, я почувствовал желание познакомиться с истинным происхождением и принципами одной секты, известной под названием розенкрейцеров…[35 - Bulwer E. Zanoni. New York: John W. Lovell Company, 1870. P. VIII. К сожалению, русские переводы «Занони» вышли без авторских предисловий, хотя они многое дают для адекватного восприятия текста, как видел его сам автор. С переводами на русский этому роману вообще не повезло: до революции его издали с бессмысленным названием «Призрак», да еще и с купюрами, искажающими смысл текста.]
И далее рассказывает увлекательную историю о том, как ему случайно удалось наткнуться на зашифрованную рукопись романа, раскрывающего тайны розенкрейцерского учения, которую, переведя, он и опубликовал под названием «Занони».
По общему мнению исследователей[36 - См., например: Godwin J. Theosophical Enlightenment. New York: State University of New York, 1994. P. 128.], из писателей Викторианской эпохи Бульвер-Литтон глубже всех занимался эзотерическими темами. Его романы обилуют сложной смесью из старинных эзотерических идей алхимии, магии, астрологии, а также используют более современные концепции ясновидения, телепатии и месмеризма, причем в каждой из них он показывает неплохую осведомленность. Бульвер-Литтон явно хорошо ориентировался в классических текстах неоплатоников, алхимиков Средних веков, а благодаря юношеским контактам с преподобным Чонси Тауншендом, одним из ведущих проводников идей Месмера в Великобритании, усвоил квазинаучный язык месмеризма, интерес к которому постоянно подкреплял обширной перепиской с его приверженцами за рубежом.
Вообще, имя Бульвер-Литтона имеет огромное значение для темы связи эзотеризма и культуры. Помимо того что он написал чрезвычайно успешный роман «Последние дни Помпеи», в свое время вдохновивший К. Брюллова на одноименную картину, а уже в XX веке несколько раз экранизированный, значительную часть его сочинений составили работы, полностью посвященные эзотеризму, – кроме «Занони», назовем «Странную историю» (1862) и «Грядущую расу» (1871). Эти произведения оказали колоссальное влияние на развитие эзотеризма в XIX–XXI веках. В «Грядущей расе» Бульвер-Литтон впервые предложил концепцию вриля – некоей энергии, на которой базируются сверхспособности человека и с помощью которой достижимо небывалое техническое развитие, там же он развил миф о подземной расе, наделенной парапсихологическими способностями. Эти идеи вкупе с вариацией розенкрейцерского мифа из «Занони» стали одним из основных источников, вдохновившим множество эзотериков – от Е. П. Блаватской до М. Серрано. Иными словами, идеи этого писателя стали субстратом, на котором произрастала значительная часть мифологем эзотеризма последних двух веков.
На данный момент в России «Грядущая раса» является самой издаваемой работой писателя, хотя в 1871 году она вышла анонимно. Критики считают роман одним из самых слабых, есть мнение, что писатель намеренно отказался издавать его под своим именем, так как боялся испортить репутацию, хотя видел в тексте определенный потенциал. Но в насыщенном эзотеризмом творчестве Бульвер-Литтона «Занони» стоит особняком, считаясь «энциклопедией оккультных идей»[37 - Godwin J. Theosophical Enlightenment. P. 126.] и даже «самым значительным оккультным романом XIX века в английской литературе»[38 - Godwin J. Bulwer-Lytton, Edward George // Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. P. 215.], из?за него автора стали зачислять в тайные розенкрейцеры – уж больно подробно он описывал их жизнь.
Сюжет «Занони» повествует о судьбе одноименного героя, по нравственным качествам – настоящего рыцаря без страха и упрека, члена тайного братства розенкрейцеров, прибывшего в Европу с Востока и живущего на земле уже 5000 лет, обладающего не только секретом вечной жизни, но и колоссальными познаниями в тайных науках, дающими доступ к сверхспособностям: предвидение будущего, телепатия и т. п. Занони не единственный розенкрейцер, о жизни братства и посвящении в него в романе говорится достаточно развернуто. Один из второстепенных героев молодой англичанин Клеренс Глиндон даже поступает в обучение к другому розенкрейцеру, антиподу Занони, Мейнуру, живущему на земле еще дольше, чем Занони, но не выдерживает правил магической работы и покидает учителя. Согласно идее романа, розенкрейцерская традиция укоренена не в христианстве, ее исток – халдейская магия.
Занони, представленный беспорочным, оказывается способным к земным чувствам: всячески борясь с собой, он все же влюбляется в прекрасную юную итальянскую певицу Виолу Пизани, женится на ней, тем самым теряя бессмертие и сверхспособности. Этот шаг в конце романа стоит ему жизни, поскольку, чтобы спасти возлюбленную с родившимся у нее ребенком, он жертвует собой, всходя на гильотину во время казней при режиме Робеспьера. В отличие от столь человечного Занони, Мейнур избегает людей и все силы тратит на постижение глубин тайного знания, не планируя расставаться с бессмертием ради мимолетных в сравнении с вечностью увлечений.
Слухи об эзотерических интересах самого лорда Литтона никогда не прекращались. Оглушительный успех его «Занони» и «Грядущей расы» в эзотерических кругах создал ему славу «великого посвященного». Она лишь подкреплялась тем, что в завещании писатель просил похоронить себя не на церковной территории и без христианских церемоний, что, правда, не было исполнено – его сын с честью предал тело отца земле в Вестминстерском аббатстве[39 - Любопытно, что в утопическом обществе романа «Грядущая раса» не существует религий, поскольку они приводили к конфликтам, поэтому каждый человек следует своим внутренним убеждениям, ограничиваясь признанием Бога-Творца.]. Но был ли Бульвер-Литтон действительно посвященным, разделял ли эзотерические идеи? Внимательное рассмотрение его наследия дает повод усомниться в этом. Бульвер-Литтон вовсе не был убежден в реальности неких сверхъестественных сил. Рефреном всего творчества писателя является мысль о том, что для всех необъяснимых явлений должна быть найдена естественная научно обоснованная причина. Когда лондонское диалектическое общество попросило его высказать мнение о современном спиритизме, он отозвался следующим образом:
Я не могу внести никаких предложений относительно научного исследования феноменов, которые вы классифицируете под рубрикой «Спиритизм», поскольку данные, необходимые для науки, пока недоступны. Насколько мне известно, феномены, которые точно не были подделаны, при рациональном рассмотрении могут быть отнесены к материальным влияниям природы, пока нам неизвестным… Следовательно, когда Альберт Великий говорит, что человек должен родиться магом, он имеет в виду родиться с определенными физическими особенностями, которые не может дать никакое обучение[40 - Report on spiritualism of the Committee of the London Dialectial Society, together with the evidence, oral and written, and a selection from the correspondence. London: J. Burns, 1873. P. 240.].
А вот так эта же мысль выражена в «Занони», когда розенкрейцер Майнур разъясняет своему ученику Глиндону основы тайных знаний:
Я уже сказал, что магии нет, это просто наука, которая управляет природой. В пространстве существуют миллионы созданий, не совсем бестелесных, так как все они, как и инфузории, невидимые для невооруженного глаза, имеют известную материальную форму, но настолько тонкую, воздушную, что она служит только как бы неосязаемой оболочкой духа, гораздо более легкой, чем осенняя паутинка, сверкающая в лучах солнца. Отсюда любимые фантомы розенкрейцеров – сильфы и гномы… В древние времена наш орден часто был вынужден прибегать к обманам, чтобы спасать истины, а ловкость в механике и знание алхимии создали членам ордена славу колдунов… теперь можешь смеяться над магией, так как все, что я показал тебе, люди воспринимали с ужасом и отвращением, а инквизиция наказывала пыткой и костром[41 - Бульвер-Литтон Э. Призрак. https://www.litmir.me/br/?b=48192&p=119.].
Это мировоззрение – кредо Бульвер-Литтона. На самом деле он рационалист, признающий бытие деистического бога и верящий в безграничность научного познания, сфера которого неизбежно будет расширена в пределы, ранее именовавшиеся духовностью. Необъяснимые эзотерические феномены для лорда Литтона – естественные явления, лишь в силу ограничений разума и научных средств принимаемые за сверхъестественные.
К этому стоит добавить, что проза Бульвер-Литтона вовсе не призвана повествовать о незыблемых надвременных истинах духовного порядка, она вполне конъюнктурна и привязана к конкретной временной повестке. Так, в его текстах заметен антисоциалистический настрой с отчетливыми консервативными элементами. Например, в «Занони» он не единожды позволяет себе едкую сатиру на французскую революцию, идеи равенства и всеобщего просвещения, откровенно издевается над атеистическими представлениями Вольтера и гуманистическими воспитательными экспериментами в духе Руссо. То же и с представлениями о магии, в основе концепции вриля из «Грядущей расы» лежит предложенная Рейхенбахом идея одиля, а все рассуждения о телепатии, алхимии и т. п. привязываются к месмерической теории флюида, кажущейся Бульвер-Литтону наиболее удачным научным объяснением загадочных феноменов. Юлиан Штрубе делает важное замечание, проясняющее место Бульвер-Литтона для нашего исследования: «Называть Бульвер-Литтона оккультистом проблематично, поскольку оккультизм как движение еще не сформировался при его жизни»[42 - Strube J. Vril: Eine okkulte Urkraft in Theosophie und esoterischem Neonazismus. M?nchen: Wilhelm Fink, 2013. S. 29.]. На самом деле такой синтез эзотерической мифологии, хотя бы в аспекте розенкрейцерства и научных гипотез эпохи, – определяющая черта нового эзотеризма, возникшего во второй половине XIX века и обычно именуемого оккультизмом.
Итак, к середине XIX века одним из значимых выражений эзотерических идей в литературе стал миф о розенкрейцерах, интерпретация которого разнилась от юмористической до философской. В творчестве Бульвер-Литтона этот миф достиг апогея: в совокупности с идеями из других произведений писателя он попал в нерв времени, определяющий начало нового эзотеризма, оказавшего непосредственное влияние на всю современную культуру.
Рождение оккультизма
Исторической посылкой для формирования новой вехи в развитии эзотеризма стал спиритизм, возникший в 1848 году в Гайдсвилле, когда две дочки фермера Фокса, Маргарет и Кейт, научились вызывать дух умершего человека. Сначала они устраивали небольшие сценки с духом, показывая их соседям. Слух об удивительных представлениях быстро распространился, и благодаря расторопности редактора одной из городских газет они перебрались в Нью-Йорк, где стали выступать на больших сценах. Сеансы сестер Фокс собирали толпы любопытных. Спустя немного времени спиритизм превратился в трансатлантический феномен, из?за скорости распространения этот период стали именовать «эпидемией спиритизма». Так возникла спиритическая субкультура. Уникальность спиритизма как нового этапа в развитии эзотеризма может быть наглядно продемонстрирована в четырех сферах его проявления: в социальной жизни, в культуре, в религии и в науке.
С социальной точки зрения спиритизм стал первым демократическим феноменом духовного плана. Медиумами зачастую были люди из низших слоев общества, не имеющие связей и перспективного образования, для них практика общения с духами была настоящим социальным лифтом, позволившим за короткий срок попасть в высшие страты общества. Огромную роль он сыграл и для развития женского движения, ведь в основном медиумами были женщины. Позиционируя себя орудиями, через которые вещают духи, они, не вызывая общественного недовольства, становились знаменитостями, публиковали книги, читали лекции. Если так можно выразиться, благодаря спиритизму наступила эмансипация без эмансипации. Именно поэтому движение за права женщин было тесно сплетено с новым эзотеризмом.
С культурной точки зрения медиумы были первыми селебрити, персонами, личная жизнь которых становилась предметом обсуждения в газетах и журналах. И все это вовсе не из?за их происхождения или общественно-политической роли, а по причине того, что в девушку из американской глубинки мог войти дух египетского фараона. Благодаря двойной идентичности (личность медиума тесно связывалась с личностью действовавшего через нее/него духа) медиумы жили двойной жизнью, привлекая пристальное общественное внимание, а неотступно следующая за ними скандальность, связанная с желанием разоблачить их как мошенников, лишь подогревала интерес и усиливала популярность. Так как спиритизм изначально был сценичен, то значительную роль он сыграл в развитии новых форм развлечений, основанных на игре с реальностью духов и возможным их разоблачением. Истории с известным фокусником Гарри Гудини, клеившим бороду, чтобы не быть узнанным, и ходящим на сеансы медиумов, чтобы разоблачить их, стали притчей во языцех. Спиритизм явился вехой и в процессе коммодификации духовного мира: медиумы раскручивались по законам рекламы, билеты на их сеансы продавались, как на обычные театральные представления. Появление таких обезличенных инструментов общения с духами, как доски Уиджи или планшетки, придали товарное и игровое измерение направленной на духовный мир практике.
В религиозном плане спиритизм, благодаря быстро организовавшейся сети специализированных журналов, превратился в неинституциализированную религию. По устроению эта религия не имела неизменных догм или священства. Ее центральным локусом был не храм или община верующих, им становился частный дом, за столом которого в любой момент могла собраться случайная группа духовных искателей, обретавшая во время сеанса уникальный опыт контакта с духовным миром. Такую религиозность можно смело назвать организованной по принципу «сделай сам»[43 - Особенности спиритизма как культурной практики неплохо отражены в исследовании: Natale S. Supernatural Entertainments: Victorian Spiritualism and The Rise of Modern Media Culture. University Park: The Pennsylvania State University, 2016.]. Именно из этих спиритических практик позднее возникнет то многообразие религиозных и духовных учений, которое мы наблюдаем в повседневной жизни сегодня.
Огромную роль спиритизм играл и в научном плане. Главным его достижением, по причине которого вокруг него и объединялось множество людей, стало то, что он объявлял себя противовесом современному материализму. Спиритизм, опираясь на идею эксперимента, позиционировался как научное подтверждение бытия духовного мира: духов можно вызвать, они воздействуют на окружающие предметы, их можно сфотографировать с помощью особой спектральной фотографии, следовательно, их бытие верифицируемо объективными методами. Именно так возникло движение по изучению необъяснимых феноменов с помощью инструментария современной науки, приведшее к появлению парапсихологии и развитию психологических теорий. Имена таких выдающихся психологов, как Теодор Флурнуа, Уильям Джеймс или Карл Густав Юнг, прочно связаны с исследованиями границы между психологическим и духовным миром, проводимыми на материале спиритизма. Это смешение религиозного и научного, как уникальная черта эзотеризма тех лет, не раз подчеркивалось современниками. Вот, например, как с юмором изобразил ее писатель Артур Мейчен:
Хотя мистер Филиппс и считал себя материалистом, на самом же деле он был весьма восторженным человеком, готовым поверить в любое чудо при условии, что оно упаковано в «научную» обертку. Самая дикая выдумка становилась для него явью, если она излагалась малопонятными, но заумными терминами. Он насмехался над ведьмами, но готов был аплодировать гипнотизерам и медиумам, а от протила и эфира приходил в экстаз[44 - Мейчен А. Тайная слава: Избранные произведения. М.: Энигма, 2007. С. 268.].
Все эти факторы были условиями возникновения нового современного и массового эзотеризма. Одним из ключевых стал процесс секуляризации, начавшийся вовсе не в XX веке. В современной исследовательской традиции этот новый эзотеризм принято именовать общим термином «оккультизм»[45 - На самом деле термины «эзотеризм» и «оккультизм» условны. Как показывают современные исследования, исторически как категории для описания и классификации неких реалий они возникли лишь к середине XIX века во Франции и изначально имели полемический характер. Но для построения цельной картины мы далее будем использовать их как научные категории, имеющие определенное значение. Об истории этих терминов подробнее см.: Strube J. Occultist Identity Formations Between Theosophy and Socialism in fin-de-si?cle France // Numen. 2017. 64. P. 568–595; Strube J. Towards the Study of Esotericism without the «Western»: Esotericism from the Perspective of a Global Religious History / New Approaches to the Study of Esotericism / Eds E. Asprem, J. Strube. Leiden: Brill, 2021. Р. 45–66.]. Как пишет В. Ханеграафф, под оккультизмом обычно понимают
…категорию в изучении религии, в состав которой входят либо все попытки эзотериков прийти к соглашению с расколдованным миром, либо попытки обычных людей найти смысл в эзотеризме с точки зрения расколдованного светского мира[46 - Hanegraaff W. New Age Religion and Western Culture. P. 422.].
Под расколдованным, в духе Макса Вебера, здесь как раз и понимается тот мир, который возник благодаря расширению компетенций науки на все сферы жизни человека. Именно оккультизм стал средой, где возникли все известные нам ныне учения, которые принято называть эзотерическими, например: теософия Блаватской, Безант и Рерихов, антропософия Штайнера, магические учения Папюса, Золотой Зари, Кроули, системы Гурджиева и Успенского, правый эзотеризм, близкий с ариософскими националистическими кругами в Германии; реакцией на оккультизм, во многом обусловленной им, стал интегральный традиционализм Генона и Эволы. Весь этот огромный спектр учений нашел выражение и в культуре. Чтобы продемонстрировать всю сложность соотнесения научного, религиозного и эзотерического, мы далее обратимся к категории, чье место в культуре конца XIX века особенно выделилось как раз благодаря спиритизму.
Ужас, странная литература и черная фантастика
Помимо всех культурных достижений, спиритизм вдохнул новую жизнь в существовавшие в культуре с незапамятных времен истории о привидениях, дав начало новому пониманию ужасного. До развития оккультизма уже более столетия тема ужаса была признанным доменом готической литературы. В этой литературе принято выделять два типа произведений[47 - Подробнее об этом делении см.: Ermida I. Gothic Old and New: Introduction // Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. Leiden: Brill, 2016. Р. 5–8; Hutchinson S. Marie Corelli’s Ziska: A Gothic Egyptian Story // Monsters and Monstrosity from the Fin de Siecle to the Millennium: New Essays. Jefferson: McFarland & Company, 2015. Р. 41–46.]. Первые называют сентиментальным готическим романом, а их начало восходит к «Замку Отранто» Хораса Уолпола. В романах такого типа сверхъестественное используется как метафора, за которой кроется натуралистическое обоснование: привидения, зловещие шорохи, древнее проклятье или мрачная тайна на поверку оказываются плодом хитрости злокозненного преступника или иллюзией, возникшей вследствие глупого невежества. Второй тип называется черная готика, он стремится к другой крайности. Фольклорная нечисть (привидения или вампиры) абсолютно реальна и соответствует всем известным народным поверьям, отображаясь с подчеркнутым натурализмом. Например, типичный призрак из произведений одного из классиков британской литературы о привидениях М. Р. Джеймса, по удачному выражению С. Т. Джоши,
воплощает в себе все те черты примитивных человеческих существ, которые больше всего пугают цивилизованных и рациональных людей: не просто невежество, а агрессивно жестокое невежество. Эффект достигается удивительно тонкими способами: волосатость часто используется как символ варварства… фигуры, «ползающей на четвереньках»[48 - Joshi S. T. The Weird Tale. P. 135.].
Возникшая благодаря появлению оккультизма литература перевела тематику ужасного в психологическую и метафизическую плоскости, фактически создав новый жанр.
Одним из первых произведений, отмечающих водораздел традиционного готического отображения ужасного и нового метафизического ужаса в литературе, можно считать небольшой рассказ Ги де Мопассана «Орля», опубликованный в 1887 году. Сюжет его незатейлив. Герой наслаждается безмятежным отдыхом в своем загородном доме, как вдруг некое смутное беспокойство начинает одолевать его, а по ночам с ним творятся странные вещи. В дневнике, который и составляет текст романа, он фиксирует свои переживания следующим образом:
Я сплю… долго сплю… несколько часов… потом мне начинает сниться сон – нет, не сон – кошмар… Я отлично сознаю, что лежу в постели и сплю, – сознаю и понимаю… и вместе с тем чувствую, что кто-то подходит ко мне, оглядывает меня, ощупывает, влезает на кровать, коленями придавливает грудь, обеими руками хватает за горло и сжимает… сжимает изо всех сил… стараясь задушить… Я пытаюсь освободиться, но мое тело сковано чудовищным бессилием, парализующим нас в кошмарах, хочу крикнуть – и не могу, хочу пошевелиться – и не могу, задыхаясь, делаю отчаянные попытки повернуться на бок, сбросить это существо, которое расплющивает меня, не дает вздохнуть, – и не могу. Внезапно я просыпаюсь, обезумев от ужаса, весь в поту. Зажигаю свечу. В комнате никого нет[49 - Мопассан Ги де. Орля // Безумие и его бог. М.: Эннеагон Пресс, 2007. С. 151.].
В принципе, здесь мы сталкиваемся с хорошо известной еще со Средних веков мифологией суккубата и инкубата, когда ночные демоны искушают и мучают людей.
Дальнейшие явления в доме героя как бы развивают сюжет истории о привидениях: некое невидимое воздействие оказывается хорошо ощутимым, а временами можно заметить даже форму, какое-то воздушное образование, якобы находящееся в комнатах. Порой герой обнаруживает себя совершающим необоснованные действия, будто под влиянием чуждой воли. Затем в повествование вклинивается история с отъездом героя в Париж, где его уже ничего не мучает, но зато он узнает о магнетизме, месмеризме и влиянии гипнотического эффекта, которое заставляет человека полностью подчиниться внешнему воздействию. С этой линией в рассказ привносится новая квазинаучная мифология, соответствующая эзотерическим тенденциям времени. Вернувшись, герой убеждается, что в его доме живет иная сущность, природу которой объяснить невозможно, но она безусловно враждебна человеку. Размышления об этой сущности приводят героя к любопытным и совсем уже нестандартным заключениям: он представляет, что человек лишь одна из возможных форм бытия, коих во Вселенной миллионы, и для этих иных форм человек может быть лишь крохотным насекомым. Рассуждая так, герой пускается в совсем уж фантастические теории, напоминающие галлюциногенные грезы:
…а бабочка, возразите вы, этот крылатый цветок? Но я представляю себе бабочку огромную, как сотни миров, ее крылья по легкости движений, по форме своей, красоте, раскраске не имеют себе равных… Я вижу ее… Она перелетает со звезды на звезду, освежая их, овевая своим ароматом, негромко и мелодично шелестя… И обитатели тех горних миров восторженно и благоговейно следят за ее полетом!..[50 - Там же. С. 179.]
Рассказ завершается, когда герой сжигает свой дом, прежде приложив все усилия, чтобы запереть в нем Орля – так называет он невидимую сущность. Но поскольку убедиться в том, что все вышло удачно, нельзя, дабы избавиться от безумия, герой решает покончить с собой.
Этот рассказ уже не принадлежит к традиции готического ужаса. Орля – не сильф, не ундина и не привидение, это некое иное существо, возможно из другого измерения или с иной планеты. Его мир, в который герой временами проникает в грезах, полностью чужд рационально постижимому миру людей. Тот ужас, который испытывает герой, еще имеет человеческие черты и изображается канонически, как в «Ночном кошмаре» И. Г. Фюсли, но источник его нестандартен, а добавление в рассказ эзотерической составляющей месмеризма лишь усложняет картину[51 - Любопытно, что в антропологическом исследовании сонного паралича Шелли Адлер характеризует «Орля» как первое произведение, психологизировавшее кошмарные ночные переживания, ранее осмыслявшиеся либо в строго медикалистском ключе (проблема с пищеварением), либо в фольклорном (инкубы, эфиальты, кикиморы). Подробнее см.: Adler S. Sleep Paralysis: Night-mares, Nocebos, and the Mind-Body Connection. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2011. P. 59–60.]. Возможно, «Орля» – не единственный случай, фиксирующий переход к литературе нового типа, но, без сомнения, один из самых показательных.
Новая литература, оказавшаяся проводником эзотеризма в современную культуру, не связана с розенкрейцерским мифом, она вообще не связана с рациональными концепциями, выражающими парацельсианскую, алхимическую или каббалистическую традиции. Ее средоточием становится личный духовный опыт постижения реальности инобытия, опыт, который почти всегда концептуализируется на языке гетеродоксии, в его основе лежит лишь одно чувство, и это чувство – ужас.
В литературе нового типа ужасное – не развлекательный способ пощекотать нервы, как это было в готике, а средство, раскрывающее реальность иного нематериального бытия. Лучше всего эту особенность ужасного в работе, вышедшей несколькими десятилетиями позже «Орля», сформулировал известный немецкий религиовед, один из классиков феноменологии религии Рудольф Отто. Для Отто основополагающим в религии является так называемое чувство нуминозного, определяющими характеристиками которого служит совмещение ужаса и восторга, обычно передаваемое словосочетанием «mysterium tremendum et fascinans», то есть тайна, повергающая в трепет и одновременно восхищающая. Кроме того, нуминозное определяется как совершенно иное, абсолютно чуждое рациональным и культурным категориям нашего мира, оно превышает и мир, и человека. Все эти характеристики, а в особенности сочетание восторга и ужаса, понадобятся, когда мы обратимся к анализу новой связанной с эзотеризмом литературы. Пока же остановимся на чувстве ужаса, как оно зафиксировано у Отто. О нуминозном ужасе он пишет следующее:
…но и там, где это чувство уже давно достигло более высокого и чистого выражения, его изначальные движения могут снова и снова совершенно непринужденно прорываться из души, и их заново переживают. Это проявляется, например, в той силе и привлекательности, которыми даже на высоких ступенях общего душевного строения все еще обладает «страшное» в рассказах о «призраках» и «привидениях». Примечательно, что этот своеобразный ужас перед «жутким», также совершенно своеобразный при естественном страхе и испуге, никогда не вызывает столь значимого телесного воздействия: «У него все тело заледенело», «У меня мурашки по спине пошли». Мурашки есть нечто сверхъестественное. Тот, кто способен к более острому различению душевных состояний, должен видеть, что подобный «ужас» совершенно отличается от естественного страха не только степенью или силой и уж никак не является просто особенно высоким уровнем последнего. Сущность «ужаса» совершенно независима от уровня интенсивности. Он может быть столь сильным, что пронизывает до мозга костей, так, что волосы становятся дыбом, а руки-ноги трясутся[52 - Отто Р. Священное. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 27–28.].
Итак, очевидно, что ужас Отто – это вовсе не обычный страх от чего-то знакомого или даже неизвестного, но предсказуемого. Несколько позднее Г. ван дер Леув, соратник Отто, пояснил эту мысль так:
…неясный страх, который может захватить нас, когда мы находимся одни на болоте или в лесу, отголоски этого страха живут во многих легендах и сказках; ужас пребывания в темноте – весь этот страх носит специфически религиозный смысл. Если говорить прямо, то… во вторичном смысле я боюсь автомобиля, который может сбить меня, но в изначальном смысле я боюсь лишенного механики мира степей; во вторичном смысле я боюсь мысли о том, что на меня могут напасть в лесу, в изначальном смысле я боюсь самого ощущения необъяснимости леса и, дабы избавиться от него, рад встретить даже разбойников![53 - Цит. по: Самарина Т. С. Феноменология сакрального и художественная литература: Фантастический мир Элджернона Блэквуда // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 231.]
Этот иррациональный ужас, пронизывающий все бытие человека, ужас, не имеющий источника в знакомом материальном мире, ужас, через который приоткрывается инобытие, именно он стал определяющей категорией новой литературы, через которую эзотеризм и вошел в современную культуру.
Один из ведущих на сегодняшний день критиков, специализирующихся на литературе ужасов, Сунанд Триамбак Джоши предложил обозначать жанр новой литературы ужасов «странными историями» (weird tale), по названию американского журнала, в котором впервые начали публиковаться произведения Лавкрафта, а затем и его учеников. Концепция странных историй через Лавкрафта связывает ту традицию ужасов, которая предшествовала ему и повлияла на его прозу, с той, что последовала непосредственно за ним. Джоши настаивает, что сущностно определить странную историю нельзя, ведь это не просто жанр, а форма выражения мировоззрения писателей, чье творчество структурировалось темой ужаса и чья работа проходила в период между 1880?ми и 1940?ми годами. Он утверждает, что понять их наследие возможно, лишь «…изучив их метафизические, этические и эстетические теории, а затем увидев, как их проза отражает или выражает эти теории»[54 - Joshi S. T. The Weird Tale. P. 10.]. Джоши убедительно доказывает, что странные истории – это не истории о привидениях, так как в них может вовсе не быть привидений, это не научная фантастика, поскольку там не часто можно встретить научные или квазинаучные представления, это не психологическая литература, поскольку ужасное в ней не всегда может быть сведено и объяснено психологически. Наиболее полно выражающим суть странных историй Джоши предлагает считать творчество четырех писателей золотого века этого жанра: Артура Мейчена, лорда Эдварда Дансени, Элджернона Блэквуда и Говарда Филипса Лавкрафта[55 - Используемая нами здесь и далее работа Джоши – его первый шаг по концептуализации странных историй. После выхода этого труда он стал признанным специалистом по теме, выпустил около десятка книг о тех, кто продолжал и развивал жанр на разных этапах. В одной из последних работ он насчитывает более восьмидесяти имен авторов, стоящих на пороге странных историй (включая Кафку, Киплинга, А. Толстого и О. Генри), но ядро классиков остается неизменным: Мейчен, Блэквуд, Лавкрафт и его круг (см.: Joshi S. T. The Progression of the Weird Tale. Seattle: Sarnath Press, 2021. Р. 9–109).]. Но наше исследование не сфокусировано на каком-то типе литературы, мы пишем об эзотеризме в культуре. Поэтому типология Джоши, хоть и является обоснованной, для нас не подходит, так как в ней нет ничего, что отделяло бы литературу об эзотеризме от иной литературы. Например, из четырех мастеров жанра, выделенных Джоши, убежденный материалист лорд Дансени никакого отношения к эзотеризму не имеет.
В качестве альтернативы мы хотим предложить выдвинутый российскими авторами концепт черная фантастика. Так в начале 1990?х группой российских издателей, не чуждых эзотерических представлений, впервые был обозначен тот жанр, в котором работали А. Мейчен, Э. Блэквуд, Г. Ф. Лавкрафт, Г. Майринк и С. Грабинский[56 - Подробнее о связанных с этой концепцией издательских проектах и ее идеологическом наполнении см.: Носачев П. Симпатия к черной фантастике: исследование принципов конструирования эзотерического мифа // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2023. № 41 (1). С. 215–236.]. Правда, составители серий, включавшие этих авторов, не задавались целью дать четкого концептуального объяснения тому, чем является черная фантастика[57 - Общий ход рассуждений, ведущий к прояснению сути феномена, можно проследить в эссе Е. Головина: Головин Е. Приближение к черной фантастике // Майринк Г. Вальпургиева ночь. Л.: Судостроение, 1991. С. 7–26.]. Их логику можно изложить следующим образом. Черная фантастика – это литература, в которой страх является ведущим чувством, но истинный страх начинается лишь там, где человек сталкивается с разрывом привычных представлений о бытии. Именно этот разрыв поселяет в нем чувство «беспокойного присутствия»[58 - Второе название, данное черной фантастике издателями и комментаторами (см.: Там же. С. 7).], в такой литературе мир всегда предстает не таким, каким кажется. Мирные соседи могут оказаться маньяками-убийцами, а добрый старый знакомый – воплощением космического хаоса. Литература этого типа должна растормошить человека, не просто пощекотать ему нервы, а не давать вернуться в привычный мир. Черная фантастика – это больше чем литература, ее образы – приоткрытие истинных горизонтов бытия.
Эти рассуждения, сколь бы любопытными они ни были, все же мало что дают для систематической рефлексии над вопросом, какую роль черная фантастика играет для определения эзотеризма в культуре. Поэтому в дальнейшем исследовании мы возьмем этот термин, но откорректируем его содержание. Итак, далее под черной фантастикой мы будем понимать литературу, созданную писателями, для которых эзотеризм составлял основу их мировоззрения, литературу, в которой ужас, призванный раскрыть реальность инобытия, был ведущим чувством, литературу, систематически использующую эзотерические концепции, мифологемы, образы и теории для оформления идеологической рамки описания ужасного. Стоит отметить, что писатели, работающие в этом жанре, вовсе не обязаны верить в реальность эзотерических концепций или быть убежденными, что за границами материального мира есть что-то еще, но они должны создавать свою прозу, как если бы они были убеждены в этом, эта условность сама по себе оформляет новый способ существования эзотеризма в культуре.
Далее мы последовательно проанализируем творчество нескольких писателей, оформивших феномен черной фантастики. Но прежде чем приступать к этому, сделаем важное замечание. Исторический этап, когда работали наши герои, был формативным для возникновения современного эзотеризма, они пишут по следам произведений Блаватской, в гуще споров о спиритизме, вместе с Кроули и Успенским, поэтому их образы и идеи не есть побочный продукт развития каких-то эзотерических учений – они формируют новый эзотеризм.
Глава 2
Британские маги: Артур Мейчен и Элджернон Блэквуд
Литература и магия
В 1899 году в британский магический орден «Золотая заря» был инициирован Артур Мейчен, а год спустя – Элджернон Блэквуд, оба вступили в него перед самым закрытием. Волею судьбы их членство в «Золотой Заре», ордене, чья деятельность прочно ассоциируется со всеми формами ритуальной магии, практиковавшимися в XX и XXI веках, постфактум стала связываться с тайными знаниями ордена, а то, что они были создателями жанра черной фантастики, лишь добавило атмосферу загадочности их творчеству. Репутация писателей-магов сподвигла некоторых исследователей искать в их текстах аллюзии на практики и идеи Зари. Обычно рассуждения на эту тему звучат так:
О чем просил Стокер, призывая, согласно ритуалам, языческих богов в ордене Золотой Зари? Уж не о том ли, чтобы ему было явлено единственное знание, то, которое влекло его всю жизнь? Знание, которое возместило бы невеликий литературный дар и позволило бы потрясти читающую публику… Дракулу Брэм Стокер не родил. Он его вызвал[59 - Морозова Ф. Дракула и Стокер: Двойной портрет в рамке мифа // Стокер Б. Дракула. М.: Энигма, 2005. С. 569.].
Хотя здесь речь идет не о Блэквуде и Мейчене, а об их коллеге Брэме Стокере, чьи достаточно тривиальные сюжеты к проблеме черной фантастики принадлежат косвенно, но интересен сам метод работы. Не имея особого понимания, чем на самом деле занимались члены ордена и зачем они в него вступали, основываясь на обывательских представлениях, почерпнутых из той же массовой культуры, автор сочиняет за орден и практики, и цель, и магический результат. Зато читателя может заинтересовать. Разумеется, такой ход рассуждений не имеет никакого отношения к научным исследованиям. Тексты такого плана – еще одно подтверждение, что для многих, даже отчасти слышавших о теме, эзотеризм представляет собой, как пелось в одной песне, «смутное пятно неизвестно чего».
Так случилось, что в рецепции литературного наследия Мейчена и Блэквуда ключевую роль сыграл Лавкрафт. В эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» он восхищался отдельными произведениями обоих, называя их пионерами литературы ужасного. Поэтому критики, фокусирующиеся на наследии Лавкрафта, стали обращаться к их текстам в поисках прототипов фантастики последнего. На деле ни первая, ни вторая интерпретативные схемы не подходят для полноценного понимания творчества этих самобытных писателей, наследие каждого из которых заслуживает самостоятельного и непредвзятого изучения. Хотя доля правды и в первом, и во втором случае присутствует: Мейчена и Блэквуда действительно объединяет интерес к эзотеризму, и ведущим настроем в их творчестве был ужас, но не лавкрафтовский, а способный раскрыть границы бытия, показать, что за пределами материального мира есть нечто большее, тяга к этому неизвестному отличает их прозу.
Поскольку оба писателя все же были членами магического ордена, то здесь для создания атмосферы имеет смысл привести текст присяги Младшего адепта (достаточно высокая степень), которой достиг один из героев главы – Э. Блэквуд. Фактически Заря состояла из двух орденов: внешнего, имеющего более теоретический характер, и ориентированного на практику внутреннего. За недолгое время членства в ней Мейчен достиг лишь степени Практика, предпоследней в иерархии внешнего ордена, в то время как Блэквуд, хоть и вступил в орден позднее, преуспел больше, дойдя до первой полноценной степени второго ордена. Текст присяги дает представление о духовных целях, которые в перспективе стояли перед усердно подвизающимися братом или сестрой:
Далее я торжественно обещаю и клянусь, что, с Божественного Соизволения, отныне и впредь я обращу свои усилия на Великое Делание и буду очищать и возвышать свою духовную природу, дабы с Божественной Помощью, наконец, превзойти человеческое естество, постепенно подняться к своему Высшему Божественному Гению и соединиться с ним, – и что, достигнув этой цели, я не стану злоупотреблять вверенной мне великой властью[60 - Регарди И. Полная система магии Золотой Зари. М.: Энигма, 2011. С. 234.].
Артур Мейчен
Жизнь
Артур Ллевеллин Джонс, впоследствии взявший материнскую фамилию Мейчен, родился в 1863 году в городке Карлеон на юго-востоке Уэльса. Эта сельская местность, в которой сохранилось немало старых римских и кельтских развалин, а народные сказания передавали память о дохристианской мифологии, сказки о маленьком народце и предания о Граале, оказала огромное влияние на становление юного писателя. Особую популярность истории этих мест придали визиты легендарного Теннисона, который именно в Карлеоне вдохновлялся атмосферой древности, чтобы написать «Королевские идиллии», цикл стихотворений о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Позже о своем детстве Мейчен будет вспоминать:
…чем старше я становлюсь, тем тверже убеждаюсь, что все, чего я, возможно, достиг в литературе, связано с тем фактом, что, когда мои глаза впервые открылись в раннем детстве, перед ними было видение зачарованной страны[61 - Machen A. Far Off Things. London: Martin Secker, 1922. P. 8. Идея зачарованной страны у Мейчена играет двоякую роль: это и страна детства, и иная реальность. Например, когда герой повести «Фрагмент жизни» поведал другу своего отца, как обыденная лондонская жизнь удивительным образом на миг преобразилась для него, тот «внимательно посмотрел… сказал что-то о волшебной стране» (Мейчен А. Фрагмент жизни // Мейчен А. Тайная слава. М.: Энигма, 2007. С. 52), а в «Трех самозванцах» профессор Грег, которому суждено было пропасть, исследуя обиталища туранцев, мечтал стать «первооткрывателем сказочной страны» (Мейчен А. Три самозванца // Там же. С. 284).].
Вторым формирующим личность Мейчена фактором стала библиотека отца, приходского священника, служившего в городке недалеко от Карлеона. Именно в ней будущий писатель знакомится с книгами де Квинси, Стивенсона, Скотта, сборником средневековых легенд «Мабиногион» и открывает для себя алхимию через сочинения Николя Фламеля и специальные статьи в научных сборниках. Чтение способствовало первым экспериментам в литературе. Мейчен пишет поэму «Элевсиния», которую публикует на собственные средства маленьким тиражом, впоследствии почти все экземпляры он собственноручно уничтожит. Если принять во внимание факт, что вся проза Мейчена автобиографична, то нужно обратить внимание на описание жизни Луциана Тейлора из самого успешного романа писателя «Холм Грез». Луциан – молодой человек, перебравшийся из английской провинции в Лондон и мечтающий стать писателем. Одно из самых глубоких связанных с литературой переживаний заключалось для него в том, что он, написав первый роман, над которым честно трудился полтора года, и отправив его по почте в столичное издательство, получил отказ, но некоторое время спустя с удивлением прочел свой же собственный текст, надписанный именем известного писателя. Правда, текст этот был несколько облагорожен стилистически, но впечатление от такой несправедливости врезалось ему в память навсегда. По-видимому, Мейчен пережил что-то близкое – с таким чувством это подано в романе.