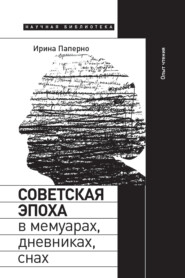скачать книгу бесплатно
При этом авторами движет убеждение, что интимное – это историческое и что такая информация – это свидетельство о том, как далеко зашла деформация личности в катастрофах советской истории.
В своем дневнике жизни Анны Ахматовой Лидия Чуковская осознанно обнажает ненормальные формы интимной жизни, созданные советским строем. Самая близость между Чуковской и Ахматовой – это продукт террора: они связаны общим горем и общими хлопотами об исчезнувших членах семьи (муже Чуковской и сыне Ахматовой). Дневник описывает их встречи в необыкновенном доме Ахматовой: это коммунальная квартира, в которой проживает также ее бывший муж Николай Николаевич Пунин, его первая жена и дочь от этого брака. Их отношения сложились в 1920?е годы (не без влияния авангардных представлений о любви и браке), а к 1930?м годам квартирный вопрос (нехватка жилья и необходимость прописки) превратили их в своеобразную семейную ячейку, запертую в пределах одной квартиры. В той же квартире живет пролетарская семья бывшей прислуги Пуниных, Смирновы; их маленькие дети пользуются любовью и заботой Ахматовой, несмотря на то что она полагает, что их мать (которая выполняла для нее домашнюю работу) работает также на органы госбезопасности, поставляя информацию о жизни Ахматовой.
Дневники затем описывают, как во время войны, эвакуированные в Ташкент, Ахматова и Чуковская ютятся в общежитиях, населенных собратьями-писателями. В этой ситуации их бесприютность и безбытность стали частью общенационального опыта. После смерти Сталина они встречались в крошечных комнатах или углах перенаселенных квартир московских друзей, где Ахматова жила месяцами, с имуществом, ограниченным сумкой и чемоданом (в отдельном чемодане при ней находился ее архив). Где бы они ни находились, они разговаривали шепотом, полагая, что их подслушивают органы госбезопасности. (Для конспирации Чуковская кодировала записи некоторых из их разговоров.) Эти привычки, как показывает дневник Чуковской, сохранились и после смерти Сталина. В конечном счете дневник – этот протокол частной, дружеской слежки, выполненный для истории, – свидетельствует о том, как в течение многих лет Ахматова жила, ела, пила, спала, одевалась, как она выглядела, как она болела, что она говорила своему другу и конфиденту Чуковской и что та слышала из ее разговоров с другими.
Читатели этого замечательного дневника в письмах к автору свидетельствуют об эффекте соприсутствия: «видишь, слышишь <…> и эту квартиру <…> Пунина <…> и Смирновых за стеной»; «читатель не читает Ваши книги, а живет в них, он где-то незримо, совсем рядом присутствует, он видит всё»[67 - Подборка писем читателей к Лидии Чуковской, написанных между 1967 и 1994 годами, опубликована в: Знамя. 1995. № 8. Здесь цитируется (в этом порядке) письмо Натальи Ильиной в сентябре 1969 года (письмо № 13) и письмо Н. Урицкой от 30 августа 1989 года (письмо № 41). Ильина – профессиональная писательница и личный друг Чуковской и Ахматовой, она читала «Записки об Анне Ахматовой» еще в рукописи; второй читатель, Урицкая, – библиотекарь в городе Ухта, читала в 1989 году опубликованную версию.]. Книгу заселяют как взятую внаем квартиру: в перенаселенную коммуналку Ахматовой вселились и читатели, желающие видеть и слышать «всё».
Ученые, которые опубликовали историю жизни простой женщины Евгении Киселевой, также воспринимают свою публикацию как документальное свидетельство о специфически советской жизни частного человека и также считают такую жизнь «ненормальной»; по их словам, это свидетельство о распаде социальных связей, о существовании «в пространстве войны всех против всех»[68 - Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. «Я так хочу назвать кино». С. 87.]. Мы видим нищету деревенской жизни, голод 1932 года, военную разруху, пьянство, воровство, побои в семье, многоженство. Мы видим, как после войны Киселева нашла своего пропавшего без вести мужа: оказалось, что он женился на другой (в легальных терминах: двоеженец или троеженец). Две жены одного мужа и ребенок провели нелегкую ночь в одной комнате коммунальной квартиры (вернее, барака)[69 - Там же. С. 99–100.]. Для тех, кто опубликовал этот рассказ, – это документ, имеющий и этнографическое, и историческое значение: «просто жизнь, которая вписана в советский период истории»[70 - Там же. С. 7.].
Дневник Юрия Нагибина рассчитан на шокирующий эффект у читателя, который знает об официальном облике этого видного советского писателя и кинематографиста. (Известен он был и благодаря сценариям популярных фильмов о трудной жизни советской деревни, «Председатель» и «Бабье царство», – именно такие фильмы вдохновили Евгению Киселеву написать историю своей жизни и послать ее на киностудию.) В своем дневнике Нагибин открывает читателю доступ за кулисы – он не только описывает свои схватки с властью, но и показывает себя пьяным скандалистом, буянящим в ресторане ЦДЛ, неверным мужем сменявших друг друга жен. (Издатель этого документа поместил во втором издании хронологический список шести жен Нагибина.) Допущенный в интимную жизнь автора, читатель приобщен и к запахам его перенаселенных (но отдельных, а не коммунальных) квартир – мочи, кала, рвоты и менструальной крови. Ужасный запах – это мотив всего дневника и часть метафоры советской системы – среды разложения, в которой автору приходилось жить и работать[71 - Нагибин Ю. Дневник. С. 35, 37, 73, 81, 160, 541.].
Прежде чем отдать в печать свой дневник, Нагибин опубликовал один за другим несколько романов, если не прямо автобиографических, то наделенных намеренно двусмысленными сигналами автобиографичности[72 - Имя героя книги не Нагибин, а Калугин, однако некоторые из второстепенных персонажей (друзей «Калугина») носят имена реальных людей, знакомых читателю и из «Дневника» Нагибина. Так, в романе «Тьма в конце туннеля» обсуждается дружба героя Калугина со Святославом Рихтером и Верой Прохоровой. А во втором издании «Дневника» имеется фотография Нагибина с Рихтером и Прохоровой (Нагибин Ю. Тьма в конце туннеля. С. 95; Он же. Дневник. Фронтиспис).]. В центре всех романов этого цикла – раскрытие семейных тайн главного героя, начиная с тайны его рождения и происхождения, а также его любовных связей и его близости как к репрессированным, так и к власть имущим[73 - Нагибин Ю. Тьма в конце туннеля. Моя золотая теща. М.: ПИК, 1994; Он же. Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя. М.: ПИК, 1995.]. Герой романа «Тьма в конце туннеля» узнает после смерти Сталина, что человек, которого он считал отцом, таковым не является. Влюбленный в мать героя, он дал свое имя незаконному сыну друга, расстрелянного большевиками в 1920 году. Однако к моменту этого открытия герой носит лишь отчество своего приемного отца, Маркович (то же отчество носит и автор). Еврейскую фамилию он, чтобы не затруднять себе путь к литературной карьере, давно отбросил, взяв псевдоним, выбранный матерью (якобы наугад), – на самом деле русскую фамилию своего настоящего отца. Приемный отец, выбранный матерью для этой роли и благодаря своему еврейству (в революционные годы еврейство казалось ей почти что синонимом большевизма), в послевоенные годы в ходе антикосмополитической кампании оказался ненадежным защитником: он был арестован. Когда юный герой женится на дочери сталинского министра, он считает необходимым скрывать неудобного «отца» от семьи жены (в частности, и для того чтобы защитить от дальнейших преследований). Навещая его в ссылке втайне от жены и ее семьи, он предпочитает быть заподозренным в супружеской измене. Читателю Нагибина нелегко понять эти запутанные социальные и эмоциональные осложнения; нелегки они и для самого героя. Так, когда герой наконец узнает тайну своего рождения и понимает, что не является евреем, это сбивает его с толку. Дело в том, что он привык объяснять для себя болезненное чувство отчуждения именно за счет своего еврейства. Кроме того, в атмосфере оттепели после сталинской антисемитской кампании еврейство отождествлялось с либеральной позицией «интеллигенции», и от этого тоже нелегко отказаться[74 - Дилеммы и парадоксы еврейской идентичности проанализированы в: Slezkin Y. The Jewish Century. Princeton: Princeton University Press, 2004; русский перевод: Слезкин Ю. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М.: Новое литературное обозрение, 2007 (об изменениях, произошедших от 1920?х к 1940?м годам, см. главу 4).]. Так кто же он? Роман предлагает анализ двусмысленного положения и трудного состояния героя и его матери – сдвиг между именем и этническим происхождением, семейной лояльностью и надеждами на социальный успех, расчетом на безопасность и непредсказуемыми осложнениями. Все это имеет непосредственное влияние на эротический выбор героя – его непреодолимое влечение к двойственности и обману, склонность к адюльтеру. Нет сомнения, что именно форма романа (с вековым опытом жанра в изображении как загадочного происхождения героя, так и адюльтера) имеет шансы адекватно представить этот клубок, казалось бы, неправдоподобных обстоятельств и противоречивых эмоций. Ирония ситуации состоит в том, что роман Нагибина заключает в себе значительный элемент автобиографичности: многие (если не все) сюжетные ходы прямо отражают положение самого автора, Юрия Марковича Нагибина[75 - Издатель дневника Нагибина Юрий Кувалдин принимает историю героя романа за историю самого автора. Более того, он полагает, что Нагибин заимствовал материал для романа непосредственно из дневника. См.: Кувалдин Ю. Юрий Нагибин. Впервые опубликовано в газете «Невское время» за 13 марта 1996 и затем как послесловие к изданию «Дневника» (с. 672).].
Дневник Нагибина вызвал резкие отклики читателей. Так, Виктор Топоров (сам мемуарист-скандалист и тоже незаконный сын и носитель фиктивного имени и неполного еврейства) отказался принять саморазоблачения автора как портрет «подлинного» Нагибина: с его точки зрения, обнажение далекой от респектабельности интимной жизни не очищает Нагибина от репутации успешного советского автора. А если герой дневника не является «подлинным Нагибиным», то (вопрошает Топоров) «стоило ли превращать дневник в „Дневник“, отдавая его в печать?»[76 - Топоров В. Гибель Нагибина // Постскриптум: Литературный журнал. 1996. № 5; цит. по: www.vavilon.ru/metatext/ps5/toporov.html.]
Другой отклик поступил от члена противоположного идеологического лагеря, а именно правых националистов постсоветского времени, Станислава Куняева. Как и Топоров, Куняев заявил о своем отвращении от цинически откровенных самообнажений в «мемуарах» Нагибина. (Он считает мемуарами и дневник, и романы.) Более того, его оскорбило двойственное отношение Нагибина к своему национальному происхождению – его отказ признать свою русскость и заигрывание с еврейством[77 - Куняев С. Из литературного дневника смутного времени // Завтра. 1994. № 27. С. 32.].
В своем дневнике «обыкновенная женщина» Эльвира Григорьевна Филипович также раскрывает семейные тайны и также описывает далекую от нормы жизнь своей семьи как продукт исторических обстоятельств. Дневник рассказывает о том, как в 1957 году, в возрасте двадцати трех лет, она впервые увидела своего отца Григория Смирнова (по профессии он был геологом). Рожденная вне брака в 1934 году (Филипович – фамилия ее матери), она нашла отца только после смерти Сталина. Контакт отца с матерью оборвался во время войны. В 1966 году Филипович, второй раз встретившись с отцом, узнает обо всех своих братьях и сестрах (их шестеро, от пяти разных матерей). Ее мать и сама выросла без отца: он был «жертвой репрессий»[78 - Филипович Э. От советской пионерки… Книга 1. С. 86, 91, 260–262.].
В книге «Записи и выписки» выдающийся филолог-классик Михаил Гаспаров, отличавшийся до крушения советской власти крайней сдержанностью в своих публичных выступлениях, поместил записи и эссе, посвященные главным образом не жизненному опыту, а тщательно сформулированным мыслям и эстетическим суждениям. Один рецензент назвал метод Гаспарова «обнажением мысли». Противопоставляя этот подход тому, что мы читаем у иных писателей: «драки в ЦДЛ, пьяный разгул, альков» (по-видимому, намек на Нагибина), – рецензент замечает, что «филолог обнажается иначе»: Гаспаров признается, что при переводе стихотворения опустил строку, «и читатель краснеет так, как будто читает описание постельной сцены»[79 - Немировский И. «Записи и выписки». Михаил Гаспаров (рецензия) // Новая русская книга. 2000. № 6. С. 9–10.]. Тем не менее и филолог обнажается. Добавим, что и филолог раскрыл тайну своего рождения: и он был рожден вне брака, но носил имя легального мужа матери; и он жил под именем, которое предполагало иную национальность, нежели на самом деле.
Другой выдающийся исследователь литературы, Лидия Гинзбург, не допустила-таки ни семейные тайны, ни просто биографические факты на страницы своих тщательно отделанных афористичных «записей» и мемуарных эссе, призванных фиксировать протекание человеческого опыта, но идея связи между интимностью и историей пронизывает всю ее документальную прозу (изданную в нескольких разных собраниях). Метод Гинзбург – исторический анализ бытовых и психологических ситуаций (таких как любовь эпохи военного коммунизма или летний отдых эпохи террора)[80 - Об особом жанре «записи», созданном Гинзбург, и особом понимании авторского «я» писала Эмили Ван Баскирк. Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. Реальность в поисках литературы / Пер. с англ. С. Силаковой. М.: Новое литературное обозрение, 2020.].
Искусствовед Михаил Юрьевич Герман (1933–2018), сын писателя Юрия Германа, рано оставленный отцом, не только раскрыл многие подробности своей трудной частной жизни в мемуарах «Сложное прошедшее (Passе composе)», но и обобщил в исторических терминах проблемы интимности в советских условиях. Вспоминая о своем студенческом опыте 1950?х годов, он сделал следующий вывод:
Коммунальные квартиры, бездомность и бесприютность придавали течению серьезных и несерьезных романов нечистую поспешность. Отсюда немало настоящих трагедий, не говоря уже о все том же страхе. <…> [И]нтимная жизнь была тогда более всего «политическим фактом»[81 - Герман М. Сложное прошедшее (Passе composе). СПб.: Искусство–СПб., 2000. С. 203.].
Поясняя понятие «политического факта», Герман пишет о скудности информации о сексуальности, отсутствии половой (и иной) гигиены и абортах, а также о публичных осуждениях внебрачных связей в среде студентов со стороны комсомольских организаций и администрации высших учебных заведений. (С высоты своей исторической позиции Михаил Герман писал с симпатией о «многими отвергнутом, но больном и мудром „Дневнике“ Нагибина»[82 - Герман М. Сложное прошедшее. С. 526.].)
Человек другого поколения и склада, Мария Ивановна Арбатова (род. 1957), с начала 1990?х годов активный деятель феминистского движения, с намеренной нескромностью пишет в мемуарном романе об изнасиловании, браке, разводе и о трудном процессе воспитания детей в советском обществе. Она описывает свой метод как «эдакий стриптиз» и мотивирует его своим местом в советской истории:
Я пишу этот текст с шокирующей некоторых искренностью и подробностью, потому что отношусь к первому поколению, родившемуся без Сталина. И это поколение пока сделало довольно мало попыток рассказать о себе честным языком. Надеюсь, что книга не столько обо мне, сколько о времени; эдакий стриптиз на фоне второй половины двадцатого века, который, слава богу, уже кончился[83 - Арбатова М. Прощание с XX веком. Т. 2. С. 9.].
Стриптиз на фоне конца века – это не столько о себе, «сколько о времени».
Замечательное определение этой ситуации дала Мариэтта Чудакова. Публикуя в 2000 году свой дневник, она заметила в постскриптуме:
С концом советской эпохи и прошедшего в России под ее знаком столетия то, что писалось для себя, потеряло интимность, стало документом[84 - Чудакова М. Людская молвь… С. 147.].
Обобщения: интимность и история
Сделаем некоторые обобщения. Советские мемуаристы рассказывают о своей интимной жизни как о факте истории. Нет сомнения, что так поступали и их предшественники в XIX веке (вспомним Герцена и его «Рассказ о семейной драме»)[85 - Об этом см.: Паперно И. Интимность и история: семейная драма Герцена в сознании русской интеллигенции (1850–1990?е годы) // Новое литературное обозрение. 2011. № 112.]. Более того, самообнажение, конечно, практикуется и в мемуарах современных западных авторов. И тем не менее можно говорить об особом историческом смысле этих откровений: это именно самораскрытие на фоне конца советской эпохи.
В личных документах постсоветского периода советская история предстает как сила, деформировавшая структуру семьи и дома, а следовательно (как мы знаем из психоанализа и романов), и самоощущение человека – его «я». В ряде дневников и воспоминаний «я» выступает как продукт террора или войны, или террора и войны, но такое самоощущение сохраняется и после конца сталинской эпохи. Советский строй предстает как создающий особые условия жизни, в которых происходит деформация интимного пространства, и не только в тюремных камерах и фронтовых окопах, но и в коммунальных квартирах, и деформация тела – не только пыткой или голодом, но и советскими гигиеническими практиками.
Заметим, что едва ли не в каждом тексте мемуаров и дневников можно найти яркие описания быта коммуналки, несущие более или менее осознанный эмблематический смысл. В самом деле, роковой квартирный вопрос и коммунальная квартира – инструмент социального контроля посредством насильственной совместности и вынужденной интимности – давно уже стали центральной метафорой советского общества. (Многочисленные дневники и мемуары, романы и кинофильмы, художественные инсталляции и научные исследования кодифицировали символический смысл и социальный статус этого культурного института[86 - Коммунальная квартира как социальный институт и ее символические смыслы описаны во многих исследованиях. См., например: Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge: Harvard University Press, 1994. Русский перевод: Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2002; Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира // Социологический журнал. 1998. № 1–2. С. 224–244; Утехин И. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004. См. также виртуальный музей коммунального быта в сети: Communal Living in Russia: A Virtual Museum of Soviet Everyday Life. http://kommunalka/colgate.edu. Заметим, что хотя большинство мемуаристов пишут о жизни в коммуналке с ужасом, имеются и такие, которые представляют коммунальную жизнь в позитивном свете, например: Арбат, 30, Квартира 58 // Источник. 1993. С. 5–6. (Эти воспоминания писателя и журналиста Олега Любченко опубликованы в разделе «Народные мемуары» журнала «Источник», официального органа Архива Президента Российской Федерации (Приложение к журналу «Родина»).)].)
Советское государство предстает в частных документах своих граждан как создатель особого режима интимной жизни, основанного на двойственности и амбивалентности, которые стимулировались такими факторами, как необходимость делить жилое пространство с чужими людьми или скрывать (даже от членов семьи) свое происхождение и этническую принадлежность. Государство предстает как сила, деформировавшая традиционные структуры интимной жизни, а с ними и самое «я».
В этой перспективе самораскрытие приобретает особое – историческое и политическое – значение, а советские дневники и мемуары выступают под знаком «интимность и история».
Мемуары создают сообщество
Мемуары конца советской эпохи служат не только построению своего «я», но и созданию сообщества: семьи, дружеского круга, соратников по интеллигенции, современников. Как это делается?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: