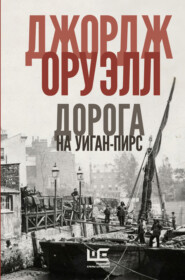скачать книгу бесплатно
– У вас авто есть?
– Да…
– Марка какая?
– «Даймлер»…
– А сколько лошадиных сил?
Пауза, и прыжок в темноту:
– Пятнадцать…
– Фары какие?
Несчастный малыш онемел от растерянности.
– Ну фары, тебе говорят, какие: на электричестве или ацетилен?
Долгая пауза, и опять прыжок в темноту:
– Ацетилен…
– Балда! Он говорит, что у авто фары ацетиленовые! Их уж сто лет не выпускают, где ж твой папаша такую рухлядь откопал?
– Да врет он! Нет у них никаких авто. Малый из работяг. Папаша его – работяга.
По основным своим социальным параметрам я был, конечно, нехорош и ни на что хорошее претендовать не мог. А были люди, коим почему-то в полном пакете доставался набор известных добродетелей. Не только деньги, но и сила, и обаяние, и красота, и мускулы атлетов, и то, что называется «крепким нутром», «характером», а в жизни означает умение подмять под себя. Но ни одним из этих качеств я не обладал. В спортивных играх, например, был безнадежен. Мне удалось все же кое-чего добиться в крикете, и плавал я неплохо, однако тут престиж не набирался, поскольку ценен у мальчишек лишь мужественный, храбрый спорт. Футбол – вот что ценилось, а я в футбол играл как трус. Меня воротило от игр, где я не находил ни удовольствия, ни смысла, и футбол мне казался не наслаждением погонять мяч, а специфичной дракой. Все наши заядлые футболисты были ватагой здоровенных молодцов, отлично подшибавших и ловко топтавших игроков послабее. Футбол! Образчик школьной жизни – сплошных триумфов силачей над слабаками. Эталонная добродетель победителей, способных быть мощнее, здоровее, богаче, популярней, элегантней, бессовестней других, чтобы господствовать над ними, всячески демонстрируя свое превосходство, измываться, заставлять их страдать и глупо выглядеть. Справедливость жизненной иерархии. Есть сильные, достойные приза и непременно его получающие, и есть слабые, кому по заслугам проигрывать всегда, во всём.
Установленные стандарты я сомнению не подвергал, ибо иных не наблюдалось. Могли ли быть неправыми сильные, модные, смелые, властные, богатые? Мир принадлежит им, так что их правила безусловно верны. И всё же с самых ранних лет я ощутил: не получится у меня по их правилам. Затаившееся в сердце внутреннее «я» то и дело вздрагивало от несогласия душевных фибр с моральным долгом. В любой сфере, мирской или мистической. Вот религия, например. Я должен любить Бога, в этом у меня сомнения не было. И до четырнадцати лет я верил в Господа, во все свидетельства о нем. Но мне же было прекрасно известно, что не люблю я его. Ненавижу, как и Христа, и всех библейских патриархов. Если имелись некие симпатии к фигурам Ветхого Завета, так вызывали их такие персонажи, как Каин, Иезавель, Аман, Агаг, Сисара, а в Новом Завете друзьями мне были бы (если бы были) Анания, Иуда, Каиафа и Понтий Пилат. В религии, куда ни глянь, я упирался в психологический тупик. Молитвенник, скажем, предписывал и возлюбить Господа, и страшиться, – а как ты можешь полюбить кого-то, кого боишься? И в жизни те же самые проблемы. Моральный долг повелевал чувствовать благодарность к Флип и Самбо, а я нисколько ее не чувствовал. Еще понятнее был долг любить отца, а я не питал нежных чувств к отцу, которого едва и видел до восьми лет, который был для меня престарелым занудой, хмуро ворчавшим «нет, нельзя». Тут не присутствовал отказ, сознательное нежелание чувствовать как положено, как подобает. Просто не получалось. Правило и переживание, казалось, никогда не совпадают.
Как-то я наткнулся, правда, не в Киприане, а чуть позже, на стихотворную строчку, ударившую прямо в сердце, – «армия неизменного закона»[17 - Финальная строчка стихотворения Джорджа Мередита «Люцифер в звездном свете».]. Я всем существом понял, что? значит оказаться Люцифером, поверженным, поверженным законно и не имеющим ни шанса отомстить. Учителя с их плетками, миллионеры с их шотландскими замками, атлеты с их волнистыми шевелюрами – армия неизменного закона. Трудно мне было в те времена додуматься, что в жизни-то этот закон не столь уж неизменен, что очень даже можно его изменить. А тогда закон меня, мальчишку, приговорил. Я не имел денег, был слаб и некрасив, непопулярен, трусоват, меня бил хронический кашель, от меня разило по?том. Ужасающий образ, но, должен сказать, на реальной почве. Неказисто я выглядел. Если и не совсем таким родился, то в Киприане постарались насчет этого. А вообще, ребенку свои жуткие изъяны видятся, невзирая на факты. Я, например, был уверен, что «пахну». Основание вероятностное: известно ведь, что от противных людей «пахнет», ну, значит, и от меня. Или вот долго, пока не покинул школу, я полагал себя сверхъестественным уродом. Так говорили однокашники, а я не чувствовал в себе достаточной авторитетности, чтоб оппонировать. Кстати, глубокое убеждение в том, что я обречен на неуспех, засело во мне на многие годы. Лет до тридцати все мои планы строились с учетом не только неизбежного провала очередной колоссальной затеи, но также с перспективой весьма скорого переселения в загробный мир.
Однако же имелось нечто в противовес тоске вечной вины и неудачи – инстинкт выживания. Даже хилый, несмелый, невзрачный, пахучий и ни на что не годный хочет существовать и быть по-своему счастливым. Я не мог переделать шкалу ценностей, не мог превратиться в баловня успеха, но я мог принять свое невезение и постараться извлечь из него хоть что-нибудь хорошее. Принять себя как есть и всё же выжить.
Намерение выжить, то есть сохранить какую-никакую независимость, было, по сути, криминальным, ибо нарушало всеми, в том числе мной, признанные законы. А жил-был у нас паренек Джонни Хейл, чудовищно меня угнетавший. Могучий здоровяк с ярким румянцем и темными вьющимися волосами, он постоянно выворачивал кому-то руки, крутил уши, кого-то хлестал стеком (будучи из той самой «команды шестых») или демонстрировал чудеса на футбольном поле. Флип к нему очень благоволила (отсюда общая школьная привычка называть его по имени), Самбо хвалил его за «характер» и умение «поддерживать порядок». Свита подхалимов дала ему прозвище Командор.
Однажды в моечной раздевалке Хейл по какому-то поводу начал меня цеплять. Я огрызнулся. Он схватил мое запястье и резко, дико болезненным приемом заломил мне руку. Помню вплотную перед глазами ухмылку на румяном лице красавца. Был он, по-моему, немного старше меня и, разумеется, несравненно сильнее. Когда он прекратил пытку, в сердце моем взыграла злобная решимость. Сейчас, как только окажусь у него за спиной, тресну его неожиданно изо всех сил. Медлить не стоило, так как вот-вот должен был появиться педагог, чтоб увести нас «на прогулку», и с дракой не вышло бы. Примерно через минуту, напустив на себя самый безразличный вид, я приблизился к Хейлу и, обрушившись на него всем телом, двинул ему в зубы. Ловким ударом он отшвырнул меня, из угла рта у него побежала кровь. Ясное жизнерадостное лицо потемнело от гнева. Хейл отошел прополоскать рот в умывальном тазу.
– Отлично! – процедил он, когда нас уводили.
Вскоре он стал преследовать меня, вызывая на бой. Холодея от ужаса перед поединком с ним, вызовы я упорно отклонял: говорил, что одного обмена ударами достаточно, конфликт исчерпан. Любопытно, что вариант просто напасть на меня Хейл не использовал; сказалось, видимо, общественное мнение, презиравшее простецкие драки. И постепенно страсти улеглись, дуэль не состоялась.
Повел я себя тогда против правил, равно уважавшихся противником и мной самим. Ударить человека врасплох – дело скверное. Но отказаться от последующих боевых действий было еще хуже, поскольку причиной являлась трусость. Если б отказ мой диктовался искренним осуждением драчливости, ну и нормально, но я-то уклонился от схватки исключительно из-за страха. А этим и моя месть обесценилась. Я ударил, стараясь не думать, просто в яростной жажде хоть разок отплатить, и будь что будет. Знал я, конечно, что неправильно действовать именно так, но проступок вознаграждался некоторым удовлетворением. Теперь же всё было аннулировано. Мужество в первом акте, а во втором трусость, дочиста стершая значение храброго порыва.
Но я тогда не обратил внимания на чрезвычайно примечательный факт: Хейл продолжал настойчиво вызывать меня на бой, но приставать ко мне он перестал. После того единственного моего мстительного удара он уже никогда не мучил меня своим гнетом. Прошло, пожалуй, лет двадцать, прежде чем я сделал выводы. В те времена я не умел разглядеть четкую моральную дилемму в мире, где сильный властвует над слабым, – нарушать правила либо погибнуть. Не увидел, что у слабого есть право на собственные правила, поскольку, даже осени меня подобная идея, рядом не было никого, кто мог бы ее подтвердить. Жил я в мальчишеской среде стадных животных, не задающихся вопросами, принимающих закон сильных и мстящих за унижения, унижая особей помельче. Если чем-то и отличалась моя ситуация, если потенциально во мне было больше бунтарства, то лишь потому, что по мальчишеским стандартам я представлял собой убогий экземпляр. И никогда я не бунтовал разумом, только эмоционально. А единственной помощью мне (частенько себя презиравшему), кроме тупого эгоизма и неспособности совершенно обойтись без любви к себе, был инстинкт выживания.
Приблизительно через год после того, как я двинул в морду Джонни Хейлу, кончился мой срок в школе Св. Киприана. Это было в конце зимнего семестра, я уезжал навсегда. С чувством выползающего из темной норы на солнечный простор я надел галстук Славного школьного братства, который мы всегда повязывали, отправляясь в путешествия. Хорошо помню чувство освобождения, словно галстук был и знаком возмужалости, и амулетом против голоса Флип, плетки Самбо. Я убегал из рабства. Не то чтобы грели надежды, тем более намерения преуспевать в колледже больше, чем в Киприане. Но все-таки я вырвался! В колледже, как мне было известно, будет больше уединения, больше безразличия ко мне, больше шансов лентяйничать и потакать своим уродским слабостям. Много лет (сначала бессознательно, потом прицельно) я вынашивал план – если выиграю стипендию, то покончу со всякой зубрежкой-долбежкой. План этот, надо заметить, был полностью реализован: ближайшие лет десять я в своих трудах вряд ли лишний раз пальцем шевельнул.
Флип пожала мне руку на прощанье. Ради такого случая даже назвала меня по имени. Однако и лицо ее, и голос выражали снисходительность, почти насмешку. Тон, которым она произнесла «всего хорошего!», напоминал издевки по поводу крошек-бабочек. Я выиграл две стипендии[18 - В 1916 году Оруэлл одновременно выиграл стипендии в Веллингтоне и в Итоне. Правда, сразу вакансии для стипендиата в Итоне не оказалось, и сначала Оруэлл пару месяцев проучился в колледже Веллингтон, куда и направляется выпускник школы в его воспоминаниях.], но клеймо неудачника осталось при мне, поскольку измеряется успех не тем, что делаешь, а кем являешься. Я был мальчиком «не из лучших», не укреплял репутацию аристократичного воспитания в Киприане. Ни характера, ни отваги, ни здоровья, ни мускулов, ни денег, ни даже хороших манер, достаточных, чтобы выглядеть джентльменом.
– Всего хорошего! – прощально улыбнулась Флип, но я прочел в ее улыбке: «Не стоит напоследок ссориться. Не очень ты блистал у нас, не так ли? И не уверена, что ты произведешь наилучшее впечатление в колледже. Увы, мы ошиблись, потратив время и деньги на тебя. Наша система воспитания, видимо, не предназначена для мальчиков с твоим положением и твоей внешностью. О, ты не думай, что тебя здесь не поняли! Все мы знаем о том, что ты прячешь в голове; знаем, что нет у тебя доверия к вещам, которым здесь тебя учили, нет в тебе благодарности за всё, что здесь для тебя сделали. Но зачем сейчас говорить об этом? Отныне нам за тебя не отвечать, и мы с тобой уже не увидимся. Давай просто призна?ем нашу общую неудачу и расстанемся без неприязни. Итак, всего хорошего!»
Вот что я прочитал в улыбке Флип. Но как же я был счастлив тем зимним утром, когда сидел в поезде, на шее новенький шелковый галстук (в черно-зелено-голубую полоску, если правильно помнится), и поезд уносил меня прочь! Мир открывался оконцем лазурного просвета в сером небе. Колледж будет повеселее Киприана, хотя, в сущности, столь же чуждым. Там, где на первом плане деньги, спорт, титулованная родня, одежда на заказ, приглаженные щеткой волосы и обаятельные улыбки, успех мне не светит. Всё, что я получу, это передышка. Немного покоя, немного баловства, немного отдыха от опостылевшей зубрежки, а затем крах. Какая погибель ждет, неведомо: может, колонии или конторский табурет, а может, тюрьма или досрочная кончина. Но на пару лет будет, наверное, возможность поплевать в потолок, пожить неподсудным грешником, как доктор Фауст. Я твердо верил в свой злой рок, и вместе с тем сердце пело от счастья. Преимущество подростка – способность жить данным моментом, вполне предвидя будущее и не заботясь о нем. На следующий семестр я собирался в Веллингтон. Стипендию Итона я тоже выиграл, но неясно было, когда там откроется вакансия, так что я решил поучиться пока в Веллингтоне. А в Итоне – своя комната; даже, может, с камином. А в Веллингтоне тебе отгорожена личная спальня в общежитии – можно вечерком сварить себе какао. Отдельность, совсем по-взрослому! И сколько хочешь просиживай в читальнях, и летним днем запросто увильнуть от спортплощадки, и шляйся по сельским холмам один, без надзирателя и кучи сотоварищей. И впереди каникулы. И купленное на прошлых каникулах ружье (марка «Кракшот», цена двадцать два шиллинга, шесть пенсов), и Рождество на следующей неделе. И блаженство обжорства. Уж очень соблазнительны были двухпенсовые кремовые булочки в бакалее возле нашего дома (шел 1916-й, продовольственные нормы еще не ввели). И даже такая мелочь, как по ошибке выданный мне в сумме на дорожные расходы лишний шиллинг – нежданная удача в пути угоститься чашкой кофе с парой пирожных, – даже такая ерунда наполняла восторгом. Кусочек счастья перед надвигающимся будущим. Мрачным будущим, как мне мысленно представлялось. Провал за провалом, неудача вчера и неудача завтра – это было моим глубочайшим, крепчайшим убеждением.
6
Всё это было тридцать лет назад и даже больше. Вопрос: а нынешний ребенок в школе, через какие испытания проходит он?
Единственный честный ответ, по-моему, – сказать, что точно мы не знаем. Конечно, нынешнее отношение к образованию гораздо более гуманно и разумно, чем в прежние времена. Снобизм, так густо наполнявший мое воспитание, сегодня практически мертв, так как исторически вымерло лелеявшее его общество. Вспоминается разговор, состоявшийся незадолго до моего прощания с Киприаном. Высокий белокурый русский мальчик чуть постарше меня спросил:
– Сколько твой отец имеет в год?
Прибавив к известной мне цифре несколько сотен для солидности, я ответил. Склонный к изысканной четкости русский мальчик достал блокнотик, карандаш и произвел вычисление.
– У моего отца доход в двести раз больше! – объявил он с каким-то радостно-улыбчивым презрением.
Диалог происходил в 1915 году. Интересно, что случилось с этим капиталом года через два? Еще интереснее: ведутся ли подобные беседы в сегодняшних школах?
Ясно, что налицо огромные перемены во взглядах, очевидный рост «просвещения» затронул даже рядовых, не склонных умничать людей среднего класса. Религиозная вера, например, в значительной степени испарилась, сменившись другой чушью мистического толка. Сегодня, думаю, мало кто станет рассказывать детям, что ребенок, который мастурбирует, непременно окончит дни в палате сумасшедшего дома. Порки тоже скомпрометированы и во многих школах отменены. Недокармливать учеников уже не считается обычным и даже похвальным методом воспитания. Никто уже открыто не задается целью сократить порции ребят до минимума или внушать им, что ради здоровья надо вставать из-за стола таким же голодным, как садился. В целом положение детей улучшилось (отчасти оттого, что сильно уменьшилось их количество). С распространением некоторых знаний по психологии учителям и родителям уже труднее предаваться комфортной слепоте во имя дисциплины. Вот произошедший в наше время случай, свидетелем которого я не был, но известный мне от людей надежных. Девочка, дочь священника, продолжала орошать свою постель в возрасте, когда такие действия уже не подобают. В виде наказания отец привел грешницу на праздничное гулянье в саду и там, выставив дочь на обозрение перед большой компанией, огласил состав страшного преступления, причем для обозначения греховности личико девочки заранее было вымазано черной краской. Не думаю, что Флип и Самбо способны сделать что-то вроде этого, но сомневаюсь, что сюжет уж очень бы их удивил. Времена, конечно, меняются. И всё же…
Вопрос не в том, что мальчикам по воскресеньям еще велят пристегивать бутафорские воротники или рассказывают, что младенцев находят под крыжовенным кустом. Такого рода вещи, надо признать, исчезают. Вопрос в том, сохраняется ли в школах ситуация, вынуждающая детей годами жить среди иррациональных страхов и бредовых нелепостей. Но невероятно трудно узнать, что на самом деле думает и чувствует ребенок. Ребенок, на вид столь счастливый, в действительности, может быть, страдает от ужасов, которые он не умеет или не хочет открыть. Живет он в таком чужестранном подводном мире, куда мы способны проникнуть лишь памятью или гаданием. Наш главный ключ здесь то, что сами мы были детьми, хотя многие напрочь всё забывают о собственном детстве. Ну сколько ненужных страданий приносят родители, отправляя детей в школу одетыми несоответственно шаблону и отказываясь видеть, сколь это важно! Ребенок порой не вымолвит ни словечка протеста, он ведь вообще большей частью таится. Опаска открывать истинные свои чувства у него переходит просто на инстинктивный уровень. Даже привязанность к ребенку, желание его защищать и лелеять часто становится причиной непонимания. Ребенка, вероятно, любить можно, как вряд ли кого из взрослых, но опрометчиво предполагать, что дитя непременно отвечает взаимностью. Оглянувшись на собственное детство, не помню, чтобы малышом я чувствовал любовь к какому-либо человеку зрелого возраста, за исключением мамы, и даже ей я не доверял в том смысле, что застенчивость принуждала прятать большинство глубоких переживаний. Спонтанная и безусловная эмоция любви вскипала у меня лишь к юным существам. К старым (а «старый» для ребенка – это человек за тридцать, если не за двадцать пять) я испытывал почтение, благоговение, восхищение, печаль от угрызений совести, но был, казалось, отрезан от них стеной страха и робости пополам с физическим отвращением. Люди слишком склонны забывать детские впечатления от взрослых. Огромные взрослые, их жесткие бугристые тела, морщинистая кожа, дряблые обвисшие веки, желтые зубы и веющий при каждом движении душок несвежей одежды, пива, пота и табака! Отчасти взрослые видятся детям чудищами, потому что ребенок смотрит снизу, а это очень неудачный ракурс для созерцания даже самых милых лиц. Кроме того, имея образцом свою новехонькую свежесть, ребенок чрезвычайно взыскателен насчет кожи и зубов. Но самый большой барьер для ребенка – неверное представление о возрасте. Полагая запредельной жизнь после тридцати, дети делают фантастические ошибки: двадцатилетний им видится сорокалетним, сорокалетний – семидесятилетним и т.?д. Когда я влюбился в Элси, мне она увиделась взрослой. Снова я ее встретил, когда мне было тринадцать, а ей года двадцать три, и она мне показалась отцветшей дамой средних лет. Старость воспринимается детьми почти непристойным бедствием, которое с ними, с детьми, непонятным образом никогда не случится. Перешагнувшие за тридцать в глазах ребенка – это безрадостные гротески, существа, которые хлопочут о всякой ерунде, которым жить уже недолго, да, собственно, и незачем. Только у ребенка – подлинная, стоящая жизнь. Школьный учитель, воображающий, что дети его любят, ему доверяют, на самом деле объект, вдохновляющий потешаться и передразнивать. Взрослый, который не представляется опасным, ребятам почти всегда кажется смешным.
Я делаю обобщения, вспоминая свой личный детский опыт. И хотя память – штука коварная, нет у нас лучшего способа исследовать работу детского сознания. Только собственной памятью можно понять, какой странной картиной мир отражается в глазах ребенка. Что бы я увидел, окажись я сегодняшний в моей школе 1915 года? Какими бы мне показались Флип и Самбо, ужасные всесильные монстры? Передо мной стояла бы парочка глуповатых, пустоватых и бестолковых снобов, которые, задыхаясь от энтузиазма, карабкались по лестнице, чей угрожающий треск уже слышен был всякому человеку с мозгами. Испугали бы они меня не больше лесной белки. Между прочим, они виделись мне весьма престарелыми типами, хотя были, пожалуй, моложе, чем я теперь. А появись вдруг передо мной Джонни Хейл с его кулачищами и глумливой румяной физиономией? Просто нагловатый паренек из сотен подобных нагловатых пареньков. Два совершенно разных взгляда на некое реальное явление сосуществуют в моем сознании. Попытку посмотреть глазами другого ребенка и вовсе не осилишь, разве что воображением, способным унести невесть куда. Ребенок и взрослый живут в разных мирах. А если это так, то как мы можем быть уверены, что нынешняя школа не повторяет и сейчас для многих детей прежний страшный опыт? Сданы в утиль молитвенник, латынь, плетки, классовые и сексуальные табу, но страх, ненависть, снобизм, непонимание, возможно, на прежних местах. Личной моей главной бедой было отсутствие чувства соразмерности и сообразности – поэтому я мог соглашаться с бесчинствами, верить нелепостям, страшно мучиться из-за вещей, вообще не стоивших внимания. И не стоит отмахиваться, говорить, что, мол, был «дурачком» и надо бы «получше разбираться». Оглянитесь на собственное детство и вспомните, в какую чепуху верили, из-за каких глупостей страдали. Конечно, у меня был персональный вариант, но, в сущности, то же, что у множества других мальчиков. Уязвимость ребенка – он начинает с чистого листа. Не понимает и не оспаривает общество, в котором пришлось жить, и его, доверчивого и податливого, заражают чувством неполноценности, давят боязнью неисполнения страшных таинственных законов. Очень может быть, что происходившее со мной в Киприане повторится (пусть и в иной, более тонкой форме) и с кем-нибудь из сегодняшней «просвещенной» школы. В одном, однако, я твердо уверен: закрытые школы-пансионы хуже обычных, где ребенок каждый день после уроков возвращается домой. Родной очаг должен быть рядом; это делает ребенка счастливее. Думаю, известные недостатки английских представителей высшего и среднего класса во многом связаны с основной до недавнего времени практикой отправлять детей воспитываться вдали от дома.
Покинув Киприан, я никогда уже туда не возвращался. Встречи выпускников, вечеринки однокашников вызывают во мне более чем холодную реакцию. Итон, где я был относительно счастлив, я тоже никогда потом не навещал. Один раз, в 1933-м, довелось проехать мимо его стен; я тогда с интересом отметил, что ничего не изменилось, только в магазинных витринах появились радиоприемники. Что касается Киприана – много лет я даже от названия школы содрогался, и невозможно было сколько-нибудь здраво поразмыслить, что же происходило там со мной. Только в последние десять лет я стал всерьез думать об этом, хотя память-то о школе всегда была во мне, жгла меня постоянно. Сейчас, я полагаю, меня бы мало впечатлило посещение этого места (если есть еще что посещать: несколько лет назад донесся слух про бушевавший там пожар). Случись мне проезжать через Истборн, я бы не стал делать крюк в объезд школьного ландшафта. Может, даже притормозил бы у школьных построек, остановился бы на секунду у низкой кирпичной стенки, взглянул бы на торчащее за футбольным полем безобразное здание с асфальтовой площадкой перед входом. А если бы вошел внутрь, вновь дохнуло бы чернилами и пылью классной комнаты, церковным запахом канифоли, затхлой сырью бассейна, вонючим холодком из уборных. Почувствовал бы, наверно, то же, что обычно чувствуют люди при подобных визитах: как мало всё изменилось и как я сам поизносился. В реальности, однако, меня туда отнюдь не тянет. Без крайней необходимости в Истборне я не появлюсь. У меня даже возникло предубеждение против графства Сассекс, на землях которого возвели школу Св. Киприана, и взрослым я в Сассексе был лишь раз и ненадолго. Теперь, впрочем, ненавистное место не имеет ко мне отношения. Чары его уже не действуют, у меня даже не хватает злости тешиться надеждой, что Флип и Самбо ушли в мир иной, а школа действительно сгорела.
Май 1947 г. (опубликовано – 1952 г.)
Фунты лиха в Париже и Лондоне
О, злейший яд, докучливая бедность!
Джеффри Чосер
1
Париж, улица дю Кокдор, семь утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей – хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс, вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны.
Мадам Монс: «Sacrеe Salope![19 - Чертова шлюха! (фр.)] Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях? Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? Esp?ce de tra?nеe![20 - Ну и потаскуха! (фр.)]» Квартирантка с четвертого этажа: «Va donc, eh! Vielle vache!»[21 - Да заткнись, сволочь старая! (фр.)]
Следом под стук откинутых оконных рам со всех сторон – разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут десять спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов.
Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы дю Кокдор. Не то что ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без таких взрывов. Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива лоточников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков.
Улица очень узкая – ущелье в скалах громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные «бистро», где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин; арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее, среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы: прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по тихим норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба.
Моя гостиница называлась «Отелем де Труа Муано» («Трех воробьев»). Ветхий, мрачный пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнатушек. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., нашей patronne[22 - Хозяйка. (фр.)], подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и, отклеиваясь, давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь – и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в своем номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут негигиенично, зато, благодаря славному нраву мадам Ф. и ее супруга, уютно. Стоило житье от тридцати до полусотни франков в неделю.
Состав народонаселения – переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было: сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С шести утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготовляя дюжину пар и зарабатывая этим тридцать пять франков, остальную часть дня слушал профессоров в Сорбонне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанном обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшим себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по шестнадцать часов в сутки штопала: носок за двадцать пять сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам – служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери.
Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы – сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же, как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неописуемым чудачеством.
Скажем, чета Ружиер. Парочка старых, лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом – как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно; жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, Ружиеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги Ружиеры ни разу за четыре года не раздевались.
Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтичного рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие – молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью, пару недель они прожили вместе, растратив тысячу из кубышки Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего; размолвка была забыта, молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через две недели ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, – ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у него мозги.
Или вот англичанин Р., полгода живший с родителями в Патни, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил, каждодневно выпивая четыре литра вина, по субботам – шесть литров; однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Р. никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тоненьким деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня, Р. был единственным в квартале англичанином.
Хватало и других, не менее причудливых персон: месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший; лимузенский каменотес Фуре; скряга Руколь, умерший, правда, до моего приезда; Лоран, старик тряпичник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий. Однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они – часть темы. А тема моего рассказа – бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось.
2
Жизнь нашего квартала. Ну хотя бы наше бистро при входе в «Отель де Труа Муано». Крохотный полуподвальчик, кирпичный пол, мокрые от вина столики, фотография похорон с надписью «Crеdit est mort»[23 - Кредит скончался. (фр.)], красные головные платки рабочих, отхватывающих ломти колбасы складными тесаками, пышущее здоровьем лицо мадам Ф., ослепительной крестьянки из Оверни, то и дело глотающей рюмочки малаги «для желудка», перестук костяшек в играх на аперитив и песни про «Les Fraises et les Framboises»[24 - Землянички и малинки. (фр.)], про Мадлен, озадаченную «Comment еpouser un soldat, moi qui aime tout le rеgiment?»[25 - Как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк? (фр.)], и чрезвычайно откровенная демонстрация нежных чувств. Чуть ли не вся гостиница сходилась вечерами в нашем бистро; думаю, трудновато найти лондонский паб, где бы хоть в четверть так веселились.
Речи порой звучали странные. Как пример приведу монолог малыша Шарля, одного из местных чудаков.
Чтобы представить этого высокообразованного отпрыска благородного семейства, который, сбежав от родных, ныне существовал на получаемые изредка денежные переводы, вообразите пупсика с тугими розовыми щечками, шелком каштановых волос и вишенками ярко-красных влажных губ. Ножки у него малюсенькие, ручки неправдоподобно коротки, на пальцах младенческие ямочки; говорит, пританцовывая, как бы не в силах обуздать шаловливую резвость. И вот три часа дня, и в бистро никого, кроме мадам Ф. да парочки безработных, но перед кем выступать, Шарлю всё равно, ведь есть возможность поразглагольствовать о собственной персоне. Витийствует, подобно оратору на баррикаде, звучно модулируя фразы и патетично взмахивая руками. Поросячьи глазки возбужденно блестят, смотреть на него – слегка муторно.
Любимый сюжет рассуждений Шарля – любовь.
«Ah, l’amour, l’amour! Аh, que les femmes m’ont tuе![26 - Ах, любовь, любовь! Ах, это женщины меня сгубили! (фр.)]
Да, messieurs et dames[27 - Дамы и господа. (фр.)], женщины меня сгубили, сгубили окончательно и безнадежно. В двадцать два года изнурен, истощен до капли… Но какие тайны открылись мне, в какие бездны я заглянул! Это ли не триумф – обрести высочайшую мудрость, постичь сокровенный смысл бытия, бытия человека поистине raffinе, vicieux[28 - Утонченного, порочного. (фр.)]…
…Messieurs et dames, вам грустно, о, конечно. Ah, mais la vie est belle[29 - Но жизнь прекрасна. (фр.)] – я умоляю вас, оставьте грусть и устремитесь к радости!
Наполним же кубки самосским вином,
Забудем о наших печалях!
Ах, как прекрасна жизнь! Слушайте, дамы и господа! Я, столь многое познавший, раскрою, объясню вам сущность любви. Я покажу вам, что? есть подлинная любовь, подлинная утонченность любовной страсти, высшее из наслаждений, доступное лишь посвященным. Я расскажу вам о счастливейшем дне моей жизни. Увы, минули времена, когда я упивался таким блаженством. Оно навек покинуло меня – и чувство, и даже желание его канули безвозвратно.
Слушайте же, господа. Это случилось два года тому назад; мой брат – он, кстати, адвокат – наведался в Париж, имея от семьи поручение разыскать меня и пригласить на ужин. Мы с братом ненавидели друг друга, но всегда соблюдали должное почтение к воле родителей. И мы отправились в ресторан, где после третьей бутылки бордо братец изрядно захмелел. Доставив его к нему в отель и купив по дороге бренди, я заставил единоутробного выпить целый стакан – уговорил, что это замечательно трезвит. Он выпил, тотчас рухнув словно бездыханный, мертвецки пьяный. Я подхватил тело, оттащил, привалил спиной к кровати, затем исследовал карманы. Тысяча сто франков! Оставалось поторопиться вниз, схватить такси и умчаться. Адреса моего братец не знал – безопасность гарантировалась.
Куда идет мужчина с тугим бумажником? Естественно, в бордель. Вы не предполагаете, конечно, что меня соблазнял какой-нибудь пошлый разврат, услада чумазых рыл? Перед вами, черт возьми, не дикарь! С тысячей франков, как вы понимаете, можно дать волю прихотям самым утонченным. Только в полночь нашлось наконец нечто подходящее. Вдали от бульваров я свел знакомство с очень изысканным юношей лет восемнадцати – смокинг, стрижка a l’amеricaine[30 - Под американца. (фр.)], – мы разговорились в тихом бистро, обнаружили сходство вкусов, поболтали о том о сем, о способах развлечься. Вскоре взяли автомобиль и поехали.
Такси остановилось на узкой безлюдной улочке. Мерцало пятно единственного фонаря, на выщербленной мостовой чернели лужи, по одной стороне тянулась глухая монастырская стена. Мой гид подвел меня к высокой развалюхе с темными окнами и постучал. Послышались шаги, задвижка лязгнула, дверь приоткрылась. Вылезла рука – огромная кривая лапа с жадно загнутой прямо перед нашими лицами ладонью.
Гид мой, поставив ногу в дверную щель, спросил: “Сколько?” “Тысячу, – прохрипел женский голос. – Деньги вперед, иначе ходу нет”.
Я вложил тысячу франков в хищную лапу, а остальные сто отдал милому юноше, который пожелал мне приятной ночи и удалился. Слышно было, как за дверью бормочут, считая купюры, затем тощая старая ворона, вся в черном, высунув нос, долго и подозрительно меня разглядывала, прежде чем впустить. Внутри темно, не видно ничего, кроме трепещущего газового огонька, ярким отсветом на стене только сгущавшего окружающий мрак. Пахло пылью и крысами. Старуха, молча запалив свечку от рожка, так же молча заковыляла впереди по каменному коридору к лестнице.
“Voil?![31 - Ну вот! (фр.)] – проговорила она. – Спускайтесь в подвал и делайте что хотите. Ничего не увижу, не услышу и ничего не буду знать. У вас свобода, ясно? Полная свобода”.
Ах, господа, надо ли описывать – forcement[32 - Неизбежно. (фр.)], вы и сами это изведали – эту дрожь ужаса и восторга, пронзающую человека в подобные мгновения? Ощупью я стал пробираться вниз; тихо, ни звука, только шелест собственного дыхания и шорох своих шагов. На нижней лестничной площадке под рукой обнаружился электрический выключатель. Я нажал кнопку, и массивная гроздь из дюжины стеклянных красных шаров залила весь подвал багровым светом. И не подвал предстал передо мной, а спальня – огромная, вызывающе роскошная спальня, полная до краев оттенками багрянца. Вообразите только, messieurs et dames! Красный ковер на полу, красные обои, красный плюш кресел и даже потолок красный – везде горящее, бьющее в глаза красное. Душное красное, будто светящееся сквозь хрустальные чаши крови. В глубине помещения гигантская квадратная кровать с красным, как и всё остальное, покрывалом; на постели – девица в красном бархатном платье. При виде меня она сжалась, попытавшись закрыть коротенькой юбкой колени.
Я замер в дверях. Позвал: “Иди же ко мне, цыпочка”.
Она испуганно захныкала. Тогда одним прыжком я на кровати; девица вертелась, отворачивалась, но я схватил ее за горло – вот так, накрепко! Она билась и молила о пощаде, но я не ослаблял железной хватки, упорно запрокидывая ей голову и неотрывно глядя в глаза. На вид ей было лет двадцать; широкое коровье лицо – напудрено и нарумянено, но всё еще лицо глупой девчонки, и в глупых голубых глазенках вместе с бликами красной люстры бился тот сумасшедший страх, узреть который нам дано только во взглядах подобных женских существ. Несомненно, какая-то крестьянка, проданная родителями в рабство.
Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол. И набросился на нее, как тигр! Ах, восторг, несравненные радости былого! Вот, messieurs et dames, что я взялся вам изъяснить, – voil? l’amoure! Вот любовь подлинная, вот единственно достойный объект стремлений, вот то, рядом с чем все ваши искусства, идеалы, взгляды, теории, благородные позы, возвышенные речи – бесцветны и бесплотны, словно пепел. Какое из земных сокровищ окажется для человека, познавшего любовь – истинную любовь, – выше хотя бы тени, призрака этого восторга?
Снова и снова повторял я свои всё более свирепые атаки, опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот. “Пощадить? – рассмеялся я. – По-твоему, я здесь для этого? За это, по-твоему, брошена тысяча франков?” И клянусь, господа, если бы не цепи проклятого закона, я бы ее тогда угробил.
Ах, как она кричала, с какой отчаянной, горчайшей мукой! Но никто не услышал – под парижскими мостовыми мы были скрыты, подобно фараонам в их пирамидах. Слезы ручьем текли по девичьим щекам, размывая пудру длинными грязными канавками. О, золотые дни! Вам, messieurs et dames, вам, не изощрившим любовный пыл, трудно и почти невозможно оценить сладость моего наслаждения. Да и сам я, простившись с юностью, – о, моя юность! – никогда уже не смогу вкусить жизни столь восхитительной. Кончено!
Да, всё в прошлом – в невозвратном прошлом. Ах, скудость, краткость, тщетность человеческой радости! Ибо на самом деле – car en rеalitе – сколько же длится высочайшее воспарение любви? Нисколько: миг, мгновение, секунду. Cекунда блаженного экстаза, вслед за которой – прах и пустота.
Итак, всего на миг я взмыл к вершине счастья, затрепетал чувством острейшим и тончайшим из всех возможных… И тут же мгновение пронеслось, а я, покинутый, остался – но зачем? Вся моя страсть, моя свирепость вдруг исчезли, осыпались сухими лепестками увядшей розы. А я остался: безразличный, истомленный, полный напрасных сожалений; в этой внезапной перемене чувств я испытал даже некую жалость к хнычущей на полу девице. Не гнусно ли, что нас подстерегают ловушки столь пошлых эмоций? На девчонку я больше не взглянул; единственным желанием было скорей убраться. Поспешив вверх по ступеням, я выбежал из дома. Тьма и жуткий холод, камни булыжника вторили стуку моих каблуков глухим пустынным звоном. Деньги все разлетелись, не нашлось даже мелочи на такси, и я пешком добирался обратно, в свою холодную одинокую келью.
Вот, messieurs et dames, то, о чем обещал я вам поведать. О сущности Любви. О лучшем, счастливейшем дне моей жизни».
Специфическим экземпляром был этот малыш Шарль. Описываю я его исключительно ради иллюстрации пестроты нравов, расцветавших на почве квартала Кокдор.
3
Мое житье-бытье на улице Кокдор длилось примерно года полтора. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких четырех с половиной сотен и не имеющим сверх того ничего, кроме тридцати шести франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом – очень мудро, как оказалось, – авансом отдал двести франков в счет оплаты своего номера еще на месяц. Оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц, в течение которого место наверное бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар.
В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек – цеховой знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных – никак не позволяли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще, вор не вытряхнул всё из карманов; я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался – с капиталом в сорок семь франков (семь шиллингов десять пенсов).
Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на шесть франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности, ибо шесть франков в день – если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. Шесть франков – шиллинг, с этой малостью знающий человек в Париже держится. Но дело хитрое.
Вообще, интересно: первые собственные ощущения бедняка. Предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, столько раз представлял, – а в реальности всё неожиданно. Думалось: простота; нет – поразительные сложности. Думалось: кошмар; нет – унылая серая скука. И та особая, чисто бедняцкая жалкость, которую для себя открываешь, поневоле учась всяческим мизерным уловкам, крохоборству.
Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты – потаенность. Внезапно сброшенный на уровень шести франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься притворяться, что всё по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающим. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос поймавшей тебя у подъезда прачки невразумительно бормочешь, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня – твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, отчего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком до?роги марки. И потом стол – пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком, в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином, причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб – по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик – соответственно, нехватка пищи на шестьдесят сантимов. Белье становится ужасным, кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться; результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера – ложь, и дается она недешево.
Выясняется крайняя ненадежность шести франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние восемьдесят сантимов на кружку молока, кипятишь его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем – хоп! – насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать: молоко выплескиваешь, сидишь голодным.
Идешь в булочную купить фунт хлеба, ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше: «Pardon, mоnsieur, – щебечет она, – не возражаете побольше на два су?» Хлеб – по франку за фунт, в кармане – ровно франк. Представив, что и тебе вдруг предложат доплатить два су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда за хлебом.
Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской, и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки – с тем, чтобы уже никогда там не появляться.
Забредаешь в респектабельный квартал, видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. В кафе, однако, надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарят тебе чашечку кофе… с плавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий – бесконечна, являясь частью берущей за горло нужды.
Открываешь, что такое – быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде – еда, гигантские, оскорбительно расточительные груды: свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу, до того как поймают; не решаешься исключительно из трусости.
Открываешь неотделимую от бедности хандру; тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты, вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским «jeune squelette»[33 - «Молодым скелетом» (фр.). Из стихотворения Ш.Бодлера «Веселый мертвец».]; возродить «кости, изнывшие от пыток» могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями.
Вот она – описывать ее можно и дальше, но суть та же, – жизнь на шесть франков в день. И многие в Париже так существуют: упорные художники и студенты, проститутки в полосе невезения, всяческий безработный люд. Жители целого своего округа, предместья нищих.
Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. Сорок семь франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те тридцать шесть в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей: украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу Монтань Сен-Женивьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «Merde![34 - Буквально – «дерьмо!» (фр.); популярное ругательство в значении «черт!», «черт бы побрал!».] – кричал он. – Опять явился? Тебе что тут? Бесплатный суп?». Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоившую мне двадцать пять шиллингов, почти не ношеную, бросил пять франков, пять дал за прекрасные ботинки, за рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два белых бильярдных шарика и мигом вытолкал, не дав опомниться. Приятно было бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману.
Трехнедельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение: надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравновешивает много других. Узнаёшь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности – будущее исчезает. В определенном смысле, действительно, чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие; единственные три франка не нарушают общей апатии: сегодня три франка тебя прокормят, а завтра – это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь: «Через пару дней придется просто голодать – кошмар ведь?» И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы.
И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал, почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты наконец на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, – ну вот и докатился; и ничего, стои?шь. Это прибавляет мужества.
4
Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне двенадцать франков. Я оказался с тридцатью сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии, ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой – вместо того, чтобы вытащить вещи тайком (популярнейшим трюком нашего квартала было «дернуть по-тихому»).