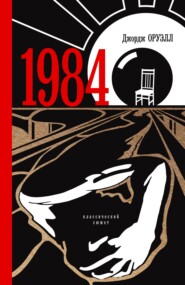скачать книгу бесплатно
Война – это мир
Свобода – это рабство
Незнание – сила
Он вытащил из кармана монетку в двадцать пять центов. И на ней тоже выгравированы крошечными четкими буквами эти же лозунги, а на другой стороне – голова Большого Брата. Даже с монеты тебя преследует его взгляд. С монет, с марок, с обложек, с флагов, с плакатов, с упаковки от пачки сигарет – отовсюду. Его глаза все время следят за тобой, а его голос звучит в твоих ушах. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или ешь, находишься в помещении или на улице, в ванной или в постели – тебе не спрятаться. У тебя нет ничего твоего, за исключением нескольких кубических сантиметров в черепе.
Солнце закатилось, и свет его больше не играл на мириадах окон в здании Министерства правды, которые теперь выглядели угрюмо, как бойницы крепости. При виде огромной пирамиды у него сжалось сердце. Она слишком крепка, и штурмом ее не взять. Ее не уничтожить и тысячей ракет. Он снова задал себе вопрос, для кого он пишет дневник. Для будущего, для прошлого – для времени, которое он даже не может представить. Его ожидает не просто смерть, а уничтожение. Дневник сожгут дотла, а его самого распылят. Только полиция мыслей прочитает то, что он написал, прежде чем стереть его из жизни и из памяти. Как тогда обратиться к будущему, если не останется и следа от тебя, не останется даже безымянного слова, начертанного на кусочке бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать. Через десять минут он должен уйти. В четырнадцать тридцать ему нужно снова быть на работе.
Странно, но бой часов будто опять вдохнул в него мужество. Он одинокий призрак, говорящий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он говорит ее, непонятно почему, но мир не обрушится. И пусть тебя не услышат, главное, что ты сохраняешь разум и хранишь наследие человечества. Он вернулся к столу, обмакнул в чернила перо и написал:
Будущему или прошлому, тому времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, тому времени, когда правда существует и прошлое не превращается в небытие. От эпохи униформы, от эпохи одиночества, от эпохи Большого Брата, от эпохи двоемыслия – привет!
Он подумал, что уже мертв. Ему казалось, что только сейчас, начав формулировать свои мысли, он сделал решительный шаг. Последствия каждого поступка – составная часть самого поступка. Он написал:
Мыслепреступление не ведет к смерти: мыслепреступление ЕСТЬ смерть.
Сейчас, когда он понял, что он мертв, ему стало важно оставаться живым как можно дольше. Он испачкал два пальца чернилами. Именно такие мелочи могут выдать тебя. Какой-нибудь рьяный фанатик с длинным носом в Министерстве (скорее всего женщина: например, маленькая рыжеволосая или черноволосая из Департамента художественной литературы) может вдруг заинтересоваться, почему он писал во время обеденного перерыва, почему он использовал для этого старомодную перьевую ручку, ЧТО он писал, а затем намекнет кому следует. Он пошел в ванную и тщательно смыл чернила с помощью зернистого темно-коричневого мыла, которое скребло по коже, будто наждачная бумага, а значит, подходило для этой цели.
Он убрал дневник в ящик стола. Глупо было прятать его, но надо хотя бы знать, известно им о существовании дневника или нет. Волос, положенный поперек обреза уж слишком заметен. Кончиком пальца он взял крупинку беловатой пыли и поместил ее на уголок обложки: она упадет, если книгу возьмут.
Глава 3
Уинстону снилась мать.
Он подумал, что ему, наверное, исполнилось лет десять-одиннадцать, когда его мать исчезла. Она была высокой, статной, довольно молчаливой женщиной, медлительной в движениях, с роскошными светлыми волосами. Его отец, которого он смутно помнил как темноволосого и худого мужчину, всегда носил строгую черную одежду (Уинстону почему-то больше всего запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и очки. Оба они, видимо, попали под одну из великих чисток пятидесятых.
Сейчас, во сне, его мать сидела где-то в глубине, под ним, и держала на руках младшую сестру. Он вообще ничего не помнил о сестре, кроме того, что она была крохотной, слабой малышкой, – тихой, с большими, внимательными глазами. Они обе смотрели на него снизу, откуда-то из-под земли – быть может, со дна колодца или из глубокой могилы, – из какого-то места, расположенного значительно ниже, чем находился он, причем оно опускалось все глубже и глубже. Они находились в каюте тонущего корабля и глядели на него через темнеющую толщу воды. В каюте все еще был воздух, а потому они продолжали смотреть на него, а он на них, но судно уходило все ниже в зеленую воду, и они должны были вот-вот навсегда скрыться из виду. Он снаружи – на свету и на воздухе, – в то время как они движутся навстречу смерти; и они там, внизу, потому что он здесь, наверху. Он знал это, и они знали, он видел это по их лицам. Никакого упрека не было ни на их лицах, ни в их сердцах, только понимание: они должны умереть, чтобы он остался в живых – это часть неизбежного порядка вещей.
Он не мог вспомнить, что произошло, но во сне откуда-то знал, что жизни его матери и сестренки принесены в жертву ради его жизни. Это был один из тех снов, когда в рамках характерного для сновидения окружения продолжается работа мысли, когда спящий начинает понимать факты и идеи, которые кажутся новыми и важными даже после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери, случившаяся почти тридцать лет назад, была трагедией и горем такого рода, какие сейчас уже невозможны. Он мыслил трагедию принадлежностью древних времен, когда еще существовали личная жизнь, любовь и дружба, когда члены семьи стояли друг за друга горой, не думая почему. Воспоминания о матери надрывали ему сердце, потому что она умерла с любовью к нему, а он был слишком молод и эгоистичен, чтобы дарить ей ответную любовь. А еще потому (хотя он не помнил, как именно), что она принесла себя в жертву идее верности, которая была личной и непреложной. Он понимал, что такое сейчас невозможно. Сегодня кругом страх, ненависть и боль, но нет ни достоинства чувств, ни глубокого и всеобъемлющего горя. Ему казалось, что он все это видит в огромных глазах матери и сестры, глядящих на него из толщи зеленой воды, куда они обе все еще продолжали погружаться.
Вдруг его ступни коснулись короткой пружинящей травы; стоял летний вечер, когда косые лучи солнца золотят землю. Он так часто видел этот пейзаж во снах, что никогда не мог точно решить, бывал ли он здесь когда-нибудь наяву. Мысленно Уинстон называл место Золотой страной. Это было старое, изрядно пощипанное кроликами пастбище, через которое вилась тропинка и где повсюду виднелись кротовые кочки. На дальнем конце поля ветерок легонько шуршал ветвями вязов, образующих неровную живую изгородь, а шапочки листьев качались в ответ, словно женские прически. Где-то совсем рядом лениво катился скрытый от глаз ручей, в заводях которого под нависшими ивами шныряла плотва.
Девушка с темными волосами шла к нему через поле. Она одним движением сорвала с себя одежду и с презрением отбросила ее прочь. У нее было белое гладкое тело, но оно не вызвало в нем желания, более того, он и не смотрел на него. А вот что восхитило его, так это тот жест, которым она отшвырнула одежду. Ее грация и небрежность, казалось, уничтожили всю культуру, всю систему понятий, будто и Большой Брат, и Партия, и полиция мыслей были сметены в небытие одним великолепным движением руки. И этот жест тоже принадлежал древним временам. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.
Телеэкран издавал оглушительный свист, длящийся на одной и то же ноте тридцать секунд. 07:15 – время подъема для офисных работников. Уинстон с трудом вылез из постели – голый, поскольку член Внешней партии получал ежегодно лишь три тысячи купонов на одежду, а пижама стоила шестьсот. Он поспешно схватил выцветшую майку и шорты, лежащие на стуле. Через три минуты начиналась зарядка. Но буквально через секунду он согнулся пополам в страшном приступе кашля, который почти всегда случался с ним сразу после пробуждения. Он так сильно опустошал легкие, что Уинстон мог восстановить дыхание, только лежа на спине и делая глубокие вдохи. От напряжения вены надулись и варикозная язва начала чесаться.
– Группа от тридцати до сорока! – громко пролаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Пожалуйста, займите исходное положение. От тридцати до сорока!
Уинстон встал по стойке «смирно» перед телеэкраном, где уже появилось изображение моложавой женщины – худощавой, но мускулистой, одетой в тунику и гимнастические туфли.
– Сгибаем руки и тянемся! – выкрикнула она. – Повторяем за мной. РАЗ, два, три, четыре! РАЗ, два, три, четыре! Активнее, товарищи, больше жизни! РАЗ, два, три, четыре! РАЗ, два, три, четыре!..
Боль от кашля не перебила в сознании Уинстона впечатления от сна, а ритмичные движения упражнений почему-то способствовали удержанию их в памяти. Он механически выбрасывал руки взад и вперед, сохраняя при этом выражение радости на лице, которое надлежало иметь при выполнении Физзарядки; мысли же его крутились вокруг смутного периода раннего детства. Было невероятно трудно. Все происходившее ранее пятидесятых годов затерялось в глубинах памяти. Даже очертания собственной жизни расплываются, если нет никаких внешних свидетельств, к которым ты мог бы обратиться. Ты помнишь крупные события, которых, быть может, и не было, ты помнишь детали происшествий, но тебе не удается восстановить их атмосферу, а еще есть длинные пустые периоды, о которых ты ничего не можешь сказать. Все тогда было иным. Даже названия стран и их очертания на карте были иными. Взлетная Полоса Один, например, тогда называлась по-другому: она называлась Англией или Британией, а вот Лондон, он помнил это определенно, всегда назывался Лондоном.
Уинстон не помнил в точности то время, когда его страна не вела войну, но у него имелось доказательство того, что в детстве они довольно долгое время жили в мире, потому что одним из его ранних воспоминаний был авианалет, который всех поверг в удивление. Возможно, это именно в тот раз атомная бомба упала на Колчестер. Самой бомбардировки он не помнил, но зато помнил, как крепко держал отец его руку, когда они торопливо спускались в какое-то место глубоко под землей – круг за кругом по винтовой лестнице, дрожащей под ногами, а потом его ноги так устали, что он начал хныкать, и они решили остановиться и отдохнуть. Мать шла, далеко отстав от них: она всегда ходила медленно, будто во сне. Она несла маленькую сестренку, или это была просто стопка одеял: он точно не помнил, родилась ли уже тогда его сестра. Наконец они прибыли в шумное помещение, заполненное людьми, и он понял, что это станция лондонского метро.
Одни люди здесь сидели на выложенном камнем полу, другие теснились на металлических нарах, расположенных одни над другими. Уинстон с матерью и отцом нашли местечко на полу, рядом с ними на нарах, прижавшись друг к другу, расположились старик и старуха. На старике был приличный темный костюм, а сдвинутая на затылок черная кепка открывала совершенно седые волосы; лицо его покраснело, а голубые глаза наполнились слезами. От него исходил сильный запах джина. Казалось, спиртное выступает на его коже вместо пота, можно было подумать, что и слезы, текущие из его глаз, представляли собой чистый джин. Но и в легком подпитии старик страдал от какого-то горя – неподдельного и невыносимого. Своим детским умом Уинстон все же понял, что произошло нечто ужасное, нечто такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. И, похоже, он услышал в чем дело. Убили того, кого старик очень любил – возможно, маленькую внучку. Пожилой мужчина постоянно повторял: «Не надо было им доверять. Ведь говорил я, мать, говорил? Не надо было доверять этим мерзавцам». А вот что это были за мерзавцы, которым не стоило доверять, – этого Уинстон вспомнить не мог.
С тех пор война в буквальном смысле слова не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Во времена его детства в течение нескольких месяцев шли непонятные уличные бои в самом Лондоне, и некоторые из них он помнил довольно живо. Но проследить историю всего того времени, сказать, кто с кем сражался в тот или иной момент, не представлялось возможным, так как не сохранилось ни письменных свидетельств, ни устных рассказов; не найти даже упоминаний о том, что когда-то существовал иной порядок расстановки сил, чем в настоящее время. Сегодня, например, в 1984 году (если, конечно, сейчас шел 1984-й) Океания находилась в состоянии войны с Евразией и заключила союз с Истазией. Однако никогда – ни публично, ни в частных разговорах – не говорили о том, что в иные исторические периоды эти три державы находились в других отношениях. На самом деле Уинстон отлично знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Истазией и являлась союзником Евразии. Но это была просто частичка тайной информации, которой ему случилось обладать, потому что его память недостаточно хорошо контролировали. Согласно официальным данным, никакой смены союзников не было. Океания сейчас находилась в состоянии войны с Евразией: значит, Океания всегда воевала с Евразией. Враг на данный момент неизменно воплощал в себе абсолютное зло, а, следовательно, соглашение с ним в прошлом ли, в будущем ли невозможно.
Пугает то, подумал он в десятитысячный раз, пока, преодолевая боль, отводил плечи назад (держа руки на бедрах, они вращали корпусом – упражнение считалось полезным для мышц спины), пугает то, что, возможно, все это правда. Если Партия способна запустить свою руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что ЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО, – разве это не страшнее, чем просто пытки и смерть?
Партия утверждает, что Океания никогда не была союзником Евразии. Он, Уинстон Смит, знает, что четыре года назад Океания в течение короткого времени входила в альянс с Евразией. Но где существует эта информация? Только в его собственном сознании, которое наверняка скоро уничтожат. И если все остальные принимают ту ложь, которую навязывает им Партия, и если все официальные документы талдычат все ту же сказку, то ложь проникает в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, – гласит партийный лозунг, – тот контролирует будущее; кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». Но ведь само прошлое неизменно благодаря своей неизменяемой природе. То, что является правдой сейчас, было правдой во веки веков. Это так просто. Нужно лишь одержать множество побед над своей собственной памятью. Они называют это «контроль над действительностью», «двоемыслие» на новодиалекте.
– Вольно! – гаркнула интрукторша уже добродушно.
Уинстон убрал руки с пояса и медленно впустил воздух в легкие. Ум его заскользил в лабиринте двоемыслия. Знать и не знать; понимать всю правду, хотя тебе говорят детально выстроенную ложь; держать два мнения в голове, сознавая, что одно противоречит другому, и верить в оба; использовать логику против логики, дабы отречься от морали, в то же время защищая ее; считать, что демократия невозможна; забыть то, что необходимо забыть, а затем в нужный момент вызвать это в памяти и потом немедленно снова забыть – и более того, применять этот процесс к самому процессу. В этом и заключается особая тонкость: сознательно убеждать подсознание – снова и снова, раз за разом, с помощью бессознательного самогипноза. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо использовать это самое двоемыслие.
Инструкторша снова привлекла их внимание.
– А сейчас давайте посмотрим, кто из нас достанет носочки! – сказала она с энтузиазмом. – Пожалуйста, прямо от бедер, товарищи. РАЗ-два! РАЗ-два!..
Уинстон терпеть не мог это упражнение: оно вызывало стреляющие боли по всей нижней части тела – от пяток до ягодиц – и часто вело к очередному приступу кашля. Если и было что-то приятное в его раздумьях, то сейчас оно исчезло. Он понял, что прошлое не просто изменили, на самом деле его уничтожили. Потому что как ты можешь установить даже самый очевидный факт, если он не существует в письменном виде, а есть лишь в твоей памяти? Уинстон попытался вспомнить, в каком году он впервые услышал упоминание о Большом Брате. Наверное, где-то в шестидесятых – точнее не определить. Конечно, в истории Партии Большой Брат позиционировался как лидер и вождь революции с самого ее начала. Его деяния постепенно сдвигались все в более ранние времена, пока не распространились на сказочный мир сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в странных цилиндрах на голове катались по улицам Лондона в великолепных блестящих машинах или в конных каретах со стеклянными боковинами. Сколько правды содержалось в этих легендах, а сколько было придумано – неизвестно. Уинстон не мог даже припомнить дату возникновения самой Партии. Вряд ли он слышал слово Ангсоц до 1960 года, но, возможно, на старом языке словосочетание «английский социализм» было в ходу и раньше. Все тонет в туманной дымке. В действительности иногда можно распознать явную ложь. Например, неправда содержится в партийных книгах по истории, которые утверждают, будто Партия изобрела самолеты. Он помнил их с самого раннего детства. Но никаких доказательств этому нет. Лишь один раз за всю свою жизнь ему довелось держать в руках несомненное документальное доказательство фальсификации исторического факта. Да и в этом случае…
– Смит! – злобно выкрикнул голос из телеэкрана. – Шестьдесят-семьдесят девять Смит У.! Да, ВЫ! Нагнитесь ниже, пожалуйста. Вы можете лучше. Вы не стараетесь. Ниже, пожалуйста! ВОТ ТАК лучше, товарищ. А сейчас, группа, вольно, все смотрим на меня.
Внезапно струйки горячего пота побежали по телу Уинстона. Но его лицо оставалось непроницаемым. Никогда не показывай страха! Никогда не показывай обиды! Ты можешь себя выдать, просто моргнув глазом. Он стоял и смотрел, как интрукторша поднимает руки над головой и – нельзя сказать, чтобы очень грациозно, но с нарочитой аккуратностью и старанием – наклоняется и засовывает кончики пальцев рук под носки спортивной обуви.
– ТРИ, товарищи! Вот ТАК вы должны делать это. Смотрите на меня. Мне тридцать девять и у меня четверо детей. И снова смотрите. – Она опять наклонилась. – Вы видите, МОИ колени не сгибаются. И вы так можете, надо только постараться, – добавила она, выпрямляясь. – Любой, кому нет еще сорока пяти, в состоянии выполнить идеальное касание. Если у нас нет привилегии сражаться на передовой, наш долг – хотя бы держать себя в форме. Вспомните о наших парнях на Малабарском фронте! И о моряках на плавучих крепостях! Только представьте, с чем ИМ приходится мириться. Давайте еще раз. Вот сейчас лучше, товарищ, НАМНОГО лучше, – бодро говорила она, в то время как Уинстон, совершив неимоверное усилие, сумел коснуться носков, не сгибая коленей – впервые за несколько лет.
Глава 4
Уинстон начал рабочий день, как обычно, с глубоким бессознательным вздохом, от которого его не могла удержать даже близость телеэкрана; он подвинул к себе диктопис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем он развернул и соединил скрепкой четыре маленьких рулона бумаги, которые только что выскочили из пневматической трубки, расположенной справа от рабочего стола.
На стенах секции-кабинки было три отверстия. Справа от диктописа – небольшая пневматическая трубка для письменных сообщений; слева – трубка побольше, для газет; и на боковой стене, в пределах досягаемости руки Уинстона, – большая продолговатая щель, защищенная проволочной решеткой. Последняя предназначалась для утилизации использованной бумаги. Тысячи, а может быть и десятки тысяч подобных отверстий, пронизывали все здание: они находились не только в каждой комнате, ими были испещрено все свободное место в коридорах. Почему-то их прозвали каналами памяти. Если кто-то знал, что тот или иной документ нужно уничтожить, или даже просто замечал валяющийся кусок ненужной бумаги, он просто машинально поднимал решетку ближайшего канала памяти и бросал туда лист, а поток теплого воздуха уносил бумагу к огромным печам, которые прятались где-то в недрах здания.
Уинстон изучил четыре документа, которые он только что развернул. Каждый из них содержал сообщение из одной-двух строк, написанных на сокращенном профессиональном жаргоне, который на самом деле не являлся новодиалектом, но состоял по большей части из слов последнего и использовался в Министерстве для внутренних целей.
Там в частности было написано:
таймс 17.3.84. бб речь невернсообщение африка исправить
таймс 19.12.83 прогнозы 3 на 4 квартал 83 опечатки сверить сегодняшний номер
таймс 12.2.84 минизо невернцитата шоколад исправить
таймс 3.12.83 статья бб дневнприказ двойнплюс упом нелица переписать целиком сверхувниз до подшивки
С чувством легкого удовлетворения Уинстон отложил в сторону четвертое сообщение. Эту сложную и ответственную работу лучше оставить напоследок. Другие три задания – обычные дела, хотя второе, скорее всего, предполагает нудное изучение колонок цифр.
Уинстон набрал на телеэкране «старые номера» и затребовал соответствующие выпуски «Таймс», которые через несколько минут выскочили из пневматической трубки. Полученные им сообщения касались статей или новостных сводок, которые по той или иной причине полагалось изменить, или, как гласил официальный язык, исправить. Например, в газете «Таймс» от 17 марта Большой Брат в своей речи днем раньше предсказал, что на Южно-Индийском фронте будет затишье, а евразийцы вот-вот перейдут в наступление в Северной Африке. А получилось, что Высшее командование Евразии начало наступление в Южной Индии, а Северную Африку, напротив, оставили в покое. Следовательно, нужно было переписать параграф из речи Большого Брата так, что он будто бы предсказал то, что на самом деле и случилось. Или вот опять же в «Таймс» от 19 декабря опубликовали официальные прогнозы по выпуску различных видов товаров народного потребления в четвертом квартале 1983 года, который является шестым кварталом Девятой трехлетки. Сегодняшний номер содержал данные по реальному выпуску, из которых явствовало: каждый пункт совершенно неверен. Работа Уинстона состояла в том, чтобы исправить первоначальные цифры, приведя их в соответствие с реальными. Что касается третьего сообщения, то оно относилось к простой ошибке, исправить которую было делом пары минут. Не так давно, а именно в феврале, Министерство изобилия выпустило заявление, где обещалось («категорически утверждалось» – именно так гласила официальная фраза), что в течение 1984 года снижения норм шоколадного рациона не будет. В действительности же Уинстон знал, что нормы выдачи шоколада снизят с тридцати граммов до двадцати на текущей неделе. Требовалось просто заменить первоначальное обещание на предупреждение о том, что, возможно, возникнет необходимость уменьшить рацион в какой-то момент в апреле.
Сделав все, что нужно, Уинстон приколол исправления, сделанные на диктописе, к соответствующему номеру «Таймс» и затолкнул их в пневматическую трубку. Затем почти машинальным движением он скомкал полученные сообщения и все заметки, которые делал сам, и бросил их в канал памяти, дабы их поглотило пламя.
Он в точности не знал, что происходит в невидимом лабиринте, по которому идут пневматические трубки, но общее преставление об этом он имел. Как только необходимые исправления в конкретном номере «Таймс» были собраны и сверены, номер перепечатывали, первоначальный вариант уничтожали, а исправленную газету подшивали на его место в папку. Этот процесс непрекращающихся изменений применяли не только к газетам, но и к книгам, периодическим изданиям, проспектам, плакатам, брошюрам, фильмам, фонограммам, мультфильмам, фотографиям – к любому виду литературы или документации, которые могли иметь какое-либо политическое или идеологическое значение. День за днем и даже минута за минутой прошлое обновлялось. Таким образом, каждое предсказание, сделанное Партией, можно было подтвердить документами – не существовало ни новостной информации, ни какого-либо высказанного мнения, которые бы входили в противоречие с нуждами настоящего момента, ничего не оставалось в записи. Вся история представляла собой палимпсест – текст, написанный на месте прежнего, который зачищали и царапали заново всякий раз, когда это было необходимо. И как только дело сделано, никогда не доказать, что здесь имела место быть фальсификация. В самом большом подразделении Департамента документации – гораздо большем, чем то, в котором он сам работал, – трудились люди, которые должны были лишь отслеживать и собирать все экземпляры книг, газет и других документов, которые устаревали и подлежали уничтожению. Номер «Таймс», который, наверное, из-за изменений в политическом союзничестве или ошибочных предсказаний, сделанных Большим Братом, перепечатывался не меньше дюжины раз, по-прежнему стоял в папках под первоначальной датой, и не существовало никакого другого экземпляра, противоречащего ему. Книги тоже отзывались и перепечатывались снова и снова, а затем выпускались заново без какого-либо упоминания о сделанных в них изменениях. Даже письменные инструкции, которые получал Уинстон и от которых ему следовало избавляться сразу же по выполнении задания, никогда не содержали ни малейших указаний на необходимость подделки; вместо этого в них всегда говорилось об описках, ошибках, опечатках или неверных цитатах, которые следовало исправить в интересах точности.
На самом деле он считал, что, переписывая данные Министерства изобилия, он не занимается подделкой. Просто заменяет одну ерунду другой. Большая часть материала, с которым ты имеешь дело, никак не связана с реальным миром, у этих данных нет и такой связи с действительностью, какую имеет с ней даже явная ложь. Статистика в исходной версии – это такая же фантастика, как и в исправленном варианте. Добрую часть времени ты, как от тебя и ожидается, просто берешь цифры от фонаря. Например, в прогнозе Министерства изобилия говорилось, что в четвертом квартале будет выпущено 145 миллионов пар ботинок. А реальное количество составило шестьдесят два миллиона. Однако Уинстон, переписывая прогноз, опустил цифру до пятидесяти семи миллионов, дабы показать перевыполнение плана. В любом случае шестьдесят два миллиона не ближе к истине, чем пятьдесят семь или 145 миллионов. И есть очень высокая вероятность, что никаких ботинок вообще не производили. А еще более вероятно, что никто не знает, сколько именно было произведено, да и не хочет знать. Все, что полагалось знать, так это то, каждый квартал на бумаге выпускается огромное количество обуви, в то время как, быть может, половина населения Океании ходит босым. И вот так обстояло дело почти с каждой группой зафиксированных на бумаге фактов – будь она маленькая или большая. Все расплывалось в тумане этого мира теней, в котором даже даты становились неопределенными.
Уинстон бросил взгляд в холл. В кабинке напротив сидел аккуратный человек по имени Тиллотсон – маленького роста, с выбритым до синевы подбородком. Он усердно работал, держа на коленях сложенную газету и буквально приникнув ртом к микрофону диктописа. Создавалось впечатление, будто он говорит нечто такое, что должно остаться секретом между ним и телеэкраном. Он поднял голову и злобно сверкнул очками в сторону Уинстона.
Уинстон практически не знал Тиллотсона и понятия не имел, какую работу тот выполняет. Служащие Департамента документации обычно не обсуждали свои рабочие обязанности. В длинном, без единого окна холле, вдоль которого тянулись секции-кабинки, кругом высились бесконечные кипы бумаг и слышались голоса, бормочущие что-то в диктописы, работала добрая дюжина человек, коих Уинстон не знал даже по имени, хотя каждый день видел, как они торопливо перемещаются туда-сюда по коридорам и жестикулируют на Двухминутке ненависти. Он знал, что в кабинке рядом с ним маленькая женщина с рыжими волосами день за днем непосильно трудится над тем, чтобы просто отследить и изъять из прессы имена людей, которые были распылены, и, следовательно, теперь считаются никогда не существовавшими. Для этого требовалась определенная закалка, так как ее собственного мужа распылили пару лет назад. А еще через несколько кабинок располагалось нежное, слабое и мечтательное существо по имени Амплфорт, с заросшими волосами ушами и удивительным талантом к рифмам и стихотворным размерам; он занимался созданием искаженных вариантов – так называемых окончательных текстов – стихотворений, которые сделались оскорбительными с точки зрения идеологии, но по той или иной причине оставались в антологиях. И в этом холле, где находилось пятьдесят служащих или около того, размещалось лишь одно подразделение, одна клеточка огромного организма Департамента документации. За пределами этого помещения, выше и ниже его множественные пчелиные рои других работников выполняли несусветное количество разнообразных заданий. Здесь были огромные типографии со своими редакторами, экспертами по печати, со своими технически оснащенными студиями для фальсификации фотографий. Имелась и секция телепрограмм со своими инженерами, продюсерами и группами актеров, получивших работу благодаря умению имитировать голоса. А еще были армии клерков-референтов, чьи функции заключались только в том, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, подлежащих отозванию. В здании находились и обширные хранилища, куда отправлялись исправленные документы, а также скрытые где-то печи, где уничтожались оригиналы. Кроме того, в каком-то месте, совершенно анонимно, существовал руководящий мозг, который координировал все усилия и намечал политическую линию, согласно которой этот фрагмент прошлого необходимо было сохранить, тот – фальсифицировать, а еще один вымарать из существования.
И, наконец, сам Департамент документации являлся лишь одним подразделением Министерства правды, чьей первоначальной работой было не пересоздавать заново прошлое, а обеспечивать жителей Океании газетами, фильмами, учебниками, телепрограммами, пьесами, романами – всеми мыслимыми и немыслимыми видами информации, инструкций, развлечений: от статуи до лозунга, от лирического стихотворения до трактата по биологии, от школьных прописей до словаря новодиалекта. Министерство не только удовлетворяло различные нужды Партии, но и дублировало все произведенное на более низком уровне – для потребностей пролетариата. Существовала целая цепочка отдельных департаментов, работающих с пролетарской литературой, музыкой, драматургией и прочими развлечениями. Здесь выпускались мусорные газеты, не содержащие почти никакой иной информации, кроме как о спорте, преступлениях и астрологии; сенсационные книжонки по пять центов; фильмы, перенасыщенные сексом; и сентиментальные песенки, написанные исключительно механическим способом на специальном калейдоскопе под названием версификатор. Была даже целая подсекция – Порносек, как она именовалась на новодиалекте, – которая занималась производством самой низкопробной порнографии; продукция эта рассылалась в запечатанных пакетах, и ни одному члену Партии, за исключением тех, кто непосредственно ею занимался, не разрешалось ее смотреть.
Еще три сообщения выпали из пневматической трубки, но они никакой сложности не представляли, и потому он успел справиться до того, как все прервались на Двухминутку ненависти. Когда Ненависть закончилась, он вернулся в свою кабинку, взял с полки словарь новодиалекта, отодвинул диктопис, протер очки и приступил к главному заданию этого утра.
Работа была самым большим удовольствием в жизни Уинстона. Большая часть ее представляла собой ежедневную рутину, но случалось решать и по-настоящему трудные и сложные проблемы, заставляющие погрузиться в дебри математических задач – особо тонкие вопросы фальсификаций, когда тебе было не на что опереться, кроме как на свои знания принципов Ангсоца и собственное понимание того, что хочет от тебя Партия. Уинстон был силен в вещах подобного рода. Иной раз он даже занимался исправлениями передовиц в «Таймс», которые писались полностью на новодиалекте. Он развернул сообщение, полученное раньше. Оно гласило:
таймс 3.12.83 статья бб дневнприказ двойнплюс упом нелица переписать целиком сверхувниз до подшивки
Со старого языка (или со стандартного английского) его можно было перевести так:
В статье Большого Брата в номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года Приказ дня изложен крайне неудовлетворительно, в нем упоминаются несуществующие лица. Полностью переписать и перед подшивкой отправить черновик на утверждение руководству.
Уинстон внимательно прочитал неверную статью. Похоже, Приказ Большого Брата на тот день, был посвящен в основном похвалам организации под названием ПКПТ, занимающейся поставками сигарет и других потребительских товаров матросам на плавучих крепостях. Некий товарищ Уизерз, выдающийся член Внутренней партии, удостоился особого упоминания и получил знак отличия – Орден «За выдающиеся заслуги», второй степени.
Три месяца спустя ПКПТ неожиданно расформировали, не сообщая никаких на то причин. Можно было предположить, что Уизерз и его коллеги сейчас находились в опале, однако ни в прессе, ни по телевидению об этом не упоминалось. Обычная ситуация, ведь политические преступники не удостаивались суда или даже публичного объявления. Великие чистки, охватывающие тысячи человек, с открытыми судебными процессами над предателями и мыслепреступниками, отчаянно признающимися в своих преступлениях, и последующими казнями, представляли собой настоящие шоу, которые устраивались примерно раз в два года. Чаще всего люди, вызвавшие недовольство Партии, просто исчезали, и о них больше не слышали. Никто и малейшего понятия не имел, что с ними случилось. Возможно, что в некоторых случаях они даже не умирали. Уинстон лично знал человек тридцать, которые исчезли в тот или иной промежуток времени, и это не считая родителей.
Уинстон легонько постукивал по носу скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон все так же тайно сообщал что-то диктопису. На секунду он поднял голову – и опять то же злобное сверкание очков. Уиснтону стало интересно, а не занят ли товарищ Тиллотсон той же работой, что и он сам. Вполне возможно. Такие замысловатые задания никогда не доверяли одному человеку; с другой стороны, привлечь к этому делу комитет – значит, открыто признать, что имеет место быть акт фальсификации. С большой долей вероятности можно предположить, что целая дюжина сотрудников создает различные версии того, что на самом деле сказал Большой Брат. И некий умник во Внутренней партии выберет тот или иной вариант, заново отредактирует его и запустит сложный процесс создания необходимых перекрестных ссылок, а затем сфабрикованная ложь займет свое место в записях постоянной регистрации и станет правдой.
Уинстон не знал, чем не угодил Уизерз. Возможно, дело было в коррупции или в некомпетентности. А может быть, Большой Брат просто избавился от слишком популярного подчиненного. Или Уизерза либо кого-то из его близких заподозрили в еретических настроениях. Или, к примеру, – что наиболее вероятно – так вышло исключительно потому, что чистки и распыления являлись важнейшей частью правительственного механизма. Единственная более или менее достоверная отгадка заключалась в словах «упом нелица», что ясно указывало: Уизерз уже мертв. Когда людей арестовывали, это не всегда вело к смерти. Иногда их выпускали и позволяли пожить на свободе годик-другой до казни. Очень редко, но все же бывало, что тот, кого давным-давно считали мертвым, вдруг снова появлялся, как привидение, на каком-нибудь публичном процессе, где свидетельствовал против сотен других обвиняемых, а затем исчезал, на сей раз уже навсегда. Однако Уизерз уже числился как НЕЧЕЛОВЕК. Он не существовал: значит, он вообще никогда не существовал. Уинстон решил, что недостаточно просто исправить речь Большого Брата. Лучше будет написать речь, совершенно не связанную с первоначальным предметом.
Он мог превратить речь в обычное обличение предателей и мыслепреступников, но это было бы слишком банально; а если придумать какую-нибудь победу на фронте или триумфальное перевыполнение плана Девятой Трехлетки, это, скорее всего, потребует большого исправления в документах. Нужно создать нечто совершенно фантастическое. Вдруг в голове у него возник готовый к употреблению образ некоего товарища Оджилви, недавно павшего в битве при героических обстоятельствах. Случалось, что Большой Брат посвящал свой Приказ дня чествованию какого-нибудь скромного рядового члена Партии, жизнь и смерть которого могла служить примером для подражания. Сегодня он скажет слово о товарище Оджилви. И ничего, что не было такого человека – товарища Оджилви: несколько напечатанных строк и парочка поддельных фотоснимков скоро вызовут его к жизни.
Уинстон немного подумал, затем притянул к себе диктопис и начал диктовать в привычном стиле Большого Брата, стиле одновременно военном и педантичном, который было легко имитировать благодаря привычке задавать вопросы и самому тут же отвечать на них. («Какой урок мы извлечем из этого факта, товарищи? – Урок, являющийся одним из фундаментальных принципов Ангсоца, что…» и т. д., и т. д.)
В возрасте трех лет товарищ Оджилви отказался от всех игрушек, за исключением барабана, автомата и модельки вертолета. В шесть – на год раньше в качестве исключения из правил – он поступил в Разведчики, а в девять уже стал командиром отряда. Когда парню исполнилось одиннадцать лет, он, подслушав подозрительный разговор, донес на дядю в полицию мыслей. В семнадцатилетнем возрасте он сделался районным организатором Молодежной Антисекс-лиги. В девятнадцать лет он разработал ручную гранату, которую Министерство мира приняло на вооружение и которая в момент первого испытания убила одним махом тридцать одного заключенного из евразийцев. Перешагнув двадцатитрехлетний рубеж, он погиб во время боя. Преследуемый вражескими реактивными самолетами, он летел над Индийским океаном с важными депешами, для веса привязал к себе пулемет, выпрыгнул из вертолета прямо в воду и утонул вместе с документами и всем прочим – такому концу, как сказал Большой Брат, нельзя не позавидовать. Большой Брат добавил еще несколько замечаний о чистоте и целеустремленности жизни товарища Оджилви. Он совершенно не употреблял спиртных напитков, не курил, не отдыхал, кроме как во время ежедневных часовых занятий в спортзале, а также хранил обет безбрачия, считая, что женитьба и заботы о семье несовместимы с круглосуточным служением делу. Он не обсуждал ничего, кроме принципов Ангсоца, и у него не было иной цели в жизни помимо сражения с врагами евразийцами и вылавливания шпионов, вредителей, мыслепреступников и предателей любого рода.
Уинстон обсудил сам с собой, не стоит ли наградить товарища Оджилви орденом «За выдающиеся заслуги». Но в конце концов решил не награждать из-за необходимости делать затем работу по перекрестным ссылкам.
Он еще раз взглянул на своего соперника, сидящего в противоположной кабинке. Что-то определенно подсказывало ему, что Тиллотсон занят той же работой, что и он сам. Узнать, чей вариант предпочтут, было совершенно невозможно, но он чувствовал твердую уверенность, что это будет его статья. Товарищ Оджилви, придуманный час назад, сейчас уже стал фактом. Уинстону вдруг пришла в голову любопытная мысль о том, что он способен создавать мертвых, но не живых. Товарищ Оджилви, который никогда не существовал в настоящем, сейчас получил жизнь в прошлом, и, когда акт фальсификации забудется, его существование будет столь же достоверным и подкреплено такими же доказательствами, как существование Карла Великого или Юлия Цезаря.
Глава 5
В находящейся глубоко под землей столовой с низким потолком медленными толчками продвигалась очередь на обед. Помещение уже было переполнено людьми, которые производили оглушительный шум. Гриль на прилавке, где находилось жаркое, испускал пар с кислым металлическим духом, который все же не мог перебить крепкий запах джина «Победа». В одном конце комнаты расположился небольшой бар – просто ниша в стене, где за десять центов можно было купить большую порцию джина.
– Вот вас-то я и ищу! – произнес голос за спиной Уинстона.
Он обернулся. Это его друг Сайм, который трудился в Департаменте исследований. Наверное, слово «друг» было не совсем точным. Сегодня нет друзей, есть только товарищи, однако общество одних товарищей казалось более приятным, чем компания других. Сайм был филологом, специалистом по новодиалекту. На самом деле он входил в огромную команду экспертов, работающих над составлением одиннадцатого издания словаря новодиалекта. Сам он был крошечным человечком, ниже, чем Уинстон, с темными волосами и большими, немного навыкате глазами – одновременно печальными и насмешливыми, которые, казалось, внимательно осматривают твое лицо, пока он говорит с тобой.
– Я хочу спросить, нет ли у вас бритвенных лезвий, – начал он.
– Ни одного! – поспешно сказал Уинстон, будто чувствуя свою вину. – Я повсюду искал. Их просто больше нет.
Все спрашивают тебя о бритвенных лезвиях. В действительности у него имелось два неиспользованных, которые он пока что держал в запасе. Лезвия пропали несколько месяцев назад. В каждый конкретный момент партийные магазины не могли справиться с поставками того или иного необходимого товара. Как-то раз это были пуговицы, в другой раз – нитки для штопки, иногда – шнурки, а сейчас вот – бритвенные лезвия. Их можно было достать, если, конечно, получится, тайно обратившись к «свободному» рынку.
– Сам бреюсь одним уже шесть недель, – соврал он.
Очередь снова продвинулась вперед толчком. Остановившись, он оказался лицом к лицу с Саймом. Они оба взяли засаленные металлические подносы из стопки на краю прилавка.
– Видели, как вчера вешали заключенных? – спросил Сайм.
– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Надеюсь в кино посмотреть.
– Неравноценная замена, – заметил Сайм.
Его насмешливый взгляд ввинчивался в лицо Уинстона. «Я знаю тебя, – казалось, говорили его глаза. – Я тебя насквозь вижу. Я отлично знаю, почему ты не ходил посмотреть на казнь заключенных». В интеллектуальном смысле слова Сайм был язвительным ортодоксом. С нескрываемым чувством глубокого удовлетворения он говорил о вертолетных налетах на вражеские деревни, о судах над мыслепреступниками и об их признаниях, о казнях в подвалах Министерства любви. Беседуя с ним, все время приходилось отвлекать его от такого рода тем и переводить разговор, если было возможно, на характеристики и особенности новодиалекта, в котором он разбирался и которым искренне интересовался. Уинстон немного отклонил голову в сторону, чтобы избежать пронзительного взгляда больших темных глаз.
– Очень понравилось, как вешали, – вспоминая, произнес Сайм. – Только вот испортили дело, когда связали ступни. Мне нравится смотреть, как они брыкаются. А в довершение всего, в конце, вывалился язык – такой ярко синий. Вот это прямо меня заводит.
– След-щий, пжалста! – выкрикнула пролка в белом фартуке и с черпаком в руках.
Уинстон и Сайм протолкнули подносы под решетку. На каждый из них быстро плюхнулся стандартный обед – металлическая плошка, в которой находилось розовато-серое жаркое, ломоть хлеба, кусок сыра, кружка кофе «Победа» без молока и одна таблетка сахарина.
– Вон там есть свободный столик, под телеэкраном, – сказал Сайм. – Возьмем джин по дороге.
Джин им подали в фарфоровых пиалах. Они пробрались через заполненное людьми помещение и пристроили свои подносы на металлический столик, на одном углу которого кто-то пролил соус – отвратительная жидкая масса напоминала блевотину. Уинстон поднял емкость с джином, помедлил немного и, собравшись с духом, залпом выпил маслянистый на вкус напиток. Когда он наконец проморгался от слез, то вдруг обнаружил, что очень голоден. Зачерпнув полную ложку, он начал глотать жаркое, в котором (и без того неприглядном на вид) попадались похожие на губку кусочки – возможно, приготовленное мясо. Они не разговаривали, пока не опустошили миски. Уинстон слышал, что слева от него и немного сзади кто-то быстро и безостановочно говорил, и это отрывистое бормотание отчасти напоминало утиное кряканье, буквально пронзающее все помещение.
– Как идет словарь? – спросил Уинстон, повышая голос, чтобы перекричать шум.
– Потихоньку, – ответил Сайм. – Я сейчас на прилагательных. Они очаровательны.
При упоминании о новодиалекте он сразу же весь расцвел. Он отодвинул миску в сторону, взял ломоть хлеба в одну тонкую ручку и кусок сыра в другую, а затем перегнулся через стол, чтобы говорить, а не кричать.
– Одиннадцатое издание особенное, – заметил он. – Формирование диалекта вступило в окончательную фазу: он сохранится именно в этой форме, и никто не будет использовать в речи никакой другой язык. Когда мы закончим работу, таким людям, как вы, придется заново учить его. Думаете, я хочу сказать, что наша главная работа – это новое словотворчество. А вот и нет! Мы уничтожаем слова каждый день – десятками, сотнями. Мы очищаем язык до скелета. Одиннадцатое издание не будет содержать ни единого слова, которое устареет до 2050 года.
Он жадно откусил кусок хлеба и, набив полный рот, продолжал возбужденно говорить. Его худое темное лицо оживилось, а глаза, утратив обычное насмешливое выражение, сделались мечтательными.
– Как здорово уничтожать слова. Конечно, самые большие мусорные залежи находятся среди глаголов и прилагательных, но есть и сотни существительных, от которых тоже следует избавиться. Это не только синонимы, я имею в виду и антонимы. Ну, скажите на милость, разве оправдано существование слова, которое просто противоположно другом? Слово уже содержит противоположность в себе самом. Возьмем, к примеру, «хороший». Если у вас есть слово типа «хороший», то зачем вам слово типа «плохой»? «Нехороший» подходит как нельзя лучше – лучше, потому что это точный антоним, в то время как все остальные таковыми не являются. Или опять же вам нужен более сильный вариант «хорошего», какой смысл в этом случае иметь целую связку неясных бесполезных слов вроде «отличный» или «великолепный» и им подобных? «Плюс-хороший» вполне отвечает этой потребности, а если вам нужно еще больше усилить это качество, то скажите: «два-плюс-хороший». Безусловно, мы уже используем такие формы. Но в окончательном варианте новодиалекта других и не останется. В конце концов, целое понятие хорошего и плохого будет охватываться всего шестью словами – а в реальной жизни даже одним. Вы понимаете, как это прекрасно, Уинстон? Первоначально идея принадлежала Б.Б., – благоразумно добавил он.
При упоминании Большого Брата по лицу Уинстона скользнула тень вялой заинтересованности. Тем не менее, Сайм тут же заметил некоторую нехватку энтузиазма.
– На самом деле вас не восхищает новодиалект, Уинстон? – произнес он почти печально. – Даже когда вы пишете на нем, вы думаете о старом языке. Я читал некоторые образчики того, что вы время от времени даете в «Таймс». Они неплохи, но являются переводами. В глубине души вы держитесь за старый язык со всеми его туманностями и бесполезными значениями. Вы не понимаете красоты уничтожения слов. Вам известно, что новодиалект – это единственный язык в мире, чей лексический запас уменьшается год от года?
Конечно, Уинстон этого не знал. Он улыбнулся, как он надеялся, добродушно, но не решился заговорить. Сайм откусил очередной кусок черного хлеба, быстро прожевал его и продолжил:
– Вы не понимаете, что цель новодиалекта – сузить широту мысли? В конечном итоге мыслепреступления станут невозможными в буквальном смысле этого слова, потому что не будет слов, чтобы выразить их. Каждое понятие, будь оно необходимым, будет точно описываться одним словом с совершенно четким значением, а все второстепенные значения сотрутся или забудутся. Здесь, в одиннадцатом издании, мы уже недалеки от цели. Но процесс будет еще долго продолжаться и после того, как мы с вами умрем. Каждый год все меньше слов – каждый год немного меньше широты сознания. И сегодня, конечно, для мыслепреступлений нет ни причин, ни оправданий. Это просто вопрос самодисциплины, самоконтроля. Но впоследствии даже в этом надобность отпадет. Революция завершится, когда язык приобретет идеальный вид. Новодиалект есть Ангсоц, а Ангсоц есть новодиалект, – прибавил он с каким-то мистическим удовлетворением. – Разве вы не думали, Уинстон, что к 2050 году, а то и раньше, не будет жить ни одного человеческого существа, которое сможет понять нашу с вами сегодняшнюю беседу?
– За исключением… – начал было Уинстон и замолчал.
На языке у него вертелось: «За исключением пролов». Однако он оборвал себя, не чувствуя полной уверенности в том, что его замечание не является в каком-то смысле проявлением уклонения от ортодоксальности. Между тем Сайм угадал, что его собеседник хотел сказать.
– Пролы – не человеческие существа, – беспечно отмахнулся он. – К 2050 году, а может, и раньше, все реальное знание старого языка исчезнет. Литература прошлого подвергнется уничтожению. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон – все они будут существовать лишь в версии новодиалекта, не просто изменившись, а действительно трансформировавшись в нечто совершенно противоположное, чем то, чем они были когда-то. Даже партийная литература изменится. Даже лозунги изменятся. Разве сможет существовать лозунг вроде «свобода – это рабство», если отменят само понятие свободы? Весь строй мыслей станет другим. Да на самом деле не будет мыслей в теперешнем понимании этого слова. Ортодоксальность означает отсутствие мыслительного процесса – отсутствие необходимости мыслить. Ортодоксальность по природе своей бессознательна.
Уинстону вдруг пришла в голову мысль, что однажды Сайма распылят. Он слишком умен. Он слишком хорошо все понимает и слишком прямо высказывается. Однажды он исчезнет. Это читается на его лице.