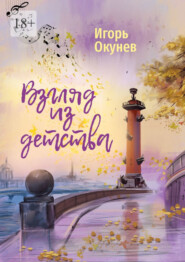скачать книгу бесплатно
В чем почва этого слепого подобострастия к необузданному самодержавию, что за кара нашла на наше племя, что мы стали вековыми лизоблюдами своих палачей? Столетиями вырезали от сердца русского разнузданностью княжеского властолюбия, параноидальными буйствами, обезумевшей алчностью, оголтелой великодержавностью, кровавой опричниной – все самое лучшее: честь, вольнодумие, искренность. Топором отрубала русская история от нас лучших, порядочных и чистых. Столетия за столетиями, оставив в итоге от русского сердца крохотный обрубок – весь сжавшийся окаменелым страхом. Это безрассудный трепет переродился ничтожеством духа и мысли, непрестанной покорностью, безверием и умаленностью политических притязаний. Подобно перед лицом неминуемой смерти в агонии ужаса вдруг проникаешься дружелюбием, сочувствием и сопричастностью делу твоего убийцы.
Allegro molto vivace[13 - Allegro molto vivace – значительно, весьма быстро (ит.).].
Одно гнетет, испепеляя каждую мысль, каждое чувство, каждое движение – предрешенность и неотвратимость последнего аккорда жизни. Все – ничто, на перепутье вечного и бесконечного ты, твое неиссякаемое богатство – всего лишь пыль, ненужная и пустая. Кромешная мгла, бездыханная и бесприютная. Одно томит, давя в висках, выкручивая душу, – смерть.
Страшно… Как быть? Куда деться? Как ее встретить? Стоя, в приподнятом духе, бодро и изящно, как опоздавшую любовницу? Чтобы хоть как-то скрыть эту холодную оторопь, стискивающую скулы, орошающую ледяными каплями лоб? Или нет, запереть все засовы, заколотить ставни, спрятаться в самый дальний подвал. Или еще, бежать без оглядки, остервенело, чтобы встретить свой грозный час незаметно, в физическом изнеможении, но оставив в погоне боль души, тлеющей на медленном огне страха. Страшно…
…Небывалыми приготовлениями была полна в тот день Златоглавая. Все куда-то неслось, все спешило, все не успевало и должно было по обычаю свершиться лишь в последний момент. Листья должны быть зелеными, солнце ярким, небо чистым, глаза подданных преданными, речи отточенными, слезы радости искренними, восторг сокрушительным. Все репетировало, готовилось, предвкушало. На русский трон соизволила согласиться взойти сама хозяйка жизни – ее величество Смерть.
И вот фанфары, тройное приветствие протяжным гулом – из дальнего конца Первопрестольной летит колесница. По пустым мостовым, в нелюдимом городе, лишь с гонцами, возвещающими великую новость пришествия. Борзо бегут гончие, опрометью несутся вслед отзвуки фанфар, лихо летит колесница.
Червленые башни с золотыми гербами, белые стены соборов, бирюзовые небеса, оплот могущества и величия русского царства – Кремль, как всегда, спесив, чванлив и задирист. К этой твердыне мчится аспидная колесница новой правительницы, и цитадель покладисто, будто котенок, раскрывает перед ней свои врата. Новость прибытия покровительницы подхватывают и начинают разносить по городу хоры соборных колоколов: сливаясь в очищающем экстазе. Волнами, накатистыми и пышноструйными, растекается благая весть по стране.
Аспидная колесница подкатывает к Кремлевскому дворцу. Слышен доклад коменданта: царица-матушка, опричная гвардия в сборе и в полном вашем распоряжении. Смерть – чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй – приветствует коменданта. Отворяются ажурные двери, и идет Смерть по ступенькам крепкой, самоуверенной походкой, решительным и неспешным шагом. Убранства сказочного богатства во всем блеске и великолепии отворяются ее взору. Новые и новые затворы распахиваются, анфилады вливаются в анфилады, роскошь подкашивает необузданностью.
Но вот, наконец, Андреевский, Александровский и Георгиевские залы. Публика всякой знатности в благоговении встает и рукоплещет во имя новой спасительницы, нового озарения, новой великой будущности, сошедшей на Русь, в этом единении власти. Торжествующий гимн подхватывает оркестр; гимн величавый, заздравый, вбирающий в себя всю историю борьбы и великой победы русской власти над русским народом. Чаяния народа на нового монарха градом слез изливаются.
Ура всесильному государю! Эта присяга Смерти во время интронизации: «Клянусь оберегать и блюсти жизнь как высшую и непреклонную ценность Отечества нашего! Клянусь во веки быть ее гарантом и охранительницей!» – сколько чистого посыла, глубинной искренности!
Гул оваций выводит Смерть из дворца, спускает по патриаршему ходу навстречу ликующему люду. Люд в кавалергардских мундирах, построенный в колонны по три в ровные шеренги, скандирует троекратное «Ура!». Бравурный марш подхватывает и устремляет в парадный шаг. Смерть, любимая приспешница дьявола, следует в Успенский собор, принимает корону наместницы Божьей и крестным знамением осеняет русскую землю на все четыре стороны.
Народ православный, торжествуй! Гуляй, пьянствуй до забытья, величайшая радость снизошла с небес в сей день! Славься, славься, русский царь! Канонадой пушек, громом колоколов, грохотом криков освещенных! Славься, славься, русский царь!
И в едином порыве, с комом в горле, надрывая глотку, дурея от счастья: Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный. Боже, царя храни!
?
Affettuoso[14 - Affettuoso – нежно (ит.).].
Робкий отблеск солнца, случайное дыхание ветра, неловкое сложение теней… укол… и шепот бриза в мыслях… В твоем постоянстве какое-то непостоянство, твоя привычность в чем-то непривычном, в твоем одиночестве какая-то неодинокость… Среди всегдашнего, правильного, традиционного, верного… Один выбитый атом бытия… Вдруг, случаем, ненароком… Пустяшный разрыв, сдвиг, смещение… Легкое, ласковое, лоснящееся, ластящееся, летящее… Одно колебание в груди… Пропуск одного удара сердца…
Откуда-то в порядке вещей беспорядок… Не так, как надо, как было, как должно быть, как только и бывает… В минутах – века, в столетиях – мгновенья, в зное – озноб, во льде – жар, во мраке – спокойствие, в свете – уныние, в чужом – свое, в своем – чужое… Необъяснимо, недолжно, мистично… Или естественно, ожидаемо, по заведенному… Как у всех и всегда, поколениями, народами, цивилизациями… И одновременно свое, личное, единственное, уникальное, неповторимое… Какая-то волшебная обыденность…
Сжатие, теснение, жжение… Вчерашние уверенность, стойкость, предсказуемость зудят, ноют… Боль… За несовершенство… Дня и ночи, человека и звезд, мира и души… За ограниченность, временность, конечность… Страдание во спасение… И мука счастьем…
Вечная осень в апреле, вечная месса на карнавале, вечное сомнение в очевидном… Предрешенность, почти зловещая, неодолимая, невозможная… И внутренняя сила, тверже судьбы, длиннее времени, больше пространства… Но не сильнее пустоты рядом с тобой… Тогда смешная, потешная, уродливая, ничтожная…
Воспоминание в самом себе, наслоение грез, терзаний… Воспоминание, отравляющее то, что раньше оживляло… И тоска, бесконечная, опустошительная, всепоглощающая, фатальная, непознаваемая… Тоска оторванного от жизни, потерянного, забытого… Тоска лучших порывов, величия и прекраснодушия… Умирающая у порога непонимания, слепоты, невнимания… Или, вернее, у порога другой такой же тоски, умирающей у порога третьей… Одиночество среди дел, шуток, поездок, разговоров… Одиночество в сопричастности…
Но шаг быстрее, вздохи трепетнее, удары в груди сильнее… Под сопровождение хора горних ангелов… Что разрывает, что несет вперед, что дает силы, что меняет тебя и мир… Истома ощущений, гимн гармонии в душе… Нескончаемое, непроходящее движение… К неге, к очарованию, к чистоте… Разбег, взлет, полет… Осязание рая внутри себя… Прикосновение к внеземному, святому, божественному… Движение против смерти, против разрушения… К рождению, перерождению и возрождению, к извечному созиданию… Движение жизни…
И в этом движении – что-то самое главное, то, что важнее его формы и содержания… Через него – к какому-то высшему освобождению… Освобождению от будничного, нелепого, формального, приземленного… От всего, что застилает глаза и уши… Через него, через прозрение чувства, через порыв творения, через страдание духа, через сомнение в бытии – к какой-то высшей свободе… К таинству разыгрываемого на земле огромного спектакля…
Они встретились весной 1865 года на торжественном обеде в Смольном институте. Встретились, чтобы подарить друг другу эту жизнь.
?
?
Appassionato[15 - Appassionato – страстно (ит.).].
Нет света в той комнате, в которую не заглядывает солнце, и нет солнца в том сердце, которое не озаряется твоим светом. Мое сердце повсюду, где твой свет: в ветре, который ласкает твои волосы, в снеге, который ложится на твои руки, в тепле, которое согревает твои губы. Прощайте, места, где я не побывал, в которых не побывал с тобой. Мой извечный приют теперь только здесь, в Петербурге, в его благородстве и строгости, в городе, неисправимо ограняющем души всех, кому провидение дало счастье в нем влюбиться.
В этом есть какая-то необъяснимая ошибка Бога. Ибо такого города не могло быть: не может вся красота сойтись в одном месте, тем более в месте, в котором природа не дает возможности выживать. И в этом не может не быть оплошности Бога: не могут все добродетели сойтись в одном человеке и не может такой человек появиться в этом городе и стать моей судьбой.
Жди меня, мой край! Жди, когда льдом заболеет Нева, когда вечный сумрак погасит огонь шпилей и куполов, когда уйдут все, с кем у нас с тобой была одна на всех душа. Храни тот отблеск луны, который отображался в Лебяжьей канавке, когда мы с ней были вместе, тот шорох листьев на Елагином острове, когда мы рассказали взглядами друг другу все, что только могли сказать, ту песню птиц в Павловске, когда зардело утро моей новой жизни. Храни – ведь только в них и есть вся моя память. Только их я и смогу представить в свою защиту, представ перед Высшим судом, ведь вся моя надежда на спасение – в ее любви ко мне.
Жди меня, милый город! Жди, когда другие не ждут. Когда опустеет последняя стопка за мою вечную память, жди – и я вернусь к тебе. Я вернусь, чтобы в последний раз пройтись по Невскому проспекту, чтобы посидеть в Летнем саду, чтобы поплакать у Ростральных колонн. Жди, когда придет сюда мое сердце, чтобы отыскать среди отражений в каналах и отблесков фонарей свое растраченное счастье, свое потерянное спокойствие. Жди, когда придет сюда моя душа, чтобы по пылинке воссоздать один любимый образ – из капель дождя, из запахов тысяч рассветов, из послевкусий утаенных поцелуев. Жди, когда придет мой дух, чтобы упокоиться среди твоих камней! Жди, ведь если, придя, я не найду свой смысл здесь, в своей полузабытой влюбленности, то даже горн второго пришествия, зовущий восстать, покажется мне продолжением похоронной мелодии.
Живи, красуйся, град Петров! В твоей холодной земле обрету я когда-то потерянное здесь же тепло. Я приду к тебе и только к тебе, ведь в твоем величии – освобождение России от уз варварства и надуманной ориентации на Восток. В твоем существовании, задумывавшемся как победа России над Западом, – необратимая победа Запада над Россией!
?
?
Animato agitato[16 - Animato agitato – оживленно, взволнованно (ит.).].
Врата ада, как известно, охраняют остервенелые бешеные псы. Вход в рай – бесстрашные и стойкие детские игрушки: плюшевые зверьки, тряпичные куклы, деревянные лошадки и оловянные солдатики. И вот загадка, ни разу еще, несмотря на поражение в силе и умении, не сдали они свой пост своре диких зверей.
…Одного плюшевого медвежонка купили для будущего новорожденного и посадили в детскую, пока необжитую и заставленную всяким хламом, ждать появления своего будущего хозяина.
Медвежонок, как и все плюшевые игрушки, был рожден в знакомом полуслучайном томном соприкосновении человеческих душ, в единении полутонов ласки, неги и откровения, в мире, полном оттенков иронии и смыслов, но лишенном словесности, в сокровенном лобзании, осязании тепла чужой ткани, в надрыве сил и движений, творящих истому и ощущение нежности пуха при соприкосновении, в поручительстве за души друг дружки перед Богом, именуемом любовью.
Предвкушение встречи с хозяином – необычайного праздника – наполняло крохотную душу зверька. Он улыбался – не меняя выражения лица – во весь рот, его глаза – из крашеного стекла – сверкали всеми оттенками лазури небес. Рожденный играть с людьми, зверек чаял скорее начать эту игру, длиною в долгие годы, игру, которая лишь с детскими игрушками ведется без притворства – в игру жизненного пути человека. Ожидание чуда теплой аурой обнимало его.
Но время тянуло, удлиняя безразмерно паузы между секундами, забывая вовремя отбить новый час, засыпая на ходу или пропадая в долгую спячку, двигаясь по-стариковски шаркающей походкой. Ожидание растягивалось, томило, становилось невозможным. Медвежонок, не шевелясь, сидел на том же месте и печально глядел в одну дальнюю точку – день за днем. Где-то там, почти за горизонтом, маячила будущая кроватка его хозяина, где-то виднелись контуры других игрушек, собранных здесь же. Сколько можно просидеть одному в неуютной комнате, без движения, без теплых объятий хозяина, без тепла его рук? Минуту? День? Год? Человеку, пожалуй, и можно, но плюшевой игрушке – нет. Ее жизнь – тень жизни ее хозяина, блеклый отблеск нашего бытия, в котором огонек теплится ровно столько, сколько мы помним о ней, сколько нежности мы ей дарим. Нещадно каменели жилы медвежонка, неутомимо покрывалась пылью его шкурка.
Это одиночество, раздирающее клещами изнутри. Когда того, ради кого ты создан, рядом с тобой нет. Когда тот, в ком заключен смысл твоих дней, где-то далеко. Но не было в храбром сердечке медвежонка ни бунта, ни протеста. С христианским смирением принимал он свое наказание. Возможно, наказание снисходит и на тех, кто безгрешен, кто не может идти против Бога, потому что есть его частица. Ждать и быть верным всегда и что бы ни случилось – вот единственный завет игрушки. Как ждет прощения и остается верным небесам святой праведник. Потому что как человеку не понять посылов Великой силы, целей испытаний, достающихся ему, так и медвежонок не мог понять, где его хозяин, почему его так долго нет. Надо ждать и верить, потому что, если хоть на секунду допустить мысль, что его нет, значит утратить в себе огонь жизни.
Есть ли радость в цветении лета? Может ли быть отдохновение в песне птиц? Должны ли воскрешать лучи солнца? Все одно – пустыня, тусклое бесчувствие, когда ты назначен природой быть с тем человеком, а его рядом нет. Когда твое развитие очерствело. И мир, в котором чахнет последняя надежда, пусть даже мир рассвета и великолепия – этот мир тебе не уютнее, чем могила.
В одну ночь медвежонок проснулся от страшной муки. Все тело дрожало, и его колотило. Он чувствовал, как какая-то сила невероятной мощи, зародившись где-то в другом мире, распирала его. Но в этой боли он вдруг ощутил счастье. Через эти страшные муки, через необычное напряжение всех сил организма, издалека, из другого мира, в нашу жизнь проникало что-то новое. И в этом чем-то новом было такое неуемное желание жить, что оно побеждало эту муку, все боли и истязания. Стоило недугу отойти, как медвежонок пал без чувств.
На следующий день, как только расцвело утро, впервые за долгие месяцы раскрылась дверь, и в комнату внесли тельце в чепчике. Тельце пугливо озиралось, не понимая, где оно очутилось – будто бы еще вчера оно не рвалось с таким остервенением в этом мир! Тельце было совсем маленькое и слабое, невозможно было поверить, что оно могло вчера решиться на такой подвиг, что в нем нашлось мужество принять вызов боязни перемен и стойко пройти путь освобождения от пут мира прошлого.
Медвежонка положили рядом с его хозяином, и он всем телом, всей своей лаской, всей душой прижался к малышу. Хозяин! Его единственное счастье в этом мире!
И в этом крохотном беззащитном тельце, в малюсеньких ручках, в сопящем носике, в пухлых щечках – сокрушительная и бесповоротная победа бессильных людей над неодолимым естеством смерти.
Precipitato[17 - Precipitato – стремительно (ит.).].
Приди, бархат ночи, затаенное вдохновение, сумбур ощущений! Согрей меня, мгла, своим дивным светом. Уйдите, солнца лики! Ночь, отдайся власти тайных желаний своих.
Душа, открой двери прекрасному… Зарази эпидемией творчества… Вырви из глубины сознания нечеткие мысли, неясные образы, всю неиспитую боль, все невысказанное несчастье… Пусть одна нота вдруг вольется в другую моими нерастраченными ласками… Пусть две гаммы переродятся тонкой мелодией, способной искупить мою невыстраданную муку… Пусть из глубины естества польется чарующее откровение, которое вберет в себя весь мой скудный мир… Пусть моя мелодия будет ласковым платком к моим ранам, пусть гладит сквозь них истрепанное сердце, возбуждая желания, предавая помыслы разума забвению… Взгляните в глаза, мои звуки, расцветите в них фиалками… Дайте погибнуть в музыке, раствориться, исчезнуть в ней…
Вертись, Земля, вертись скорее! Чаруй и пьяни! Вертись, движимая миллионами детских улыбок, рождаемых каждой секундой, миллионами душевных томлений, рождаемых каждым мигом, миллионами криков радости, рождаемых каждым градусом твоего поворота. Это движение смены дня и ночи, зимы и лета, молодости и старости рождает бесчисленные порывы в миллионах сердец – творить новое и быть лучше. В едином порыве созвучием всех сердец на свете ликуй, Земля! Быстрее, дерзновеннее!
В неиссякаемом порыве творить, в нашем рвении к звездам – залог нашей вечности! В творчестве, этой сопричастности Божественному замыслу, сохранится и мое страдание, и моя любовь, и мое знание. Оно крупицей войдет в великую сокровищницу человеческого бытия и, перейдя к другим поколениям, вновь и вновь одержит победу над дикостью и смертностью.
?
?
Doloroso[18 - Doloroso – с болью (ит.).].
Яков Иванович Ростовцев в забытьи и полубезумии рьяно крестился, невдумчиво лепетал молитвы и нескончаемо, страшно рыдал. Мало кого небеса проводят через такие ужасные испытания – у генерал-адъютанта умер сын. В бреду лихорадки он внятно просил отца принять сию смерть как кару, пообещать загладить свой грех. Вновь и вновь теперь возникали в памяти Якова Ивановича картины декабря 1825 года, когда он, честолюбивый юнец, словесно известил императора Николая I о заговоре декабристов. Великолепная карьера Ростовцева окончилась теперь этим склепом. В слезном исступлении генерал-адъютант поклянется исправить свой грех и из рьяного консерватора станет, наряду с Милютиным, одним из главных защитников и творцов Крестьянской реформы 1861 года.
Была ведь и другая Россия! Иначе откуда бы, из чьих культурных зерен (ведь не одних же французских), из какой почвы прошлого могли бы появиться такие прекрасные слова идейного вождя декабристов Николая Трубецкого: «Истинное благородство – это свобода; его получают только вместе с равенством – равенством благородства, а не низости, равенством, облагораживающим всех»? Ведь не могли эти слова вырасти из самодержавной агонии? Значит, подспудно рядом с официальной Россией всегда жила другая Россия – Россия вольнодумной интеллигенции, казачества и вольного люда, Россия простых людей, свободных духом. Только почему другие слова, а не эти стали лейтмотивом нашей многострадальной истории, жезлом нашего национального самосознания?
Народ русский, век за веком возрождаясь после очередных чисток, верил, что особый путь Руси не может идти по замшелым тропам угодничества и холопства перед властями предержащими, а этот путь должен непременно пролегать по дороге уважения к отдельному человеку и всему народу.
Откуда же этот миф про нашу ограниченность и предопределенность нашего будущего? Не сама ли власть, сама себя убеждавшая веками, что всякое изменение в России возможно только сверху, по ее инициативе, и увещевала себя, а затем и нас, что мы для любого изменения сами не созреваем, что народ в России всегда именно такой, как его и хочет видеть власть? Да неужели поколения наших великих собратьев, веривших в другую Россию, живших и умиравших ради ее свободного будущего, достойны таких слов? И какая Россия – закостенелая параличом властной вседозволенности или свободная духом и помыслами, та, что называла себя народнической, или другая, стремившаяся стать народоправской, – и есть подлинная Великая Россия?
?
?
Con brio[19 - Con brio – одухотворенно (ит.).].
Двадцать шестого июня 363 г. н. э. близ Ктесифона от тяжелых ран, полученных в бое с персами, умирал римский император Юлиан II. Страшные муки раздирали его тело, но душа будто заблудилась впотьмах и все не могла найти себе исход. Все свое недолгое правление Юлиан посвятил безуспешной борьбе с христианством, которое уже было на тот момент официальной религией империи. Он вновь и вновь задавался вопросом и все никак не мог найти ответа: что в этом противоборстве христианских иерархов иного, более просвещенного, нежели в римской религиозной терпимости, в поклонении языческим богам? Чем эта философия, столь радикальная и непримиримая, лучше философии неоплатонизма, столь усердно ею отвергаемая? В чем великая сила этой секты и их учителя, галилеянина Иисуса?
Железные прутья, казалось, пронимали все тело, каждый шорох отдавался агонией, зрение туманилось и расщепляло мир на неясные, обрывочные куски. Что толкало людей в костры, на кресты распятий, на арены с дикими животными? В чем черпали они силы своего фанатичного упорства, своей безумной уверенности? Как могла кучка плебеев пережить гонения, чтобы затем сокрушить великий Рим? Какая сила могла противопоставить себя священной власти императоров?
В полузабытьи предсмертных стенаний Юлиан уже не видел своей палатки, лекарей и соратников. Его неумолимой силой затягивал слепящий белый поток, его руки опутывали какие-то спруты, так что он уже не мог шелохнуться – они вонзались в грудь и выдирали оттуда его жизнь, медленным огнем опаляли его кожу. И тут его распадающееся сознание сотворило последнюю ясную мысль: вдруг все это есть, вдруг все это правда? Вдруг возможен иной конец, и стоит только поверить и раскаяться? Вдруг воскрешение, пусть неземное, в другом мире и другом состоянии возможно? Вдруг есть другой исход, кроме тления? И чем может быть сила, способная спасти человека, если даже сила императора бессильна перед смертью? Что это за сила, которая смиряет людей, уничтожает между ними неравенство, как не сила веры в спасение?
В груди загорелась ярко какая-то исполинская мощь. Теперь нестрашно стало идти в пасть льву или под гвозди распинающих, потому что внутри теперь был свет всеобщего единства и равенства – свет небесной свободы. Свет нашей веры в спасение Иисуса Христа! Император последним сплочением воли приподнял руку и захрипел: «Ты победил, галилеянин!».
Так неужели надо непременно пройти через вехи деспотизма, испить кровь народных бичеваний и убийств и оказаться на грани крушения и гибели, чтобы понять, что христианский смысл, столь искренне и долго искомый русской душой, состоит в апологетике независимой личности и той силе земного освобождения и равенства, которой учение заражает людей?
?
?
Espressivo[20 - Espressivo – выразительно (ит.).].
Тирания любви… Чьи узники безмолвны и ничтожны… В каком исступлении покоряемся мы ей, как доверяем последнюю разумность, какие самоубийства души кладем ей на алтарь? Тирания счастья… Вроде блеющих овец идем мы к благополучию и умиротворенности, уверовав, будто в них и заключен смысл жизни… Тирания жизни… Необъятные ее потоки направляют русло наших дней, так что, похоже, мы и не властны совсем над своим будущим… Четко отмеряет она нам вехи – от зари юности до захода старости, – не разбираясь в нас, отмеряет каждому свой срок так, что нашему сознанию остается всегда лишь подстраиваться под ее невнятные замыслы… И какая свобода возможна в оковах этих тираний? Всякая свобода под их тенью обращается издевкой… Возможна ли высшая свобода лишь при полном смирении человека перед движущими силами истории? В его отказе от извечного опустошительного бунта против природы?
Но нет, вспомните, как младенец борется за свою независимость, как стремится дышать, ходить и говорить самостоятельно. Как сопротивляется каждому насилию, каждому навязыванию чужой воли, как борется за самостность. Каждому малышу непременно нужно доказать, что он уникальная самостоятельная личность (вот ведь, а всякая тирания стремится ровно к обратному – сделать всех одинаковыми). Свободу человека можно ограничить, его жизнь можно направлять, но уничтожить этот инстинкт к независимости можно, лишь уничтожив саму личность. В нас живет инстинкт свободы: встретив препятствие, мы всячески стараемся его преодолеть, освободиться от него. Искомая человеческим социумом свобода того же характера – это возможность деятельности в условиях отсутствия внешнего целеполагания, это политическая система, в которой элита выражает волю общества, а общество способно контролировать элиту.
Вдумайтесь в русское слово вольность… Воль-ность… Вольность – это воля, это простор действий и помыслов, который мы сами для себя открываем… Наперекор власти, природе и жизненной предопределенности…
Но, помимо воли инстинктивной, природной, есть в нас и иная воля – воля духа, свобода любить и верить, творить и созидать. Зароненное в нас Богом стремление к такой свободе делает нас ответственными за наш путь, приговаривает к необходимости ответа перед лицом смерти и Высшего суда. В этой ответственности, наложенной на человека, и есть оправдание свободы. Ведь без свободы помыслов и чувств человек не властен определять свой путь, а значит, не может и быть ответственным за него.
Нам неведомы замыслы провидения, но одно необратимо – дихотомия нашего мира, сосуществование в нем добра и зла, не может быть оплошностью, в ней должен быть величайший смысл. Игра творения построена на том, что Господь, создавая мир, разделяет в нем добро и зло, и только человеку Он дает разум, который должен сделать выбор между ними и прийти к Богу. Но этот выбор должен быть свободным и осознанным, человеку следует самостоятельно пройти духовное самоопределение, самостоятельно внять закону совести, самостоятельно полюбить добро, самостоятельно прийти к истине и самостоятельно познать акт духовного творения. Кто знает, быть может, в этой острастке человеческого духа и разума – отбор лучших для иных, великих, но не ведомых нам целей? И поэтому свобода есть цветок благодати Духа.
Несвободное государство в таком разрезе – симбиоз языческого атавизма и варварского мракобесия, явление, противное духу современности, духу христианского сознания. Деспотизм выступает больше, чем против прав человека, он идет против самого смысла человеческой жизни.
Vivo crescendo[21 - Vivo crescendo —
живо, увеличивая громкость (ит.).].
Боже, как же хочется жить! Как хочется просыпаться с солнцем, улыбкой встречать каждый новый день с его заботами, омывать лицо ледяной водой, выходить на холодный воздух и босиком бежать по окропленным росой лугам, поцелуем будить жену и детей, непринужденно обсуждать за завтраком планы на день и текущие проблемы, погружаться в дела, общаться с людьми, пытаться решать сложные задачи, ставить перед собой новые цели, встречаться с друзьями, ходить в театры и музеи, читать книги, слушать музыку, писать письма, путешествовать, мечтать о будущем, играть с маленькими, видеть, как меняются старшие, изведывать новые ощущения, пробовать новые блюда, выезжать на природу, изматывать себя до изнеможения, засыпать, веря в счастье нового дня, творить, влюбляться, страдать от непонимания, возрождаться надеждой, жить каждой секундой, каждым отведенным мгновением… Боже, как хочется!
Жизнь – это подаренная нам свобода! Свобода от иного мира, от предопределенности, свобода искать свой путь и двигаться по нему, свобода быть самим собой, свобода любить и творить! Жизнь – это попытка ощутить себя божеством, смысл которой через претворение своей свободной воли прийти в лоно Свободы Высшей, свободы небесного Творца! Уничтожая в человеке свободу, мы уничтожаем в нем Бога! Жизнь – это Свобода!
Император обмакнул перо еще раз и подписал проект Конституции.
?
?
Larghetto[22 - Larghetto – довольно широко, протяжно (ит.).].
За мыслями, нестройными, хаотичными, почти пролетела ночь. Следующим утром, 1 марта 1881 года, император отправится в гости в Михайловский дворец, а по дороге обратно будет убит бомбой террориста.
В его крови на Екатерининском канале на мгновение отразится реакция, имперский шовинизм, бунты и войны, гражданская бойня, красные знамена, чистки, застой, коричневый разгул и необъятные моря людской крови – все черное и беспросветное будущее России.
Слезы души по щепоточке, по капельке годами будут идти сюда из самых дальних сторон осиротелой и неутешной Руси – и слеза к слезинке, ряд к ряду, строй к строю вырастет здесь грандиозный собор во имя Спаса на Крови. Душа русского народа, истерзанного, измученного, истравленного, поруганного, возвысится здесь стройными стенами, разогнется спиралями луковичных куполов и устремится в самую-самую высь, в необъятное, вечное, великое небо, в то спокойствие и ту чистоту, к своему невыстраданному, непонятому, непознанному, неискупленному спасению. Спасению, пришедшему не от заслуг, но спасению, прощающему страшные грехи этой земли, спасению единственно от милости Высшей. Ибо не ведают, веками идя вновь и вновь в жерло ада, отстраивая новые и новые его жернова, возвеличивая раз за разом извергов и губителей своих, не ведают. Но здесь, скинув с себя оковы гордыни, вдруг обратится русская душа той неповторимостью и соборностью, которыми себя всегда неугомонно бахвалила. Обратится в глубоком смирении, в прощении, в раскаянии. Собор, покрытый мозаикой, будет соткан миллионом стеклышек, застывших навеки слез русской души, потерявшей на этом месте свое освобождение и свое успокоение, будет создан миллионом хрусталиков слез, постигших в раскаянии прощение и благость.
Мучительная скорбь, одна безысходная, ноющая, терзающая, губящая боль останется во всяком, кто зайдет сюда внутрь. Дико завопит необратимая потеря, потеря покоя, надежды и будущего. В хладном граните омертвится русское спасение. И останется лишь мерцать, дрожа, будто в ознобе, тонкое и почти прозрачное пламя огарка свечки. И глядя на это слабое, но не сдающееся рачение огонька тянуться вверх, вновь, как при входе в собор, но теперь еще глубже и отчетливей пробудится слабая вера в Высшую милость.
Ибо когда взгляд человеческий начинает медленно подниматься от приземленных плит фундамента Спаса на Крови вверх, вдоль иконостаса, выше и выше вместе со светом и спасительной для мира сего красотой, то и душа человеческая внезапно взмывает к Небесам, чтобы встретить там облик Спасителя и воскликнуть: «Господи, помилуй нас!».
Когда, удрученный болезнью, восчувствует он приближение кончины земного бытия своего: Господи, помилуй его. Когда бедное сердце его при последних ударах своих будет изнывать и томиться смертными муками: Господи, помилуй его. Когда очи его в последний раз орошатся слезами при мысли, что в течение жизни оскорблял он Тебя, Боже, грехами своими: Господи, помилуй его. Когда частое биение сердца станет ускорять исход души его: Господи, помилуй его. Когда смертная бледность лица его и холодеющее тело его поразят страхом близких его: Господи, помилуй его. Когда зрение его помрачится и пресечется голос, окаменеет язык его: Господи, помилуй его. Когда страшные призраки и видения станут доводить его до отчаяния в Твоем милосердии: Господи, помилуй его. Когда душа его, пораженная воспоминаниями его преступлений и страхом суда Твоего, изнеможет в борьбе с врагами его спасения, силящимися увлечь его во мрак мучений: Господи, помилуй его. Когда смертный пот оросит его и душа в страданиях будет отдаляться от тела: Господи, помилуй его. Когда смертный мрак закроет от мутного взора его все предметы мира сего: Господи, помилуй его. Когда в теле его прекратятся ощущения, оцепенеют жилы и окаменеют мышцы его: Господи, помилуй его. Когда до слуха его не будут доходить людские речи и звуки земные: Господи, помилуй его. Когда душа предстанет лицу Твоему, Боже, в ожидании Твоего назначения: Господи, помилуй его. Когда станет внимать праведному приговору суда Твоего, определяющего вечную участь его: Господи, помилуй его. Когда тело, оставленное душою, сделается добычей червей и тления и, наконец, весь состав его превратится в горсть праха: Господи, помилуй его. Когда трубный глас возбудит всех при втором Твоем пришествии и раскроется книга деяний его: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного раба Твоего Александра.
Господи, помилуй, ибо в прощении его помилуешь весь русский народ. Ибо без прощения за гибель сию не увидеть народу нашему света Твоего освобождения.
Москва
январь 2009
Флоренция
«Красота спасет мир», – я всматривался в эти слова Федора Михайловича Достоевского в романе «Идиот», ставшие крылатыми для русской культуры. Красота, которая в истории всегда уступала силе, должна спасти мир? Учитель ведь правильно объяснял, что писатель имел в виду не эстетическую красоту, а духовную. Но почему он тогда прямо так и не написал, что мир спасет добро или духовность? Нет, именно красота.
Я заглянул в конец романа и застыл на последней записи «Флоренция, 1869». Писатель создавал это загадочное произведение не в России. Как влияет на нас место, в котором мы находимся? Формирует ли пространство наш образ мысли? Каким должен быть город, чтобы в нем родились эти странные слова, что мир спасет красота? Я загорелся тогда идеей разгадать флорентийскую загадку Достоевского. Когда через несколько лет студент университета получил премию правительства и первые в жизни большие деньги, он не сомневался, на что их потратить.
Попав в город, я сразу понял, что ошибался. В нем не нашлось той кристальной и абсолютной красоты, которой я ожидал, но было какое-то странное очарование. Этот город будто бы очнулся когда-то ото сна мрачной феодальной эпохи, расправил улицы и площади, вспомнил свои римские корни, вдохнул дух свободы и творчества и застыл – одной ногой в Средневековье, другой – в Ренессансе. Европейские представления о прекрасном крепли и утверждались в разных уголках континента, но родились почти все они во Флоренции – мировой колыбели красоты.
В первой половине XV века Филиппо Брунеллески заканчивает строительство кафедрального собора Флоренции – Санта-Мария-дель-Фьоре. Вдохновляясь возведенной Джотто изящной и грациозной колокольней собора, архитектор создает грандиозный, но легкий и пластичный купол, который разрушает замкнутый и давящий готический канон в архитектуре. Всматриваясь в новые формы собора, флорентийский банкир Лука Питти решает превзойти правителей города – Козимо, а затем его внуков Лоренцо и Джулиано Медичи. Он не придумывает ничего лучше, чем просто заказать постройку собственного палаццо с окнами больше, чем вход во дворец Медичи. Палаццо Питти получается суровым и неказистым, но именно его большие окна станут эталоном архитектуры нового времени.
В то же время на площади Синьории в подражание древнеримскому форуму Микеланджело Буонарроти ставит скульптуру Давида, а Донателло – Юдифи. Любовь ко всему латинскому проникает в жизнь горожан вместе с произведениями еще одного флорентийца – Франческо Петрарки. Его отец, юрист Пьетро ди сер Паренцо, был изгнан из Флоренции вместе с другим великим итальянцем – Данте Алигьери. Воспитанные во флорентийском духе, Данте и Петрарка откажутся возвращаться в город, предавший их.
Здесь же рядом, на соседней с домом Данте улице, живет Леонардо да Винчи и рисует портрет супруги торговца шелком Моны Лизы. Он подражает манерам старших собратьев: Боттичелли, Липпи, Верроккьо.
Как случилось, что в относительно небольшом городе с населением около ста тысяч человек в течение двух поколений родилась половина всех гениев человечества? Каждого из них было бы достаточно, чтобы навеки прославить столицу Тосканы. Но они жили здесь бок о бок, общались, подражали и завидовали друг другу, порой враждовали. Оказавшись в одну эпоху в одном городе, плеяда гениев создала такую атмосферу конкуренции, которая раскрыла каждого из них больше, чем если бы они жили по отдельности. Но каков был импульс, что привел в движение историю именно здесь, во Флоренции?
Мне нужно было уезжать из города, а загадок становилось все больше. Понимая, что мне их не распутать, я двинулся в Галерею Уффици. Этот музей – самый маленький из величайших в мире, но, пожалуй, чуть ли не самый ценный. Я поднялся по лестнице, прошел мимо длинного ряда скульптур и оказался в зале Сандро Боттичелли, и здесь мне все стало понятно.