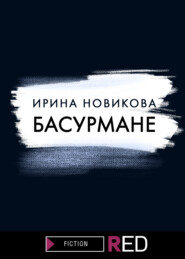скачать книгу бесплатно
«Даш, ты чего? – сонный Антон проснулся и поднял голову. – А ну брысь!»
На Дашиной стороне кровати, у ее головы, развалился огромный котище. Он лежал спокойно и невозмутимо, перебирал мохнатыми лапами и довольно урчал.
За завтраком Тимофеич угощал таинственными историями.
– Место это называется Дурман-гора. И оно ведь неспроста так называется! Там странные вещи происходят. То, что машины глохнут, – это нормально. Ни с того ни с сего – хоп, и не заводятся. Не вы первые, не вы последние. Связь там пропадает постоянно. Ну и упадок сил, голова кружится, все такое… Почувствовали, а? – Тимофеич торжествовал.
– Да ладно вам, байки все это. Аккумулятор мне менять надо было, не успел перед поездкой. Связи нет – ну бывает. Стечение обстоятельств, в общем, – утром Антон был явно бодрее, чем вчера вечером.
– Ну стечение так стечение, – рассмеялся Тимофеич. – Тут такое постоянно стекается. Многие не верят, а потом сами убеждаются. У меня как-то географы гостили из Саратова. Обычно здесь археологи табунами ходят. А тут вон чего – по другой части специалисты. Говорят, раньше – лет, наверное, миллион назад – на этом месте был вулкан. И вот с тех пор там осталась какая-то аномалия. Заметили это очень давно, поэтому и назвали место Дурман-горой. Тогда еще, конечно, не понимали, что за аномалия, и слова такого не знали, но видели, что что-то непонятное с человеком там происходит. Позже заметили, что и техника из строя выходит, и волны эти электромагнитные с пути сбиваются. Так что дело здесь не в Степановом проклятье, тут, видишь, вполне себе научное обоснование! – он с серьезным видом поднял вверх указательный палец.
– Бермудский треугольник какой-то, – проворчала Даша. – А люди не пропадали там?
– Всякое бывало. Про место это что только не рассказывают. Где быль, а где небыль – трудно разобрать. Но вот один случай на моих глазах был несколько лет назад, – Тимофеич задумался, отхлебнул чай из кружки и начал рассказывать: – Были у нас тут два хлопца, балбесы страшные. Любители погулять, пошуметь, по этому делу тоже мастера, – Тимофеич щелкнул пальцами по горлу, – выпить то есть любили. Работяги при этом! Но, как напьются, давай чудить. И вот раз с друзьями то ли поспорили, то ли просто разговор зашел, решили они за кладом ехать. Деревенские ведь тоже нет-нет да идут искать: не все же приезжим авантюристам отдавать. И вроде кто-то говорил про место одно секретное, что-то там уже находили, вот там и надо копнуть как следует. Дело было уже к вечеру, сели они в трактор, набрали с собой инструмента и уехали. Утром смотрят – а их все нет. И вечером нет. На следующий день утром опять нет. Решили тогда мужики ехать их искать. Хотите – верьте, ребята, хотите – нет. Но я тоже там был и сам все видел. Нашли их трактор. Овраг видели? Про него еще расскажу, там тоже интересно. Ну так вот, где овраг начинается – там еще не очень крутой сход вниз, лежит их трактор, перевернутый набок. Может, думаете, съехали с дороги по пьяни да и перевернулись? Может, конечно, и так, но следов от трактора там не было, и, если бы он перевернулся и падал, там бы помято-поломано все было, ну точно можно было бы увидеть. Но все кусты, вся растительность нетронутая. На тракторе особо повреждений нет и стекла не выбиты. Дверка – которая сверху оказалась – открыта. А самих хлопцев нет. Следов крови внутри тоже нет и снаружи ничего подозрительного не видать. Вообще ничего! – Тимофеич помрачнел, как будто заново переживал эту историю.
– И что же дальше? Нашли их? – спросил Антон, а Даша тихо молчала.
– Ну как сказать. Один так и пропал бесследно. А второй вернулся недели через две. Постаревший лет на десять, измученный какой-то. Но рассказать ничего толком не может: не помнит. Да он и имя свое с трудом вспомнил. Умом тронулся парень. Так его и зовут с тех пор: Егорка-дурачок. Тихий стал, мирный, почти не говорит, мычит в основном. Когда его начинают расспрашивать про то, что было, злится сразу, кричит что-то бессвязное, руками машет, как будто отбивается от кого-то. Страшно, видать, до сих пор.
Дед вздохнул и замолчал. Скрутил папироску, закурил. Антон задумчиво допивал свой чай. Даша вдруг вскрикнула, тут же вздрогнули и остальные от неожиданности: а это кот, тот самый мохнатый котище – нарушитель ее сна, подкрался незаметно и прыгнул ей на колени. Даша почесала кота за ушами, он довольно заурчал.
– Лет пятнадцать назад это было. С тех пор местные особо за кладами не ходят. Да и некому: разъезжаются из деревни люди, молодых не остается, а старожилам ни к чему это, – Тимофеич вздохнул. Антон ковырялся в тарелке, в ней еще что-то оставалось, но было не до еды. Даша смотрела куда-то за окно, гладила кота и вспоминала плохой ночной сон. – Тут вот еще что важно: в самой деревне, что в нашей, что в соседней, никаких странностей не происходит. А вот там, на утесе, да на Дурман-горе особенно, случаи бывают разные. Особенно по ночам.
– А овраг? – вспомнила Даша.
– Да и там тоже, как без этого. Овраг этот Тюрьминским называют. В нем якобы Стенька держал пленников своих: чтобы выкуп за них получить. Кого-то выкупали, а кто-то там оставался навсегда. Мрачное должно быть место. Но вот что странно: копали там археологи разные и не находили массового захоронения! А пленникам куда деваться? Там же все и должны лежать.
– Я читал про это место, – сказал Антон. – Но доподлинно неизвестно, был ли здесь лагерь Разина и тюрьма при нем, или же это только легенда.
– Да, это так. Никаких вещественных доказательств! Сколько бы ни говорили про трон его из слоновой кости, про клады и про пленников, ни-че-го от времени Степана здесь не находили. Зато Маринкиного добра тут сколько хочешь! Хотя вот его быть не должно, – Тимофеич решительно стукнул кружкой по столу.
«Удивительный он человек, – думала Даша. – На первый взгляд простой огородник. Но сколько научных экспедиций на его счету, сколько книг прочитано! Он знает об этих местах, наверное, больше, чем все археологи, вместе взятые. А сколько путешественников, энтузиастов, авантюристов он повстречал на своем веку. Не говоря уже обо всех мифах и легендах, которые заботливо собирал еще со времен своих дедов и прадедов. А рассказывает о них как! Да по нему театр горько плачет».
– Погодите, а Маринка – это кто? – она не поняла, откуда вдруг на местной сцене появился еще один персонаж, да еще женского рода.
– Марина Мнишек. Не успел тебе рассказать, – объяснил Антон.
– Она самая. Но это уже совсем другая легенда, – Тимофеич снова поставил на плиту чайник. Разговор затянулся, а вместе с ним не заканчивался и завтрак.
– Так вот, ребята, здесь все наоборот: то, что она сбежала сюда и здесь скрылась, история не подтверждает. Теоретически здесь ее следов быть не должно. Но вещественных доказательств – навалом! – он развел руками, как-бы показывая вокруг себя. Даша машинально проследила глазами за его руками: ну и где же они, следы эти?
– Марина Мнишек – авантюристка, каких свет не видывал. Она была женой Лжедмитрия и, соответственно, лжерусской царицей. Считается, что после разоблачения умерла в заточении в башне Коломенского кремля. Но есть также версия, что она оттуда сбежала, каким-то образом добралась до Волги и скрылась здесь со своими сокровищами. История сомнительная, потому что сбежать из заточения само по себе непросто, тем более женщине. Потом еще тысячу километров на перекладных до этого берега. И это в начале семнадцатого века, задолго до Степана. Как? И опять же, почему сюда? Ответа нет. Тем не менее версия такая существует. Читал я где-то, – добавил Антон.
– Вот именно, существует! И лежит она с тех пор нарядная в пещере с драгоценностями своими, и находили их там не раз. Так она из гроба встает, и похитители сразу же замертво падают либо выбираются из пещеры, но рассудок теряют, – мрачно закончил историю Тимофеич.
– Что же им всем именно здесь захотелось лежать? Кто тут у вас еще прячется, говорите сразу, – Даша попыталась пошутить, но получилось не очень весело.
– Маринка, ведьма эта, если бы не сокровища, не нужна была бы никому. Никто бы про нее и не вспомнил. А вот Степан – другое дело. Степана в народе всегда любили. Сперва – казаки и крестьяне. Потом – либерально настроенное дворянство. А потом, конечно, пролетариат и советская власть. Так он и остался в истории бунтовщиком, освободителем, но не разбойником.
– Ну все, ребята, хватит болтать, – Тимофеич резко поднялся и направился к калитке, – байки байками, а теперь поедем за машиной вашей. Сейчас я мужиков организую.
Потом так же резко остановился и обернулся к ребятам:
– Я уверен, что сейчас все нормально заведется.
Машина и правда сразу же завелась. Даша быстро уселась в кресло: оставаться на горе ей не хотелось. А вот Антон был не против побыть здесь еще. Тимофеич с дружками не очень торопился, и все решили задержаться: в такой компании да при свете дня гулять было намного спокойнее и безопаснее. Старшие развалились на траве и закурили, а гостей отпустили прогуляться по утесу одних.
С первыми лучами солнца в этих местах не оставалось ни капли мрачности и таинственности: гора как гора, овраг как овраг. Отсюда, с самой высокой точки округи, открывался лучший вид на простор реки и врезающийся в него утес: волжские волны налетали на белый мел скалы, взбивались в пену и отступали, чтобы через несколько мгновений налететь снова. Наверное, больше нигде на всем течении Волги нет таких волн, как у утеса: ощущалась здесь морская мощь и ширь. Да и река здесь настолько широка, что противоположный берег не всегда можно увидеть.
– Тош, ты правда веришь во все эти истории? – спросила Даша.
– Трудно сказать. Моя рациональная сущность сопротивляется. Есть факты, с которыми не поспоришь. А есть вроде и не факты, вроде ерунда какая-то, небылицы, но они всеми подтверждаются. Обосновать их невозможно, но отвергнуть не получается. А дыма без огня не бывает, – Антон задумался. То, с чем они столкнулись в этом странном месте, действительно не поддавалось никакой логике.
– Вот что особенно удивительно: почему же здесь не находили вообще ничего? За последние сто лет в этих местах взрыли все, что только можно, каждый метр земли. Да и до этого, скорее всего, тоже искали. Должны же быть хоть какие-то находки!
– Давай попозже у деда нашего спросим. Интересный он. И умный. Пусть еще что-нибудь расскажет, ужасно интересно!
Утес Степана Разина обрывается круто в Волгу, но есть у его края узкая полоска берега. Когда вода поднимается – она слизывает его языками волн. Когда немного уходит – берег обнажается, остается небольшой его пятачок, каменистый участок, с которого можно войти в реку. Пляжем это место не считается, да и кому нужен тут пляж? Немногочисленных местных жителей если и интересует Волга, то больше на предмет какой-то надобности: рыбы наловить, к примеру. Отдыхающих здесь нет. Ну а для авантюристов-исследователей достаточно и этого клочка, чтобы совершить ритуальное омовение: быть у воды и не умыть рук – не дело это. А если быть в таком месте, овеянном легендами, – не дело это вдвойне. По краю оврага (ох, не нравится это имя – Тюрьминский) можно спуститься с утеса прямо к воде. Ну а дальше – осторожно по камням и сразу в волны.
Вода в Волге в конце лета еще очень теплая. В жаркий день она не очень-то освежает: только окунешься – приятная такая прохлада нежно стирает с соленой кожи подпалины от солнца, только выйдешь из воды – за минуту исчезают с кожи блестящие капли, а с ними и воспоминания об этих освежающих ласках.
Даша поплескалась немного в воде, а теперь сохла на берегу, подставляла солнцу то лицо и живот, то спину и макушку. Потом еще ненадолго занырнула в волны и снова на берег. Антон не хотел выходить, решил наплаваться до изнеможения. Даша перебирала камешки на берегу: гладкие, отполированные волнами и временем. Сколько ног ходило по ним? Сколько веков облизывали их волжские волны? Мы здесь всего на мгновение, а они? О времени не задумываешься, пока не столкнешься с ним вот так, лицом к лицу и не поймешь, что не в силах его ни понять, ни измерить.
Тимофеич ждал их наверху. Непривычно ему вот так валяться на солнышке без дела, но оставлять их одних он не захотел: так спокойнее будет. Как только они, еще немного мокрые и очень довольные, поднялись на утес, показал куда-то в небо:
– Вон он, смотри-ка, следит за нами. Орел. Один он здесь такой.
Над берегом кружила огромная птица. То уходила выше, то спускалась чуть ниже, но ни на секунду не пропадала из виду и не упускала из своего поля зрения гостей утеса.
– Совсем один? – удивилась Даша.
– Вообще степные орлы живут южнее. В сторону Волгограда поедете – там их больше будет. А этот – атаман, охраняет северную границу. Мужики говорят, что это дух Степана смотрит за своими владениями и нет ему покоя.
Пусть и легенда, но она была очень похожа на правду. Даша задрала голову и не могла отвести взгляда. Совсем один. А подруга? Должна же у него быть своя орлица. Говорят, орлы, как и лебеди, образуют пары на всю жизнь. Про лебединую верность знают все, а вот про орлиную известно совсем немногое. А ведь эти красивые сильные птицы, выбрав друг друга, уже не расстаются.
Не успели они добраться до дома, как Даша опять накинулась на Тимофеича с вопросами:
– Со Степаном более-менее понятно. Он, по крайней мере, действительно существовал. И в этих местах бывал. А вот княжна: может, ее выдумали?
– Скорее всего, нет. Не выдумали. Про нее даже что-то известно. Княжна была дочерью местного военачальника или даже правителя. Там, в Персии. Ее захватили в плен после сражения у Свиного острова, это недалеко от Баку. Этому есть множество свидетельств, сражение вошло в историю как одно из самых крупных в то время. А вот дальше уже не так точно. – Тимофеича можно было слушать бесконечно. Вот и сейчас они позабыли обо всем, разлеглись на пряной высохшей траве на пригорке и приготовились к новой порции легенд. – Есть романтическая версия: Степан в эту девушку влюбился и сделал ее женой. Ну ладно, подругой. Потом приревновал ее к одному из своих бойцов и в состоянии аффекта швырнул в реку.
– Значит, другая версия должна быть прозаическая. Ничего личного, только секс. Утрирую. А в Волгу кинул, чтоб в жертву принести, – заключил Антон.
– Да уж. Поматросил и бросил, – нахмурилась Даша.
– Примерно так, – согласился дед. – И вот именно эта версия считается, как бы так сказать, канонической. Именно об этом и песня. Поразвлекался атаман с добычей – и с глаз ее долой. И про жертву там тоже есть слова, это правда, – согласился он и напел негромко откуда-то с середины песни:
Волга – русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака.
– А вот вам какая история кажется более правдивой? – не унималась Даша.
– Да любил он ее, ей-богу, любил! – вздохнул Тимофеич, который явно был за романтику. – Зря, что ль, так убивается. И вернулся к ней, понятное дело!
– Знаете, что-то здесь не сходится, – вмешался Антон, который долго молчал, погрузившись в раздумья. – Все источники говорят о том, что Разин был человеком довольно уравновешенным. Жестокостью и кровожадностью он не отличался, как говорится, лишней головы не снесет. При этом он обладал таким авторитетом, что подчинялись ему беспрекословно. Одного его слова было достаточно! Дисциплина в войске была железная. Но, что самое интересное, он пресекал аморальное поведение. Не разрешал казакам браниться! По крайней мере без веской на то причины. Вы можете такое представить? Я вот – с трудом. Но самое главное то, что он уважительно относился к женщине и другим не позволял грубого обращения. Запрещал своим бойцам портить девок. Грабеж, разбой в захваченном городе – пожалуйста. А вот девушек не тронь. Не приветствовал супружескую неверность. Наказывал, если узнавал, что кто-то из его окружения ведет себя недостойно и женщину обижает. Это очень необычно для разбойника, вам не кажется? – Антон не ждал ответа, ему не терпелось высказать свою версию. – И вот теперь давайте представим, что человек, который может высечь казака за то, что тот возжелал жену ближнего, со своей женщиной обращается самым негуманным образом. Я сомневаюсь, что такое возможно. Это же противоречит его убеждениям!
– Ты, Антоха, я смотрю, основательно подготовился. Изучил матчасть. Об этом действительно много есть свидетельств, не ты первый обращаешь внимание на такое противоречие. С Макарычем, помню, тоже мы об этом говорили. И в книге его именно так Степан показан: человеком мудрым, гуманным, с высокими моральными качествами. По крайней мере в начале его приключений он был таким. Позже, когда его похождения приняли другой масштаб, когда это стало уже военным походом, многое изменилось. Вышло из-под контроля. Но тут уж, как говорится, на войне как на войне. Там не место для гуманности и времени нет разбираться, поэтому рубили направо и налево. Опять же, все зависит от того, с чьей стороны смотреть. Для врагов он был, понятное дело, жестоким и кровожадным убийцей. А для своих – мудрым и бесстрашным вождем. А где здесь правда? Как оно вообще было на самом деле? Никто точно не знает.
– Как любит говорить мой Антоша, доподлинно неизвестно, – грустно заключила Даша.
– Семнадцатый век, Даш. Люди неграмотные были, писать не умели, – он начал кипятиться. – Основные события зафиксированы, да. Опять же, официальная их версия! Государственная! Про частную жизнь тогда не очень было принято разглагольствовать. Подождите, а Макарыч – это Шукшин, значит? – опомнился Антон вдруг.
– Он самый, – кивнул дед. – Встречались мы с ним. Расскажу вам попозже, коли интересно будет.
В прогулках и разговорах день пролетел быстро. Завтрак был поздний, а поужинать надо было рано, чтобы выспаться перед дорогой: завтра утром снова в путь. Только сели за стол, тут же припомнили Тимофеичу его обещание:
– Вы нам теперь про себя расскажите!
– Ну а что, можно и про себя немного, ежели вам так интересно. Родом я отсюда, из этой вот деревни. Родители мои здесь жили, и их родители тоже. Деревня раньше больше была, после войны кто-то не вернулся, кто-то позже в город уехал, так часть домов и запустовала. А вот в последние лет двадцать и совсем жителей поубавилось: молодежь уезжает, делать-то тут нечего. И я тоже уезжал. Учился в городе, так там и остался. А получилось это вот как: все эти легенды про Степана очень меня занимали. Хотелось знать больше, как оно было на самом деле, с чего началось, чем закончилось. Вот и пошел я на исторический. И сразу для себя решил, что буду изучать все про Разина, – Тимофеич сначала скромничал, но потом разошелся. Да и слушатели ему попались внимательные и любознательные. – Летом пропадал здесь на раскопках. А весь учебный год – в библиотеках да в музейных архивах. Я же, ребята, даже книгу написал. Попозже покажу вам ее. Так вот, после университета остался я при кафедре. А попутно работал в краеведческом музее. Ну и семью завел, конечно. С нею, правда, не очень сложилось. Бывает и такое, – дед вздохнул и продолжил свой рассказ, – и вот что характерно – все время меня сюда тянуло. На родной берег. Родители, когда постарели, хворать начали, я и перебрался обратно в деревню в помощь им. И не вернулся уже. Мы с батей еще раньше дом затеяли строить большой. Отстроили, значит, все как надо. И стали пускать на постой то археологов, то еще каких гостей. Так и пошло. Потом я еще что-то достраивал сам, чтоб посолиднее да посовременнее было. Вот этим и живу теперь.
– А семья ваша как же?
– А никак. С женой у нас не ладилось, еще пока в Саратове жили. Потом, когда уезжать собрался, она со мной в деревню ехать не захотела. Да я и рад, честно говоря. Сын ко мне иногда приезжает. Ну как приезжает. Раза три за все время, что я здесь живу. Созваниваемся иногда. У него своя жизнь, ему это все неинтересно.
– Про книгу еще расскажите.
– Эх, засмущали меня совсем. Непривычно мне про себя рассказывать. Но раз такое дело – будет вам. Погодите минутку.
Тимофеич ушел, пошуршал в шкафу и вернулся, да не с одной, а с двумя книгами. Положил на стол одну, а вторую – себе на колени.
– Рассказываю по порядку. Вот это моя книга. «Мифы и легенды Нижнего Поволжья». Здесь про Разина большая глава: и легенды, и достоверные факты, которые рассказывают о нижневолжском этапе его биографии. То есть с того времени, как он пришел в Астрахань с Каспия, и до того, как покинул Самару и двинулся к Симбирску. Написал я ее быстро, за год управился. И это в свободное от работы время. А вот материал для нее собирал много лет. Можно сказать, с детства. Тираж был небольшой, кроме узкого круга специалистов, никто, наверное, про книжечку мою не знает. Но несмотря на это… – Тимофеич погладил обложку, задумался, – благодаря ей я познакомился с одним замечательным человеком.
Ребята не торопили Тимофеича, хотя очень хотели продолжения. С каждой его историей становилось понятно, что самое интересное еще впереди. Что на этот раз он им откроет?
– А вот и вторая книга. Подарил мне ее Василий Макарыч и собственноручно подписал: Николаю Егорову с глубокой благодарностью. Крепко жму руку. Василий Шукшин.
– Ничего себе, – охнул Антон. Как же вы с ним встретились?
– А вот так. Василий Макарыч собирался кино снимать про Разина. Очень он им интересовался, всерьез. Собирал информацию в течение долгого времени, потом, когда многое уже было готово для фильма, проехался по его местам. Чтоб живьем все увидеть, вдохновиться. И еще дособрать нужный материал. В Астрахани он много был, в Саратов потом приехал. Я был на тот момент молодым ученым-краеведом, и книга моя только-только вышла. Вот не помню, как Макарыч про нее узнал, через музей вроде как-то. В результате отрекомендовали меня ему в лучшем виде, встретились мы с ним, пообщались, а потом и сюда поехали вместе. Хорошо мы тогда посидели, поговорили. И о Степане, и так, за жизнь. Я-то молод был, Макарыч – бате моему ровесник. Они отлично общий язык нашли, – дед выглядел счастливым и даже помолодевшим, он словно вернулся на сорок лет назад. – А вот дальше вышло все не по плану. Фильм снимать Шукшину не дали: зажали бюджет. А сценарий-то был уже готов. И он тогда его переписал и сделал книгу. Ее все знают: «Я пришел дать вам волю». И, когда она вышла, он мне прислал такой подарок с автографом. Звал я его на рыбалку к нам, и он хотел, обещал приехать. Только вскоре его не стало.
– Вот это история… – вздохнула Даша.
– Мировой мужик был Макарыч. А какой актер! А рассказы какие писал! Повезло мне, ох, повезло, что довелось с ним встретиться. Книга эта для меня самая большая ценность теперь.
На плите закипал чайник, а Тимофеич словно не слышал этого. Задумался, погрузился в воспоминания. Ребята не стали его тревожить, торопить. Даша сама разлила чай.
А ночью она не могла заснуть. Увиденное и услышанное за эти два дня никак не отпускало ее. Сокровища, призраки, кладоискатели – кино какое-то. Странным было то, что и она в нем уже тоже принимала участие. Даша мысленно отгоняла от себя весь этот шум, но он не уходил. А потом вдруг появился старик. И все остальное тут же стихло, потускнело. Смотрит он задумчиво куда-то вдаль и говорит – сам себе и никому вокруг: «Сокровища они все ищут… Хрен вам, а не сокровища! Не найдете вы тут ничего. Не отдам». Она только хотела сказать, что нет, нам ничего не нужно, но не успела. Старик исчез, или это сон закончился, или она просто не запомнила, что было дальше. Проснулась Даша от пения птиц, небо за окном светлело, рядом сопел Антоха. Она уткнулась носом ему в плечо и тут же заснула снова. А старик опять пришел, и стоял у кровати, и разглядывал ее: «Как же ты на нее похожа!»
– Даш, просыпайся! – Антон гладил ее по волосам. – Сегодня тебя никто не беспокоил?
Она сонно улыбалась и терла глаза. Странный сон не выходил у нее из головы. И самым странным было то, что он был очень настоящий. Этот старик, и его взгляд так и прожигает тебя насквозь.
Надо было вставать. Впереди долгая дорога.
Тимофеич с утра пораньше организовал им завтрак: блинов собственноручно напек, за сметаной свежей к соседям сбегал. Мед тоже был местный, степной разнотравный. С собой в корзинку уложил им дед столько еды, что до самой Астрахани хватит и маме останется. За эти два дня они так привязались друг к другу, что расставались теперь со слезами (особенно Даша, да и дед часто-часто моргал, чтобы скрыть и грусть, и эту соленую влажность в глазах). Казалось, что не просто так они встретились, словно связывает их что-то, роднит, но в силу времени и расстояния не виделись они долгое время. Договорились, что приедут еще. Будут звонить. И он будет.
И вот их машина запылила по дороге, Тимофеич у ворот провожал ее глазами, а Даша, высунувшись из окна, махала ему. Жители деревни отвлеклись от своих деревенских дел и тоже смотрели вслед уезжающим гостям. В их местах каждый новый человек, каждый приезд и отъезд – это уже маленькое событие. Когда выехали на проселочную дорогу, увидели, что и орел провожает их, кружит над дорогой, не упускает их из виду. Какое-то время он, казалось, плыл по небу за ними, круги его смещались плавно на юг, куда направлялись путешественники. Потом отстал, растворился в небе. Гости гостями, но свои орлиные дела важнее: нужно охранять сокровища.
Глава вторая. Дорога
Даша хоть и грустила, была рада, что пора уезжать: слишком уж насыщенными получились последние два дня. Очень много было такого, что не укладывалось в голове и теперь лишило ее покоя. И, если честно, ей было здесь немного жутко. А больше всего было не по себе именно из-за неспокойных снов: они были слишком реалистичными (со звуками и даже запахами) и очень уж тесно связанными с тем, что происходило вокруг, будто сны были продолжением историй. Интересно, у Антохи такие же ощущения? Или это у нее какое-то особое восприятие? Хотелось спросить, но как? Не может же она всерьез сказать, что во сне к ней являлся призрак Степана Разина. Именно такой, как описывал его Тимофеич: с бородой и в зипуне, с огнем в глазах. А кроме Антона поделиться было не с кем.
Даша вдруг очень остро почувствовала, что она совсем одна. У нее нет близких друзей. Точнее, друзья есть, но считать их действительно близкими, родственными душами она не может. Самым родным человеком для нее всегда была бабушка. Даша очень болезненно пережила ее уход и именно тогда осознала, что теперь у нее нет никого. У мамы своя жизнь. Отношения с нею не были натянутыми, скорее их почти не было. Формально они поддерживали связь, периодически созванивались и интересовались делами друг друга. Но в этом была некая отстраненность.
И вот сейчас, впервые за много лет, она ехала к маме. Идея этой поездки принадлежала не ей, Антону: надо же познакомиться с семьей любимой девушки. Это, по его мнению, было частью обязательной программы серьезных отношений. Главным формалистом из них двоих явно был он. Даша не возражала, нет, дело совсем в другом. Она не испытывала потребности в этой церемонии. Когда они с Антохой уже всерьез встречались, она мысленно представляла его бабушке: рассказывала о нем, думала, что бы бабушка сказала вот про это, а что – про то. Она смотрела на него ее глазами и оценивала по ее системе ценностей. Приходила к выводу, что бабушка бы их союз одобрила. Мама, конечно, была в курсе Дашиной личной жизни, но гораздо более поверхностно, чем это бывает в классических случаях материнской заботы и вовлеченности. И Даша не особенно старалась это исправить: она уже привыкла быть предоставленной самой себе.
У Антона эта ее самостоятельность вызывала уважение, хотя некоторые ее поступки и слова он понять не мог. Да это и вряд ли было возможно: слишком по-разному складывалась их жизнь. Они нечасто об этом говорили, очень немного еще времени провели вместе. Они так наслаждались тем, что было у них сегодня, и только-только начали заглядывать в свое совместное завтра. А на вчера, которое было у каждого свое, еще не успели оглянуться. И вот сейчас было очень подходящее время для этого: в этой совместной поездке, которая превращалась в приключение, они могли не просто лучше узнать друг друга, но и заглянуть в семейные тайники и даже заочно познакомиться со скелетами в шкафах друг у друга. Времени в дороге достаточно для разговоров.
Даша ушла в себя и загрустила, Антон не мог этого не заметить. Она всегда была довольно замкнутой и, если ее не спросить о чем-то, запросто может сама не сказать ни слова. Потому он и спросил. Даша сначала отвечала коротко и неохотно, но потом постепенно разговорилась. Вспомнила и про бабушку, и про родителей, и про себя в Астрахани.
– Меня воспитывала в основном бабушка. Она мне сначала няней была, а потом и лучшим другом. Мама совсем другая, она всегда сама по себе была. Может, и я такая в нее? Не знаю. Мы с нею всегда были порознь. Никогда не ссорились, не было противоречий у нас. Просто у нее своя жизнь, а у меня своя. А потом, когда она замуж решила выйти второй раз, точнее, третий, мы и вовсе разошлись кто куда. Я тогда в Москву уехала.
Даша залезла с ногами на сиденье, потягивала кофе из кружки и рассказывала, рассказывала. Она словно думала вслух, и Антоха слушал ее, боялся слово вставить, чтобы не потревожить этот ее монолог:
– Когда пропал папа, мне было двенадцать лет. А ему сорок два. Бабушка говорила, что это злой рок: все мужчины в их роду проживают только сорок лет с небольшим. У них даже что-то вроде поговорки было: «Все Кругловы женятся по любви, живут счастливо, но недолго». Черная такая поговорка. Деду тоже было сорок два или сорок три, когда его не стало. Бабушка его очень любила. Она потом прожила одна еще долго и все представляла, что он рядом. Все время говорила: «Вот мы с Сашей то, мы с Сашей это. Вот у нас праздник с Сашей будет». И так во всем. Она прекрасно понимала, что его нет, но он был в ее сердце, и она все равно была счастлива. Жила памятью и мыслями о нем.
У Даши был красивый низкий голос, говорила она немного нараспев (это типично для Нижней Волги, но у нее получалось как-то особенно). Она продолжала свою историю, и это звучало как музыка. А может, это всегда так? То, что говорит любимая женщина, становится музыкой.
– А мама через три года после папиной гибели решила замуж выйти. Бабушка этого решения не приняла. Бабушка по папиной линии. У них с мамой нормальные отношения были, не так чтобы очень дружные, но без неприязни точно. Но тут они просто перестали общаться: не ссорились, не ругались, перестали – и все. Я, наверное, тоже не смогла этого принять. Мама говорила: «Жизнь продолжается. Я хочу жить полной жизнью. Я имею право быть счастливой». Я ее не осуждаю, нет. Но я не была готова к постороннему человеку в доме. Не могла этого принять. Я в то время оканчивала школу и почти сразу после экзаменов уехала в Москву поступать в институт. А после вступительных уже не поехала домой, решила остаться в Москве: нашла какую-то работу, и потом все закрутилось. С мамой мы созваниваемся. Конечно, я интересуюсь, как у нее дела. Но видимся мы редко. У нее своя жизнь, у меня своя.
За окном бежала рыжая степь. Однообразно ровная, почти одноцветная, иногда ее нарушали зеленые полосы посадок вдоль дороги. Синяя лента Волги тянулась где-то слева. Большую часть времени река была вне поля видимости: дорога проходила очень далеко от берега, и лишь иногда открывался вид на нее. За рулем всегда был Антон. Даша не водила машину и не очень хотела учиться. Зато с обязанностями второго пилота она справлялась отлично: меняла музыку, кормила и поила водителя. Он даже не успевал попросить о чем-то, она сама чувствовала, когда и что нужно. Заботливо наливала в кружку немного кофе из термоса, сначала держала в руке, ждала, когда остынет, потом протягивала Антону: попей. Он брал ее руку в свою, потом забирал из нее кружку: сложился у них такой маленький ритуал. В машине играла ненавязчивая музыка, но он хотел слушать Дашу. А она вдруг оживилась и продолжала уже очень увлеченно:
– Бабушка моя была страшная модница! Любила наряжаться, платья сама себе мастерила. А время тогда бедное было: когда война закончилась, ей было лет пятнадцать. И вот в эти тяжелые послевоенные годы она умудрялась и наряды себе шить, и прически какие-то невероятные делать. А макияж, Тошка! О, она мне такие истории рассказывала! Например, как брали золу из печки и из нее делали тушь для ресниц. Смешивали с чем-то и наносили. Честно говоря, не представляю, как это возможно. А дальше! Кусочком свеклы подкрашивали губы. Тебе, мужчине, не понять. А я, девочка, и смеялась, и плакала, когда это слушала. Это сейчас нам легко и просто: достала нужный тюбик, махнула кисточкой, и готово! А тогда… Вот уж правда: красота требует жертв.
Сама Даша не была склонна к жертвоприношениям ради красоты. Может, потому что от природы была хороша собой? То, к чему другие стремились, ей было дано от рождения. Она принимала это как должное. Не придавала значения. К тому же, как и у всякого художника, у нее было собственное представление о красоте. Она умела видеть ее в самых простых вещах: яркой полосе заката в окне, рыжих осенних листьях в серых лужах, волне, набегающей на берег. Она могла не увидеть ее в том, что было красиво для многих других.
– Бабушка до самой старости за собой следила: волосы всегда укладывала, губы подкрашивала. То брошечку какую-то приколет, то шарфик повяжет – и получается новый образ. Та еще красотка была! – продолжала Даша, и в голосе ее было и восхищение, и необыкновенное тепло. Она рассказывала о человеке, которого очень любила, и это звучало в каждом ее слове. – И, понимаешь, она ведь делала это не для кого-то. Не для того, чтобы произвести впечатление. Это внутренняя потребность в красоте. Это в крови, наверное, было. С молоком впитано. Про своих родителей бабушка много не рассказывала. А я и не спрашивала почему-то. Я теперь уже понимаю, что это совсем неправильно. И жалею очень. Знаю только, что она была из интеллигентной семьи. По каким-то деталям, что запомнила, я уже позже пыталась восстановить ее историю, но у меня мало что получилось. Я бы назвала это эскизом, и ему очень, очень далеко до полной картины.
Антон слушал Дашу и, казалось, не узнавал ее. Точнее, он теперь узнавал ее с какой-то новой стороны, которая раньше была для него закрыта. Такая Даша, вдумчивая и немного меланхоличная, ему тоже очень нравилась.
– Мы ведь вообще так мало про себя знаем! – продолжала она. – Про родителей что-то, да про бабушек и дедушек уже меньше. А дальше что? Откуда они? Кто были их родители? А их бабушки и дедушки кто? Они же, по идее, до революции еще родились, в позапрошлом веке даже. А вот ты, Тошка, знаешь что-то про своих предков?
Он задумался и вдруг понял, что знает – действительно – очень немногое:
– Хмм. Знаю, что дед родился в Москве. Он мне рассказывал про город во время его молодости: каким он был в то время, как менялся. Что вот там-то было то-то, а вот этого и в помине не было. Про свои любимые места рассказывал. Что город в его детстве заканчивался примерно на третьем кольце. Надо будет и правда родителей поспрашивать, что они помнят про своих дедов и про дальних предков, если знают что-то. Но сейчас твоя очередь рассказывать, я и так слишком много говорю. К моей истории мы позже вернемся.
А Даша увлеклась воспоминаниями, что теперь уже с удовольствием сама продолжала: