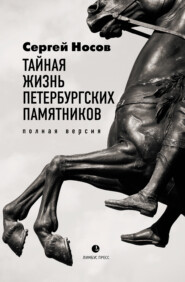скачать книгу бесплатно
«Гиганта» еще называли «первенцем», и в этом слове угадывался вызов Москве. Фигуры ленинградского патриотизма тогда еще допускались. В альбоме, изданном по прошествии года бесперебойной работы предприятия, сообщалось гордо: «Строительство Ленмясокомбината, начатое почти на год позже Московского и Семипалатинского комбинатов, было закончено в двадцать три месяца и введено в эксплуатацию раньше Московского, несмотря на значительно больший физический объем работ». Опережение, надо сказать, составило день, а вот про «физический объем работ» все верно, без дураков, – строить начинали далеко за чертой города, в чистом поле (грязном, скорее…), где ничего не было, даже подъездных путей…
По свидетельству очевидцев, в конце тридцать шестого мастерская скульптора Томского была заставлена многочисленными моделями Кирова. Скульптор, всесоюзной славы еще не снискавший, но победивший в престижном конкурсе, работал над тремя Кировыми сразу.
Первого декабря – в день второй годовщины рокового выстрела в Смольном – «Правда» репродуцировала фотографию: Киров перед трибуной XVII съезда партии – возбужденный, воодушевленный, с высоко поднятой рукой. Снимок в равной степени вдохновлял обоих – скульптора и архитектора, Николая Томского и Ноя Троцкого. В разговоре с корреспондентом газеты «Литературный Ленинград»[3 - «Литературный Ленинград». 1936. 5 декабря.] Томский так сформулировал концепцию памятника: «Киров счастливый и радостный». Идею «счастливого и радостного» Кирова берегли для главного монумента – перед только что построенным (по проекту Троцкого) Кировским райсоветом, но к 1938-му концепция изменилась: вождь ленинградских коммунистов получился скорее «пламенным», чем «радостным», скорее «убежденным», чем «счастливым».
А вот «счастливым и радостным» реализовался он (1937) на мясном комбинате.
Во-первых, выражение лица: явно оратор произносит речь с нескрываемым удовольствием. Во-вторых, поза: оптимистический взмах рукой. В-третьих, карман гимнастерки, у сердца: он слегка оттопырен, тут и гадать не надо, что там. Партийный билет.
В-четвертых, опора для левой руки: толстая книга. Снизу не видно, что это за книга. Специально я ее не фотографировал, но, придя домой и увеличив общий снимок, так и ахнул: «ЛЕНИН – СТАЛИН» четкими буквами на корешке. Томский, конечно, изваял бюст Сталина для его могилы у Кремлевской стены, но так то было при Брежневе, это не в счет, – при Хрущеве же все три ленинградских памятника Сталину, сотворенные Томским, естественно, были демонтированы. Полагаю, Киров на мясокомбинате – это единственный из переживших годы сталиноборчества памятников в городе, а может быть, и в России, на котором сохранилось имя Сталин. В неприкосновенности! Утаил-таки Киров.
В-пятых, и это главное: надпись. Совершенно необычная надпись:
УСПЕХИ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
У НАС ГРОМАДНЫ.
ЧОРТ ЕГО ЗНАЕТ.
ЕСЛИ ПО ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКИ СКАЗАТЬ,
ТАК ХОЧЕТСЯ —
ЖИТЬ И ЖИТЬ.
То, что надпись сделана на щите, который держат работница и работник отжимного пресса, установленного в убойно-разделочном корпусе, придает, конечно, формуле «жить и жить» весьма своеобразный оттенок, но главное не это. Главное – так не пишут на пьедесталах. Что еще за «чорт его знает»?!. Кого знает «чорт»? Мыслимо ли такое на памятнике?!.
В наследство от деда мне досталось несколько специфических книг. Экземпляр Стенографического отчета XVII съезда ВКП(б), которым я располагаю, можно считать редкостью. Дело в том, что всем членам партии, имевшим на руках подобные книги, полагалось вычеркивать из списка состава руководящих органов чернильным карандашом имена врагов народа, – мой дед проявил едва ли не вольнодумство: имена врагов народа он вычеркнул карандашом простым, так что они легко поддаются прочтению. Из семидесяти одного члена ЦК вычеркнуто пятьдесят семь. Из шестидесяти восьми кандидатов в ЦК вычеркнуто шестьдесят три. Трое – Орджоникидзе, Куйбышев и Киров – обведены простым карандашом в рамочку. Для них это тоже был последний съезд.
Так вот, мне не доставило большого труда найти в кировском выступлении на странице двести пятьдесят восемь те самые, исполненные оптимизма слова. Выступление называлось «Доклад товарища Сталина – программа всей нашей партии». Киров произнес много суровых и на сегодняшний взгляд жутковатых слов, но, когда речь зашла о критике и самокритике, он неожиданно повеселел. О самокритике он сказал (привожу для контекста): «Это только поможет исправить дело, и это предохранит партию от опасности зазнайства, о чем предупреждал товарищ Сталин». После чего и выдал, не сдержав душевного порыва, эмоциональное «чорт его знает».
Но самое интересное, что на «жить и жить» фраза не завершается! После «жить и жить» следует ремарка, в отчете она, как ей и положено, выделена курсивом и заключена в скобки: «(смех)». Вот чего нет на постаменте!.. Но и это не все – фраза продолжается: «…на самом деле, посмотрите, что делается. Это же факт!»[4 - XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): стенографический отчет. М., Партиздат, 1934. С. 258.] И далее следует ремарка, совершенно не типичная для репертуара съездовских ремарок: «(Шумные аплодисменты.)». Не бурные, не продолжительные, не какие-нибудь еще, а именно «шумные» – отвечающие чему-то исключительно необычному. Судя по ремаркам, Киров еще трижды смешил съезд (нам сейчас этого юмора не понять), но это уже к нашей теме не относится.
Если еще глубже копнуть, надо будет заметить, что еще в конце тридцать шестого скульптор Томский, как следует из его разговора с упомянутым корреспондентом «Литературного Ленинграда», мечтал воспроизвести на фронтальной грани постамента ту самую фразу во всей ее полноценной красе (но, разумеется, без ремарки). «Непосредственное наблюдение за отливкой памятника» осуществлял заведующий отделом культуры и пропаганды ленинизма Ленинградского обкома ВКП(б) тов. Б. П. Позерн. Предполагаю, он и не допустил выражения «на самом деле, посмотрите, что делается».
Как бы то ни было, многозначительный накладной знак препинания в виде литой точки в конце цитаты заменяет собой не что иное, как ремарку «(смех)». По-видимому, так и надо воспринимать слова, приведенные на пьедестале, – весело, со смехом. Да ведь и у бронзового Кирова, согласно концепции Томского, лицо смеющееся почти. Впрочем, когда памятник открывали – 21 марта 1937 года, было как-то не до веселья уже… Цитирую репортаж с открытия, приведенный в многотиражной газете «Мясной гигант»:
«…В первых рядах тесным полукругом стоят дети – учащиеся средней школы мясокомбината. Они поют:
…Пролетарий, на баррикады,
В огне весь горизонт…
Песня звучит призывом к борьбе и победам. Она является грозовым ответом на гнусную вылазку врагов народа – подонков контрреволюционной троцкистско-зиновьевской своры, предательски оборвавших жизнь Сергея Мироновича Кирова»[5 - Его имя зовет нас к борьбе, к новым победам // «Мясной гигант». 1937. 22 марта.].
Приговор по делу о троцкистско-зиновьевском блоке еще не был оглашен, но в «Мясном гиганте» уже появлялись заголовки вроде такого: «Уничтожить фашистских гадов всех до единого». За неделю до митинга, посвященного открытию памятника, на комбинате прошло собрание инженерно-технических работников. В плане самокритики критиковали себя за отсутствие как раз самокритики и, как следствие, бдительности: только что в колбасном цехе была разоблачена группа вредителей, но не коллегами по работе, а сотрудниками НКВД.
«Тов. Алексеев горячо призвал инженерно-технических работников ликвидировать деляческие настроения, подняв революционную бдительность, и повседневно овладеть большевизмом»[6 - Черных М. Против зазнайства и самоуспокоенности, за большевистскую критику и самокритику // «Мясной гигант». 1937. 22 марта.].
Слова об «овладении большевизмом» – это из доклада Сталина на недавнем пленуме. Доклад «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» газета «Мясной гигант» напечатает через полторы недели после открытия памятника. Кампания критики и самокритики наберет новые обороты. На хозяйственном активе директор Алексеев покается в том, что «ездил защищать» разоблаченных НКВД вредителей из колбасного цеха. «Мне все не верилось, что люди, работающие у нас давно, могут так напакостить советскому государству. Только теперь, после решений пленума ЦК партии и указаний тов. Сталина, я понял, как, увлекаясь хозяйственными проблемами, все мы забыли о капиталистическом окружении, забыли о революционной классовой бдительности…»[7 - «Мясной гигант». 1937. 25 мая. № 39 (350).]
«Критика», «самокритика» и «бдительность» – вот ключевые слова той поры, что легко прослеживается по подшивкам хотя бы «Мясного гиганта».
Думаю, в дни процесса над троцкистско-зиновьевским блоком архитектор Троцкий (а это он спроектировал корпуса мясокомбината) ощущал себя особенно не в своей тарелке. Да и скульптор Томский, после того как застрелился уклонист Томский, «запутавшийся в своих связях с троцкистско-зиновьевским блоком», не раз пожалел, что взял такой псевдоним. Оставался бы Гришиным, не было бы вопросов.
Но довольно о грустном.
Надо рассказать о горельефах. Они столь же оптимистичны, как и произносящий речь бронзовый Киров.
Вот Киров, изображенный в момент посещения комбината в мае (по другим сведениям, в июне) 1933-го. Тогда сдавался в эксплуатацию холодильник, один из крупнейших в Европе. Насколько я понимаю, Киров подбадривает работника, осваивающего импортный компрессор «Барбиери», холодопроизводительность которого шестьсот килокалорий в час (фотографии этого аммиачного агрегата встречаются как в отраслевых газетах, так и в специальных изданиях).
На других горельефах Кирова нет. Вот рабочие – уже самостоятельно, без него – запускают котел «Лаабса». Это, по всей видимости, отделение сухой вытопки жиров, занимающее один из этажей убойно-разделочного корпуса.
Он и она. Она – с лопатой в руке. Уголь? Известно, что комбинат использовал печерский уголь (дрова шли на копчение). Скорее всего, обслуживается один из вакуумных котлов, на данном горельефе не поместившийся. Для вытопки жиров требуется тепловая энергия.
«Вдохновитель пищевой промышленности» Анастас Иванович Микоян, чьим именем назовут московский мясокомбинат, на том же XVII съезде партии позволил себе эффектное выражение: «…чудеса американской мясной техники, перенесенные на нашу Советскую почву».
Чудеса везде чудеса.
А у нас все равно чудеснее.
Июнь 2007
Дважды рожденный
Быть переплавленным, разбитым на куски, уничтоженным – удел многих памятников. Бывает и мягкий вариант репрессий – изоляция в виде заключения, скажем, в какой-нибудь сарай или гараж до лучших времен с последующей реабилитацией и возвращением на место.
Судьба этого необычна. Открытая миру жизнь на свободе (в той мере, конечно, жизнь на свободе, в какой способны знать ее памятники), внезапный убийственный приговор, заключение по частям в деревянные ящики и, наконец, после четырнадцатилетней суровой изоляции освобождение, но до странности условное – практически под домашний арест.
А можно к этому случаю применить и другую метафору – медицинскую. Долгая жизнь – внезапная клиническая смерть (длившаяся четырнадцать лет) – возвращение к жизни, реабилитация, санаторий закрытого типа…
Вторая метафора больше подходит. Как-никак речь идет о памятнике врачу.
…1859 год в Петербурге ознаменовался двумя торжествами: один за другим были открыты сразу два памятника. Один – императору, это в июне, другой – баронету, действительному тайному советнику, в декабре. Императора звали, понятно, Николай, это всем известно, а вот о баронете Я. В. Виллие сегодня знают немногие. Что на первый взгляд кажется странным. В самом деле, не на каждом шагу тогда памятники устанавливали, открытие памятника было событием чрезвычайным и говорило само за себя. Всех на то время увековеченных в бронзе можно пересчитать по пальцам – два царя, три полководца, дедушка Крылов и вот, наконец, Виллие, в данном ряду последний. Памятники этого первого ряда – все, кроме памятника Виллие, – знамениты сами по себе, и не менее чем люди, которых они прославляют. Только вот памятник Виллие, наоборот, практически неизвестен, большинство петербуржцев даже не догадывается о его существовании. И это тем более удивительно, что размеры его, мягко говоря, внушительны. Вместе с пьедесталом высота восемь метров! Чуть-чуть, но до восьмиметровой высоты ни Суворову, ни Кутузову, ни Барклаю-де-Толли прежде установленные памятники все-таки не дотягивают…
Явно не иголка в сене – как же такое можно не замечать?
А все дело в том, что нельзя простым горожанам увидеть памятник. Утаен он от внимания посторонних, почти засекречен. Ныне он находится в парке Военно-медицинской академии, попасть туда можно только через контрольно-пропускные пункты, охраняемые солдатами. То есть нельзя. Если вы, конечно, не примените военную хитрость, впрочем, чреватую последствиями…
Уроженец Шотландии, сын пастора James Vylie (а по-нашему – Яков Васильевич Виллие) поступил при Екатерине на русскую службу полковым лекарем. При Павле он уже был лейб-хирургом, а при Александре ведал всей медицинской частью империи. Он был главным медико-хирургическим инспектором, возглавлял военно-медицинский департамент военного министерства, был президентом Медико-хирургической академии. Он проводил реформы по военному ведомству. Он основал до сих пор (!) издающийся «Военно-медицинский журнал». Более пятидесяти лет он отдал медицинской службе России. У него была репутация гениального врача-администратора. Кроме того, он был автором многих трудов, главный из которых – капитальная «Полевая фармакопея».
У царя Александра, которого Виллие сопровождал во всех военных походах, были основания им гордиться – неспроста же союзные монархи на военном смотре под Парижем благодарили русского царя за помощь, оказанную Виллие раненым союзникам.
В свое время Александр I самолично придумал ему герб, весьма замысловатый (с кровавой рукой…), а во время посещения Англии испросил у принца-регента для Виллие, как английского поданного, потомственное дворянство с титулом сэр и звание баронета.
Виллие завещал свои огромные сбережения – почти полтора миллиона рублей – на развитие медицины в России, в основном на устройство клиники при Медико-хирургической академии (ей дадут имя баронета Виллие). Не желая никого вводить в расходы, о памятнике себе позаботился сам: наказал в завещании установить оный. А также отдельно – фонтан, посвященный богине здоровья Гигиее.
Скульптор Д. И. Иенсен и архитектор А. И. Штакеншнейдер нашли и тому и другому зримые образы.
9 декабря, в день шестьдесят девятой годовщины поступления Виллие на русскую медицинскую службу, памятник торжественно был открыт. Ординарный профессор Я. А. Чистович, произнесший тогда пространную речь, написал о том торжестве целую книгу.
Виллие, обладавший богатырским здоровьем и, по слухам, никогда не болевший, тихо покинул этот мир, едва не дотянув до девяноста. Тот же срок на одном месте – у парадного фасада академии – счастливо отстоял памятник. Академия за это время сменила название и снискала еще большую славу. Ни при царе, ни при Советах памятник, казалось, никому не мешал. Возвышался бы он до сих пор у парадного входа, доступный взорам публики, если бы не случилось однажды уж совсем непредвиденное – борьба с космополитами.
Памятник ее не перенес.
Интересно сравнивать сказанное о Виллие в 1859 году с тем, что писала в 1948-м «Ленинградская правда». Например, на открытии монумента профессор Чистович горячо говорил: «Он весьма скоро, и с искреннею вполне патриотической радостью, увидел плоды своей задушевной мысли: создать в России русскую медицинскую академию; действительно, едва прошло пятнадцать лет со времени вступления его в управление академиею, как между членами конференции ея не было уже ни одного иностранца»[8 - Чистович Я. А. Памятник доктору медицины действительному тайному советнику баронету Якову Васильевичу Виллие. СПб., 1860. С. 70.]. А вот «Ленинградская правда», 1948-й: «Яркий оруженосец внешней политики Великобритании, направленной против русского народа, всю жизнь преследовавший русских врачей, Виллие тормозил развитие нашей национальной медицины»[9 - «Ленинградская правда». 1948. 25 сентября.].
В этой статье, смачно названной «Против раболепия перед иностранщиной в истории русской медицины», Яков Васильевич обвинялся во всех смертных грехах: был, дескать, он и плагиатором, и обскурантистом, и вредителем, и, конечно же, английским шпионом.
Он бы мог быть и вдохновителем врачей-отравителей, дело о которых будет затеяно через четыре года после публикации «Против раболепия…», ведь еще в екатерининские времена, будучи полковым лекарем, молодой Виллие экспериментировал с мышьяком, изобретая средство от блуждающей лихорадки. Тут бы и потянуться «мышьячному следу» от английского шпиона из восемнадцатого века в век двадцатый, но до этого можно дойти лишь моим изощренным умом, идеологи тех «дел» так глубоко в историю, к счастью, не вглядывались.
Проблема репутации легендарного врача обсуждалась на совещании, организованном руководством Военно-медицинского музея; подробностей не знаю, но известно, что, к чести военных медиков и историков, выступавшие в большинстве своем опровергали обвинения, напечатанные в «Ленинградской правде». Хочется думать, что именно поэтому памятник был не уничтожен, а всего лишь изъят. Разъят – упакован – убран. Перед фасадом академии ему, по-видимому, уже никогда не быть – сюда в 1996 году с Большого Сампсониевского проспекта переместился фонтан «Гигиея», тот самый, созданный на деньги Виллие.
Многолетняя несвобода – или, как посмотреть, клиническая смерть памятника – закончилась в конце хрущевской оттепели, в 1964 году, как тому и положено быть, реабилитацией (в обоих причем смыслах: юридическом и медицинском). Памятник вновь был собран и теперь уже перенесен во внутренний парк академии. Общение с посторонними ему запрещено (мягче сказать, противопоказано). Парк почти безлюдный, если кто и пройдет стороной, считай, свой – всяко по военно-медицинскому ведомству. Под сенью деревьев, на высоченном постаменте Якову Васильевичу предписано отдыхать, но какой же тут отдых, когда у тебя в одной руке карандаш, а в другой – свиток?.. Сам Я. В., надо заметить, сидит на уступе скалы… Облачен в парадную военно-медицинскую форму – полную, с орденами… Со шпагой… У ног его книга… Книга – настолько толстая, что твердо стоит обрезом вниз, – это та самая фармакопея. И судя по толщине – четвертое издание (1848), восьмисотстраничное… (На латинском языке, между прочим.)
Герб, хоть и бронзовый, сохранился почти целиком… А вот два других барельефа закономерно исчезли… Увы, изображения конференции академии под председательством Виллие «по назначению его президентом» уже никто не увидит из смертных, равно как и эпизода войны с Бонапартом, когда легендарный врач, «подающий пособие раненым на поле брани», изображен вместе с «питомцами сей академии» (Чистович).
Тихо тут. Отходить не хочется. Хочется рассматривать гранитных кариатид в образе богинь здоровья… На гербе найти «кровавую руку»… Сосчитать ордена…
Высота пьедестала все-таки не лишена известного смысла. Там ему наверху, конечно, спокойней. Там его не достать.
Июль 2007
P. S. (Август 2009)
Однако ж нет, история продолжается. Завтра эта книга уйдет в типографию вторым изданием, а тут такие события! Объявлено о находке плиты с одним из утраченных горельефов. В новостях сообщили, что «двое истинных петербуржцев» (предприниматель и реставратор) перекупили ее у какого-то подозрительного субъекта возле пункта скупки цветных металлов и даже своими силами отреставрировали. Теперь говорят о возможности переноса памятника на прежнее место. Ну уж это, думаю, вряд ли… Впрочем, ничему не удивлюсь. Поживем – увидим.
P. S. (Февраль 2020)
В жизни памятника особых изменений нет. На прежнее место монумент не перенесли, и очень я сомневаюсь, что это возможно. Плита с рельефом на тему первой конференции Медико-хирургической академии передана еще в августе 2009-го Музею городской скульптуры. Рельеф «Якоб Виллие с русскими врачами оказывает помощь раненым на поле боя», утраченный в 2000 году, до сих пор не найден. Не могу не добавить, что ситуация с обретением части памятника удивительно напоминает сюжетную коллизию «документальной поэмы» Геннадия Григорьева «Доска» (впервые опубликованной в 2002-м). Персонажи поэмы покупают у бомжа бронзовую мемориальную доску с места дуэли Пушкина (скульптор Г. Д. Гликман) и передают ее в Музей городской скульптуры; подлинный акт о приемке приводится в книжном издании поэмы.
В этом городе случаются невероятные совпадения. Вполне допускаю, что пропавший рельеф будет когда-нибудь найден.
Пирогов на месте мертвецкой
Каждое утро со стороны заднего двора доносился лай собак. Там, за кирпичной стеной, – Военно-медицинская академия, в прошлом Обуховская больница. Собаки лаяли до начала девяностых, потом опыты над ними, по-видимому, прекратились (все в нашем доме считали, что собаки подопытные) – теперь на заднем дворе всегда тихо. По той кирпичной стене в тридцать третьем году вместе с другими трудновоспитуемыми полюбил залезать на крыши подсобных строений мой будущий отец, местом тайных собраний был определен чердак с сеном, и, согласно легенде, как-то раз госпитальный конюх носился по крышам с кнутом, пытаясь поймать хотя бы одного пришельца. В дом, в котором я живу, мой дед вместе с семьей переехал еще в тридцать втором, так что эти места овеяны семейными преданиями. А недавно встретил я у нас во дворе знакомого поэта N., лет пятнадцать назад вернувшегося из Америки. Он, оказывается, устроился здесь чернорабочим. На нем была роба, он куда-то тащил мешок со строительным мусором. В проходном дворе у него есть каптерка, и примыкает она все к той же стене, из-за которой когда-то слышался собачий лай. А напротив стены, в доме по другую сторону узкого прохода, разместилась пекарня, где уже несколько лет пекут пирожные и торты. Ни поэт из каптерки, ни кулинары в фартуках даже не догадываются, по соседству с чем они работают. Сразу за стеной, в пяти метрах от них, не просто госпиталь (что госпиталь, это известно всем) – сразу за стеной морг.
К теме морга причастен установленный в глубине больничного сада памятник Пирогову. С виду обычный, а на самом деле – необыкновенный памятник.
Да и сам Пирогов был человеком необыкновенным.
О том и речь.
О памятнике великому Пирогову.
На мой взгляд, это один из лучших памятников в Санкт-Петербурге. Он прост, лаконичен. Серый гранит здесь одинаково хорош и для пьедестала, и для самого бюста. Не знаю, замечал ли скульптор Крестовский, что его Пирогов чем-то похож на Ленина. Тела обоих, как известно, мумифицированы, но вряд ли сходство навеяно этим, – несомненно, и в характерах живых было много общего. Эту общность выдают памятники – взглядом, напряжением лиц, печатью бескомпромиссности и одержимости.
Нет в городе другого памятника, который был бы так прочно связан с местом, где он стоит. Речь вовсе не о том, что стоит он на территории Обуховской больницы (ныне это часть Военно-медицинской академии, куда, кстати, посторонним вход запрещен); речь не о клинике в целом, а о крохотном клочке земли, памятником обозначенном.
На тыльной стороне постамента очень интересная и… как бы это сказать… специальная надпись. Настолько специальная, что в прежних популярных изданиях, посвященных городским достопримечательностям, ее если и приводили, то с намеренными искажениями. Например, согласно изданному в 1979 году справочнику «Памятники и мемориальные доски Ленинграда», эта надпись должна была бы выглядеть так: «Здесь он создавал свой атлас топографической анатомии». Надо полагать, местоимение «он» обязано отвечать имени собственному Пирогов, выбитому на лицевой стороне постамента, но такой логики мог придерживаться лишь редактор справочника, в реальности так безлично на пьедесталах не выражаются. Для того чтобы узнать истинный текст, надо проникнуть на территорию Военно-медицинской академии, найти в госпитальном саду сам памятник и, не обращая внимания на расположение препятствующей тому скамейки, обойти его сзади, смело вступив на газон. Надпись мало того что сильно потускнела и едва различима, она в принципе никогда не была видна с дорожки; похоже, выполнена она вовсе не для того, чтобы на нее смотрели. Скажем прямо: сделана она так, чтобы ее не видели. Это без преувеличения секретная надпись – о ней не знают даже те, кто работает здесь десятилетиями и каждый день по долгу службы проходит мимо гранитного Пирогова (я со многими разговаривал). Вот она – в точности:
Здесь стояла
покойницкая, где
Н. И. Пирогов
на распилах замо-
роженных трупов
создавал свой атлас
топографической
анатомии[10 - Для полноты картины отметим, что окончание «ой» в слове «топографической» уничтожено осколком снаряда.].
Емко и содержательно.
Памятник был установлен в 1932 году по инициативе выдающегося хирурга И. И. Грекова; скорее всего, он и был автором надписи. Пренебреги профессор Греков выражением «на распилах замороженных трупов», и обошлось бы без переноса слов (архитектор Руднев наверняка так и советовал поступить) – нет, умалять точность высказывания ради формы строки знаменитый врач позволить не мог. Думаю, что, если бы площадь скрытой от посторонних глаз тыльной грани пьедестала позволяла разместить большее число букв, нам бы явлено было полное, развернутое название этого научного труда, причем на латыни[11 - Anatome topographica sectionibus per corpus humanum congelatum triplici directione ductis illustrata.], ибо в четырех томах атласа нет ни одного русского слова, а отдельный семисотстраничный том описаний – сплошная латынь уже без всяких картинок. На протяжении ста лет название пироговского труда переводили примерно так: «Топографическая анатомия, иллюстрированная проведенными в трех направлениях распилами через замороженные человеческие трупы». Сейчас переводят как бы корректнее, заменяя «человеческие трупы» на «человеческое тело», но на постаменте увековечена та откровенная прямота, с которой корифеи анатомии без ложной деликатности относились к реальности.
Мне приходилось листать этот атлас. Я не медик. Сильное впечатление, честно скажу. Гигантского размера книги содержат порядка тысячи изображений в натуральную величину этих самых распилов. В трех направлениях. Некоторые (например, продольные) не поместились на плотном листе размером с полосу нынешних «Известий», и тогда использовался лист еще большего формата, складываемый под формат книги. Всего было отпечатано триста экземпляров атласа – крайне дорогостоящее издание финансировалось правительством. На экземпляре, хранящемся в РНБ, как теперь называют родную Публичку, экслибрис Императорской Эрмитажной иностранной библиотеки с указанием номера шкапа и полки. Нет сомнений, что тот же экземпляр первого тома, который я с трудом сумел разместить на столе, листал император Николай Павлович, лично дозволивший сей проект; представляю выражение его лица и пытаюсь мысленно соотнести со своим – любопытство… изумление… тихий ужас?..
Впечатление еще сильнее, когда знаешь обстоятельства появления атласа. В двух словах они таковы.
Однажды Николай Иванович Пирогов, прогуливаясь по Сенному рынку, увидел, как мясник расправляется с промерзшей свиной тушей. Была зима. Николая Ивановича осенило; некоторые биографы, впрочем, полагают, что оригинальная идея пришла Пирогову после долгих и долгих раздумий. Как бы там ни было, до сих пор анатомы резали теплые трупы (в том смысле теплые, в каком вообще допустимо говорить о теплоте мертвого тела). А с «разгерметизацией» тела под инструментом анатома внутренности приобретали ложное положение, так что о взаимном расположении всевозможных органов хирурги до Пирогова судили довольно неточно. Надо пилить замороженных, решил Пирогов. И он приступил к делу. В Обуховской больнице для бедных в день умирало два-три человека. Посреди больничного сада находилась небольшая деревянная покойницкая, та самая; зимой в ней коченели трупы. Молодому профессору из Дерпта Николаю Пирогову, однажды поразившему медицинский Петербург как гром средь ясного неба, уже случалось читать в одной из двух тесных комнат этого скорбного заведения лекции по анатомии – его шестинедельный курс на немецком прослушали тогдашние петербургские знаменитости, включая лейб-медика Арендта. Теперь Пирогов работал без лишних свидетелей. Пилил. По нескольку часов в день, иногда оставаясь на ночь. При свечах. (Зимой в Петербурге и днем темно.) В лютый мороз. Опасаясь одного: как бы не согрелся свежий распил до того, как на него будет положено стекло в мелкую клеточку и снят рисунок. Чем сильнее был мороз, тем лучше получалось у Пирогова. Распилов он осуществил многие и многие тысячи – в атлас попало лишь избранное. «Ледяной анатомией» называл это дело сам Пирогов. А еще он говорил о «ледяной скульптуре» – это когда твердеющей массой заливались полости, образованные в промерзлых трупах путем вырубания с помощью долота и молотка тех или иных органов. Не в теплой Германии и не в солнечной Италии, но только у нас в России могла прийти «счастливая мысль воспользоваться морозом», как это изящно сформулировал академик К. М. Бэр[12 - Бэр К. М. Разбор сочинения профессора Пирогова под заглавием «Anatome topographica…». СПб., [1860]. С. 6.], осуществляя разбор фундаментального пироговского труда при выдвижении его на Демидовскую премию. Этот атлас ошеломил мир медицины. Пирогов много сделал хорошего – изобрел гипсовую повязку, впервые применил наркоз в полевых условиях, осуществил множество операций, написал кучу трудов, спас ногу Гарибальди, но именно «ледяная медицина», как утверждали его ученики, обессмертила имя Пирогова. Такой парадокс: обессмертило то, чему материалом послужили покойники.
Впрочем, одно обстоятельство расстроило придирчивого рецензента. «Некоторые изображения, – докладывал академик К. М. Бэр, – сняты с таких субъектов, которые были доведены до совершенного изнурения продолжительною болезнью, а может быть, даже и искусством. Конечно, госпитали доставляют больше изнуренных, нежели не изнуренных трупов, – последние, очевидно, и вовсе не доставляются, – все же нельзя не пожалеть, что при работе, на которую потрачено так много времени, такие необыкновенные силы и средства, не были совершенно удалены, по крайней мере изнуренные»[13 - Бэр К. М. Разбор сочинения… С. 8.].
Что делать, Пирогов работал с тем материалом, который у него был.
Справедливости ради надо сказать, что основные распилы Пирогов осуществил на Выборгской стороне – в Медико-хирургической академии. Там к его услугам была огромная дискообразная пила для ценных древесных пород. В покойницкой Обуховской больницы все было скромнее. Но именно это место пожелал увековечить И. И. Греков, а уж он-то знал, что к чему.
Так оно и есть: судя по «секретной» надписи, памятник Пирогову – не просто памятник Пирогову (вообще Пирогову), но Пирогову, с фанатической одержимостью совершающему титанический труд прямо здесь, а не где-нибудь там, – это памятник невероятному, почти безумному, на наш профанский взгляд, подвигу, совершенному на этом историческом месте, когда-то занятом убогой деревянной мертвецкой. По сути, это и есть памятник той мертвецкой, единственный в своем роде памятник моргу.
В 1886 году, уже после смерти Пирогова, вышло в свет описание Обуховской больницы, очень дотошное[14 - Угрюмов П. К. Городская Обуховская больница в С.-Петербурге. СПб., 1886.]. Среди прочего приводился план местности, сведения обо всех постройках и сооружениях помещались в особых таблицах. Новая каменная покойницкая, воздвигнутая уже после Пирогова, узнаем, совмещена с часовней; на втором этаже четыре мраморных стола, о которых великий анатом здесь даже мечтать не мог. Старая деревянная покойницкая еще не срыта, используется редко, лишь для чрезвычайных нужд – туда теперь сносят трупы заразных. Сведения о ней скудны, но кое-что из таблиц можем извлечь. Например, общие размеры помещений. Переводя квадратные сажени в квадратные метры, получаем последних 67 – это на две комнаты и коридор. Число окон – 1, мертвым света не надо. Печей нет (но этот факт Пирогова, как уже знаем, не огорчал). В таких вот условиях он и работал по десять часов в день.
Автор описания с говорящей фамилией Угрюмов критикует местоположение покойницких – и старой, и новой. Надлежит им быть где-нибудь сбоку, а не посреди сада, по которому гуляют больные. В наши дни оплошность исправлена – никаких покойницких в саду нет. Морг задвинут далеко, на северо-западную периферию клиники – к стене, за которой начинается наш проходной двор. Чтобы гранитный Пирогов смотрел на морг, Пирогова надо развернуть на сто восемьдесят градусов. Но тогда откроется свету «секретная» надпись.
А так тоже нельзя.
Май 2007
Гоголь незримый
Вообще-то здесь уже был один памятник – великому князю Николаю Николаевичу. Конную фигуру установили перед Первой мировой, а снесли сразу после революции. Пять лет – это для монумента как один миг.