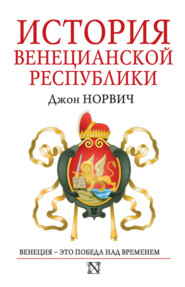скачать книгу бесплатно
История Венецианской республики
Джон Джулиус Норвич
«Царица морей» Венеция.
Она прошла путь от беспредельного могущества и богатства – к упадку и разрушению.
Роскошь, царившая в окружении дожей, поражала, а коварство властителей этого средневекового города-государства ужасало.
Путешественники почитали своим долгом описывать красоту венецианских дворцов – и с трепетом пересказывали жуткие легенды о таинственном Совете десяти, малейшее неповиновение которому вело к безвестной смерти или пожизненному заключению в самой страшной из тюрем Европы.
Что же стало причиной невиданного расцвета Венецианской республики?
Что явилось причиной ее падения?
Какие из многочисленных легенд о ней правдивы, а какие – нет?
Об этом рассказывает в своей увлекательной книге сэр Джон Джулиус Норвич.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Джон Норвич
История Венецианской республики
Посвящается Джейсону и памяти деда, которого он никогда не знал, который любил Венецию, и именно он должен был написать эту книгу
В истории есть примеры, когда миграционные волны населения меняют лицо страны и открывают новую историческую эру. Но безусловно самого пристального внимания заслуживает подвиг человеческого духа, который являет собой судьба горстки беглецов, укрывшихся на песчаных отмелях шириной в несколько сотен туазов. И вот уже явившиеся вслед многочисленные переселенцы, не имея практически никакой территории, строят государство на зыбком песке, где нет ни растений, ни питьевой воды, ни материалов, ни даже пространства, чтобы строить, ни экономического хозяйства, необходимого чтобы существовать и укреплять права и законы их страны. Но несмотря ни на что, именно эти люди представляют современным нациям первый пример законодательно избираемого и регулируемого правительства, создают на мелководье мощнейший морской флот, без устали вновь и вновь возрождаются, свергают великую империю и собирают богатства Востока, и вот мы видим, что потомки беглецов держат нити политического баланса Италии, властвуют над морями, собирают дань с народов и нейтрализуют бесплодные усилия объединившейся во враждебный союз Европы.
П. Дарю. История Венецианской республики
От автора
Над этой книгой я трудился слишком долго, тем не менее все это время получал помощь и поддержку многих друзей, как англичан, так и венецианцев. Некоторых следует отметить отдельно. Особенно хочу поблагодарить Молли Филипс за неутомимую и бесценную помощь в поиске библиографии и иллюстраций и Джо Линкса, который и сам является автором восхитительной книги о Венеции. Он подыскивал для меня литературу и помог с доказательствами. Выражаю благодарность Питеру Латропу Лауритцену, человеку неисчерпаемой эрудиции. Он мгновенно разрешал для меня множество запутанных вопросов. А что бы я делал без Джин Кертис и Юфан Скотт? Эти женщины терпеливо перепечатывали почти не поддававшиеся расшифровке рукописи. Благодарю Дугласа и Сару Мэтью; бесконечно признателен Мэрилин Пери, Филиппу Лонгуорту и покойному ныне Джону Бену. Сожалею лишь о том, что американские читатели не смогут увидеть прекрасные рисунки для обложки, созданные моей женой Анной для двух томов английского издания.
Почти каждое слово написано мною в читальном зале Лондонской библиотеки, и моя признательность ей, как и каждому служащему ее великолепного штата, может быть запечатлена лишь на бумаге, но измерению она не поддается.
Вступление
Первое краткое знакомство с городом подействовало на меня сильнейшим образом. Когда летом 1946 года родители взяли меня с собой в Венецию, пробыли мы там всего-то несколько часов, но до сих пор ощущаю – не помню, а именно ощущаю – впечатление, произведенное городом на воображение шестнадцатилетнего юноши. Отец, как всегда, проявил твердость и здравый смысл и ограничился двумя пунктами туристической программы: мы посетили базилику Сан Марко и бар «Гарри». Остальное время ходили пешком или плыли в медленно покачивавшейся гондоле. Я бессознательно усвоил первый венецианский урок (его так и не постиг бедный Рескин, проводивший время за крокетом либо возле Дворца дожей): в Венеции, как нигде еще, целое – это совокупность составляющих его частей. Какими бы величественными ни были церкви, какими великолепными ни казались палаццо, как бы ни ослепляли картины, главным шедевром является сама Венеция. Интерьеры, даже золотое чудо собора Сан Марко всего лишь детали. Пьяцца Сан-Марко и Пьяцетта, церковь Сан Джорджо Маджоре, стоящая точно под прямым углом к набережной Моло, игра света на изгибе канала, плеск воды о борт гондолы, запах моря, не ощутимый только когда ветер дует из Местре и Маргеры. Венеция – самый приятно пахнущий город в Европе. Это ощущение первым встречает нового человека. Потом придет время для Тициана и Тинторетто. Даже Карпаччо может подождать.
Пока мы плавали по каналу, отец говорил об истории Венеции, и я узнал, что город не просто самый красивый из тех, что мне довелось увидеть. Оказалось, что более тысячи лет он был независимой республикой. Это больше, чем период, отделяющий нас от норманнского завоевания. Венеция была хозяйкой Средиземноморья, здесь пролегал главный путь, связывающий Восток и Запад. Город был самым богатым и процветающим торговым центром цивилизованного мира. Отец рассказал мне о том, как море защищало Венецию, и не только в ее первые бурные времена, но и на протяжении всей истории. Море помогло ей, единственной из всех городов, избежать вторжения врагов. Она оставалась неразграбленной и неуничтоженной, пока Наполеон, назвавший себя «Аттилой Венецианской республики», в порыве мстительной злобы не положил конец самому безмятежному государству. Да, ее уникальная система правления, признал отец, была суровой, а по временам и жестокой, но в ней было больше справедливости, чем в других странах Европы, а историки ее оклеветали. По этой причине в ближайшее время он намеревался сам написать историю Венеции и восстановить справедливость.
Уехали мы в тот же день с наступлением темноты. На Большом канале зажглись фонари. Ни один город не покидал я с таким сожалением. На следующий год мы вернулись и пробыли здесь дольше. Я начал самостоятельно изучать город и открыл для себя одно из главных удовольствий в жизни: ночные прогулки по Венеции. К одиннадцати часам улицы пустели, оставались только кошки. Освещение – немногочисленные электрические фонари – идеально, на мой взгляд. Тишину нарушали лишь собственные шаги да изредка плеск невидимой воды. Во время прогулок, происходивших почти тридцать лет назад, я и влюбился в город. Я исходил весь его пешком и полюбил на всю жизнь.
Отец мой умер в первый день нового, 1954 года. Хотя он и оставил значительное собрание книг о Венеции и несколько страниц заметок, задуманная им книга по истории города так и осталась ненаписанной. Желание написать ее одолевает меня еще сильнее, чем отца. Сейчас все больше внимания уделяют отчаянной борьбе города за выживание, и все же, несмотря на достаточное количество замечательных путеводителей, очерков, посвященных искусству и архитектуре, монографий, посвященных изучению различных периодов истории, я знаю только одну (да и то слишком короткую) книгу, посвященную истории республики. Она написана в XX веке на английском языке. В XIX столетии вышло несколько книг, но все они, на мой взгляд, либо неточны, либо их невозможно читать. Очень часто они объединяют в себе оба этих недостатка.
Моя книга – это попытка заполнить пробелы, рассказать всю историю Венеции от ее туманного начала до печального для Европы дня, когда дож Лодовико Манин медленно снял корно и отдал его секретарю, пробормотав, что этот головной убор более не понадобится. Отречение далось нелегко. Одна из самых неизученных проблем исследователей Венеции – это инстинктивный ужас, доходивший по временам до фобии, который республика испытывала при малейшем проявлении диктатуры. Рано или поздно человек, обратившийся к этой теме, с тоской начинает смотреть на terra firma[1 - Твердая земля (лат.).] и череду сменяющих друг друга великих Медичи и Малатеста, Висконти и делла Скала, Сфорца, Борджиа и Гонзага. Громкие венецианские имена, по контрасту, чаще относятся к palazzi[2 - Дворцы (ит.).], а не к людям, да и трудно заинтересовать человека указами и решениями безликого Совета десяти.
Еще одно затруднение преследовало меня: постоянный соблазн отступить от главной темы. Захотелось поговорить о картинах и скульптуре, музыке и архитектуре, костюмах, обычаях и общественной жизни, в особенности о жизни XVIII века, достигшей высочайшего уровня просвещенной утонченности, сравнить которую возможно лишь с жизнью общества, посвятившего себя войне, за три столетия до этого. (Казанова и Карманьола – кто из них был дальше от реальности? Чью фигуру можно считать более трагичной и, если уж на то пошло, более смехотворной?). Этих соблазнов я старался по возможности избежать, хотя, сознаюсь, не преуспел в этом, особенно в отношении архитектуры. Книг на эти темы написано великое множество, и толковых, и с множеством иллюстраций, а моя работа из без того весьма объемна.
Она могла бы стать еще объемнее, если бы не тот факт, что в истории Венеции событий происходило либо слишком много, либо очень мало. Источники сведений о раннем периоде весьма малочисленны, к тому же они противоречат друг другу, однако с возвышением республики картина становится все более сложной. XIII век начался с латинского завоевания Константинополя и основания торговой империи Венеции. Этот период продлился до XVI века, включая долгую, печальную историю французского пребывания в Италии. Затем настал тревожный момент: Венеция увидела, что вся Европа ополчилась против нее. Это время так насыщено волнующими событиями, что я даже засомневался, смогу ли когда-либо закончить свою работу, а если смогу, то захочет ли ее кто-либо прочесть. И вот события неожиданно замедляют бег. Читатели удивленно вскинут брови, когда увидят, что в последней части книги целому столетию посвящено меньше страниц, чем десятилетию в середине. Возможно, решат, что автор выдохся, я же только замечу, что в том же самом подозревали всех историков, писавших о республике, к какой бы национальности те ни принадлежали и какой бы период времени ни описывали. Все просто: в XVII веке, по сравнению с минувшими столетиями, в политической жизни республики происходило мало событий, а в XVIII – и еще меньше. Считаю, что мне повезло: иначе пришлось бы работать еще несколько лет.
И все же, хотя задача передо мной стояла большая, награда за труды была еще больше. Одна непохожесть Венеции на другие города чего стоит! Венеция, единственная из всех больших городов Италии, основана и построена греками. Неудивительно, что здесь находится самая большая византийская церковь в мире. Там молятся христиане, а службу проводит патриарх. Даже перестав подчиняться Константинополю, Венеция долгое время поворачивалась к Италии спиной и смотрела на Восток. Сложный узел средневековой итальянской политики, гвельфы и гибеллины, император и папа, бароны и общины мало ее занимали. В конце концов, когда Венеция создала континентальную империю, ее характер обрел собственные – уникальные и причудливые черты.
Город обладает одной особенностью: Венеция водами лагуны была защищена от всех иноземных захватчиков, за исключением Наполеона, а в наше время от еще более ядовитой угрозы – автомобилей. Венеция сохранила свой облик. Мир видел ее такой не только при Каналетто, но даже и во времена Карпаччо и Беллини. Такая победа над временем – необычайный феномен в любом городе, а когда город к тому же и самый красивый в мире, этот феномен становится истинным чудом. Это обстоятельство большая удача для историка: он может в собственном воображении создавать более ясную и живую картину предмета своего исследования в период гораздо более ранний, чем где-либо в Европе.
В моей работе нет места воображению, но это и не нудное ученое исследование. Необходимость охватить большой временной период заставила меня ускорить темп, у меня не было времени на детальный анализ. Единственная поблажка, которую я себе позволил, – редкие остановки возле зданий и памятников, имеющих отношение к описываемым мною событиям. В остальном единственной моей целью был рассказ, как можно более краткий и уместный. Единственное, о чем жалею, что этот труд достался мне, а не отцу, который четверть века назад сделал бы это намного талантливее.
Часть первая
От варварских вторжений до Четвертого крестового похода
Вопрос: Что такое море?
Ответ: Путь отважных, граница земли, приют рек, источник дождей.
Алкуин. Катехизис
Глава 1
Начало
(до 727 года)
Они, что в страхе
Бежали от того, кто похвалялся:
«Где конь ступал мой – не растет трава», —
Они Венеции начало дали,
Как чайки, гнезда свили на волнах,
И в месте том, где на просторе
Гнал ветер с севера на юг песок,
Возвысился спустя десятилетья,
Поднявшись будто из морских пучин,
Прекрасный град, весь в золотистых шпилях,
В сиянии церковных куполов,
Обитель света, славная твердыня,
Оплот людской на многие века.
Сэмюел Роджерс
Вряд ли найдется другой такой большой город, которому удалось бы со всей полнотой сохранить первоначальную атмосферу и cоздавшие его традиции. Путешественник, приближающийся к Венеции по морю – а вид, открывающийся с водной глади, самый впечатляющий – либо по суше, через мост, или даже подлетающий к городу по воздуху, видит все ту же плоскую, пустынную водную поверхность, болота, поросшие тростником. Эти места облюбовали первые венецианцы. Каждый раз поражаешься даже не невозможности, а безрассудной храбрости такого предприятия. Это – удивительный мир, мир Венецианской лагуны. Около двухсот квадратных миль соленой воды, по большей части такой мелкой, что человек может пройти по ней, погрузившись по пояс. Однако она пересечена глубокими каналами, и многие столетия венецианцы прокладывают по ним путь к открытому морю. Здесь множество островов, образованных илом. Его принесли сюда Брента, Силе и другие реки. В песчаное дно вбиты бесчисленные ряды вех, отмечающие невидимые, но важные особенности – отмели, месторасположение плетеных ловушек для омаров, районы промысла рыбы, остатки кораблекрушения, кабели, якоря. Вехи указывают vaporetti[3 - Катер, вапоретти (ит.).] безопасный маршрут. Вапоретти снуют между городом и островами. В любое время года, при любом освещении вода на удивление светла. Лагуна не очень глубока, и поэтому здесь вы не увидите ни темно-синей бархатистости Средиземного моря, ни терпкой зелени Адриатики. И все же, особенно в осенние вечера, ее поверхность блестит, словно масло, под низким туманным солнцем. Вода выглядит на редкость красиво, и удивляешься тому, что великие венецианские художники, завороженные великолепием своего города, так мало внимания уделяли его окрестностям. Голландцы бы на их месте не растерялись! Впрочем, венецианская школа всегда отличалась жизнерадостностью; лагуна же, несмотря на свою красоту, невыразимо печальна. Задаешься вопросом: уж не сошли ли люди с ума? Зачем они оставили плодородные равнины Ломбардии и поселились на болотистых малярийных берегах, на песчаных островках, на ползучем пырее, зачем добровольно сделались игрушками капризной водной стихии?
На этот вопрос ответ может быть только один: единственным мотивом, побудившим их сделать столь странный шаг, был страх. Первыми строителями Венеции были напуганные люди. Откуда они пришли, неважно. Возможно, из Иллирии, хотя во времена Гомера считали, что они были из Анатолии, а на запад бежали после падения Трои. Как бы там ни было, к 400 году, началу истории Венеции, они являлись гражданами Римской империи, и жили они припеваючи в великолепных городах, таких как Падуя и Альтино, Конкордия и Аквилея, разместившихся вдоль северного и северо-западного берегов Адриатики. К лагуне приходили, чтобы пополнить запасы соли и за свежей рыбой. В других отношениях она их не интересовала.
Так бы, без сомнения, все и продолжалось, однако в начале V столетия началось Великое переселение народов. Сначала под командованием Алариха пришли готы. В 402 году они напали на Аквилею, а по пути разграбили и предали огню богатые провинции, Истрию и Венецию. Народ охватила паника. Городское и сельское население бежало в поисках спасения и остановило свой выбор на незавидной, но в то же время недоступной территории. Люди рассудили, что у врага не будет ни возможности, ни желания преследовать их. Оказалось, что на островах лагуны поселились самые дальновидные. Они верили, что варвары из Центральной Европы, не имевшие кораблей, не обладавшие навыками мореходства, оставят их в покое и отправятся разорять богатые, более заманчивые земли. И оказались правы. За несколько лет одно варварское нашествие следовало одно за другим. Полуострову был нанесен страшный ущерб, а потому все больше беглецов находило спасение, проплывая по каналам к свободе. В 410 году Аларих разграбил Рим; одиннадцать лет спустя Венеция отпраздновала свой день рождения. Произошло это в 421 году, 25 марта, в пятницу, в полдень.
Так, во всяком случае, гласит старинная венецианская легенда. К сожалению, документ, на котором она основана, соединяет основание города с визитом трех консулов из Падуи, с тем, чтобы они основали факторию на островах Риальто. Легенда скорее благозвучна, чем правдива. Согласно тому же документу, это событие будто бы отпраздновали возведением церкви в честь святого Иакова – Сан Джакомо[4 - Эта легенда подтверждает, что церковь Сан Джакомо ди Риальто самая старая в Венеции. Существующее здание, однако, не старше конца XI века. – Здесь и далее, если не указано иначе, примеч. автора.]. Вряд ли падуанцы тогда пытались закрепиться в лагуне, да и столь точная дата кажется слишком невероятной, чтобы можно было поверить в эту легенду. В первой половине V века мало кто из островитян причислял себя к постоянным жителям лагуны. С каждой волной ушедших восвояси варваров большинство людей возвращались в свои дома – или в то, что от них осталось, – и пытались продолжить прежнюю жизнь на большой земле. Лишь позже потомки первых поселенцев стали понимать, что лучше этого не делать.
Ибо готы были лишь началом. В 452 году обрушилась новое бедствие – куда более жестокий и свирепый враг. Гунн Аттила безжалостно прошелся по Северной Италии, оставив за собой выжженную землю. Напал он и на Аквилею. Город три месяца героически защищался. Варвары, не привыкшие к такому сопротивлению, настроились бросить осаду и заняться более легкой добычей. Но однажды, обходя стены, Аттила поднял глаза и заметил аистов, вылетевших из города со своим выводком. И тут, процитирую Гиббона, «он воспринял быстрым умом политика этот пустяковый эпизод как предзнаменование, как шанс, что предложен судьбой», и сказал своим воинам, что Аквилея обречена. Усталые варвары вдохновились, удвоили усилия, и через два дня от великой девятой метрополии Римской империи остался лишь остов.
В последующие годы все больше городов и деревень подверглись той же участи; поток беженцев усилился. Многие по-прежнему возвращались на материк, как только опасность отступала, однако все больше оказывалось тех, кто считали, что новая жизнь не так уж и плоха, и потому решали остаться. В то время как на континенте положение ухудшалось, островные деревни, напротив, росли и богатели. В 466 году представители этих поселений встретились в Градо и договорились о создании примитивной системы самоуправления – совета представителей. Членов первого правительства выбирали раз в год. На той стадии это была свободная диаспора, даже не привязанная к маленькому архипелагу, который мы теперь знаем как Венецию. Сам Градо находится в собственной лагуне, в шестидесяти милях к югу от Аквилеи. Но именно это разобщенное расстояниями сообщество более точно, чем что-нибудь еще, указывает на начало медленного конституционного процесса, из которого выросла самая стабильная республика.
Самоуправление, разумеется, не то же самое, что независимость, тем не менее географическая изоляция первых венецианцев уберегла их от вмешательства в политическую борьбу, отголоски которой сотрясают Италию и поныне. Даже падение Римской империи, низложение последнего императора, юного Ромула Августа, варваром Одоакром вызвало лишь легкую рябь в водах лагуны. А когда Одоакра, в свою очередь, изгнал вождь остготов Теодорих, то и он сомневался, может ли он требовать послушания Венеции. Письмо, адресованное «морским трибунам» и высланное в 525 году из Равенны преторием Теодориха Кассиодором, кажется несколько льстивым, хотя это всего лишь рутина политических будней. Кассиодор писал:
Год был на редкость урожайным, и вина и масла заготовлено много, а потому отдан приказ отправить их в Равенну. А потому молю вас проявить свою преданность и доставить их сюда как можно скорее. Ведь вам принадлежат множество судов в этих краях… Вашим кораблям не приходится бояться порывов штормового ветра, ведь они могут в течение долгого времени держаться берега. И часто случается, что только борта их открыты взгляду, и кажется, будто они плывут по полям. Иногда вы тянете их на веревках, а бывает, что мужчины ногами помогают передвигать их…
Ибо живете вы подобно птицам морским, дома ваши рассредоточены, словно Киклады, по водной глади. Лишь ивы и плетни не позволяют распасться земле, на которой они стоят; и все же вы дерзаете противопоставить непрочный этот оплот бурному морю. У вашего народа есть огромное богатство – рыба, которой с избытком хватает на всех. Вы не различаете богатых и бедных; пища у всех одинакова, дома похожи. Зависть, что правит всем остальным миром, вам неизвестна. Все силы свои вы тратите на добычу соли, и именно в ней таится секрет вашего процветания, и еще в вашем умении с выгодой покупать то, чего у вас нет. Ведь можно было бы отыскать людей, которые не стремятся обладать золотом, но нет среди живущих такого, кто не желал бы соли.
Итак, поспешите расправить снасти ваших судов, которые вы, словно лошадей, привязываете к порогу своего дома, и быстрее пускайтесь в путь…
Даже сделав скидку на естественный для Кассиодора цветистый стиль, его описание безошибочно: хотя эти странные «береговые жители» могут быть полезны королю остготов, обращаться с ними следует осторожно. И настоящая ценность его письма состоит в описании – самом раннем из дошедших до нас – жизни в лагуне[5 - Интересно сравнить с более поздней, а потому и менее достоверной попыткой воссоздания атмосферы Венеции VI века в пьесе д’Аннунцио «Корабль», рассказывающей о Венеции 552 года.]. Из письма ясно также, что два столпа, на которых будет основываться величие Венеции – торговля и мореплавание, – были известны уже и тогда. Торговля у этих поселенцев была в крови. Соль, которую они добывали на мелководье, была не только ценным товаром, ее можно было использовать для засаливания рыбы. Почти с такой же легкостью они ловили ее в море, а на дичь охотились в окрестных болотах. К середине VI века плоскодонная торговая венецианская баржа стала обычным явлением на реках Северной и Центральной Италии.
Зародился и морской флот. Насколько мы можем судить, во времена Теодориха он требовался для разовой перевозки в Равенну необходимых товаров. Но миру, который Теодорих принес на полуостров, пришел конец еще прежде, чем король умер. Хотя вторжение остготов совершилось при византийском покровительстве, дальнейшее правление Теодориха стало абсолютным: он не допускал вмешательства в свои дела ни со стороны Константинополя, ни с любой другой. При нем Италия фактически перестала являться частью Восточной империи. Более того, он и его преемники ревностно придерживались арианства. Арианство, согласно которому Христос был не богом, а лишь творением бога-отца, а потому стоял ниже его, было осуждено как ересь. Тем не менее эти воззрения проповедовали первые христианские миссионеры. С ними находилось в контакте большинство варваров, и суждения эти открыто разделяли почти все европейские племена. Сам Теодорих отличался толерантностью, он покровительствовал всем религиям и особенно сурово наказывал за гонения евреев, однако убеждения его народа распалили византийские амбиции. В 535 году император Юстиниан начал большую кампанию по возвращению своего итальянского наследства и поручил это задание самому талантливому военачальнику – Велизарию.
Жители лагуны снова остались в стороне, однако понадобились их корабли, на этот раз для менее мирных целей. В 539 году Велизарий и его армия дошли до стен Равенны. Венецианцев просили открыть свои бухты для греческих кораблей, чтобы те подошли с подкреплением, и послать собственные мелкие суда для блокады столицы.
Равенна пала; Италия снова стала частью империи, хотя и прошло много лет, прежде чем на полуостров вернулся мир. Старые римские провинции, Венеция и Истрия, территориально не изменились и с готовностью подчинились новым греческим хозяевам. Жителям этих провинций хуже не стало. Правительство работало, как и обычно, и во главе находились собственные всенародно избранные трибуны. Их отношения с имперскими властями были отдаленными, но дружелюбными. В 351 году они помогли преемнику Велизария, семидесятилетнему евнуху Нарсесу: доставили по морю в Равенну отряд ломбардских наемников. За это будто бы Нарсес построил на Риальто две церкви. Одна из них носила имена святых Джиминьяно и Менны – любопытное соединение епископа Модены и малоизвестного фригийского мученика. Стояла она, по всей видимости, в центре нынешней площади Сан-Марко. Другая церковь находилась на месте часовни Сан Исидоро. Она была посвящена первому венецианскому святому покровителю Теодору Амасийскому. Его до сих пор можно увидеть поражающим крокодилоподобного дракона на вершине западной колонны, возвышающейся на Пьяцетте возле базилики Сан Марко.
Дважды за двенадцать лет венецианцы приходили на помощь Константинополю – предоставляли флот, который, без сомнения, был самым могучим на Адриатике. За это их наверняка уважал экзарх Равенны и его военачальник (magister militum), об этом говорят и чудовищно неточные «Хроники Альтино», смешивающие правду и вымысел, однако остающиеся главным источником сведений о том периоде. Хроники слегка искаженно пересказывают историю о том, как в 565 году, после смерти Юстиниана, Нарсеса отправили в отставку, а его преемник Лонгин нанес официальный визит в лагуну. Стоит процитировать сказанные ему по этому поводу слова венецианцев:
Господь, наш небесный помощник и защитник, позволил нам жить на этих болотах, в домах, построенных из дерева и ивовых прутьев. Новая Венеция, которую мы построили в лагуне, стала для нас могучим обиталищем, и мы не боимся вторжения королей и принцев, даже самого императора… если только они не придут по морю, но тут им придется испытать нашу силу.
Несмотря на вызов, заметный в этих строках, Лонгину, похоже, оказали радушный прием, «с колокольчиками, флейтами, кифарами и другими музыкальными инструментами, способными заглушить гром небесный». Позже венецианские послы сопровождали его в Константинополь и вернулись с первым официальным соглашением, заключенным между Венецией и Византией: в обмен на лояльность и услуги жители лагуны получали военную защиту и торговые привилегии.
Хроники утверждают, что Лонгин не стал требовать клятвы верности, в результате все следующее тысячелетие патриоты твердили, что Венеция никогда не служила Византии. Процитированные выше слова – не следует забывать, что написаны они спустя шесть веков, – являются еще одним отражением этой позиции. Только в последнее столетие византийские ученые пристально и беспристрастно изучили свидетельства того времени и твердо заявили, что первые венецианцы, невзирая на то, были или нет у них особые привилегии, являлись подданными Византийской империи в самом полном значении этого слова, так же как и менее удачливые их соседи на континенте. Независимость не спустилась чудесным образом с небес на город, она рождалась медленно, быть может, поэтому город столько веков оставался независимым.
Евнухи, как все знают, люди опасные, и сердить их не стоит. Отставка Нарсеса, как принято думать, имела для Венеции (как и для всей Италии) бо?льшие последствия, нежели изменение ее политического статуса. Старик хорошо служил своему императору. В возрасте, в котором обычно уходят на заслуженный отдых, он возглавлял рискованные военные кампании на всем полуострове. Даже поражение в битве с остготами у подножия Везувия в 553 году его не сломило. Он тут же начал программу реорганизации и занимался ею двенадцать лет, пока на восемьдесят восьмом году жизни его не поразил удар. После отставки императрица София послала ему золотую прялку и пригласила – поскольку настоящим мужчиной тот не был – прийти и прясть в дворцовых покоях вместе с ее рабынями-прядильщицами. «Я подарю ей такую прялку, – сказал якобы Нарсес, – что она до конца жизни с ней не справится», – и тут же направил королю Ломбардии (сейчас это территория современной Венгрии) Альбоину посланцев со всеми дарами Средиземноморья, приглашая его людей на землю, которая родит такие богатства.
Альбоин согласился, и в 568 году ломбардцы вторглись в Италию. Это была последнее и самое продолжительное варварское нашествие. Снова людской поток устремился из городов в лагуну, однако было и отличие. Люди приходили уже не как напуганные беженцы, намеревавшиеся пробыть в вынужденной ссылке до конца войны. Вера в лучшие времена была утрачена. Им хватило кровопролития, насилия и разрушений, которые с каждым новым вторжением становились все ужаснее. Теперь они шли толпами, целыми поселениями, во главе со священниками, несущими святые реликвии. Эти реликвии, спасенные от врага, они поставят в новых домах, которые сами для себя построят. Так сохранится символическая и непрерывная связь с их прежней жизнью, единство прошлого и настоящего.
Сохранилось много древних историй и легенд, связанных с этими миграциями. Между тем Италия на семьдесят лет попала под власть Ломбардии. «Хроники Альтино» рассказывают, например, будто епископ Альтино услышал голос с небес, приказавший ему взобраться на крышу соседней башни и посмотреть на звезды, и эти звезды показали ему – возможно, с помощью отражения на воде – остров, на который он должен повести свою паству. Они поселились в Торчелло, назвав его так в честь «маленькой башни», на которую забрался епископ. Таким же образом жители Аквилеи – город за сто пятьдесят лет опустел в третий раз – нашли дорогу в Градо; люди из Конкордии вместе с епископом бежали в Каорле, жители Падуи нашли прибежище в Маламокко. Наконец, в 639 году, в правление императора Ираклия, ломбардцы захватили Одерцо, чьи жители, вместе с греческими чиновниками, бежали в уже существующее поселение Читтанова в устье реки Пьяве. Одерцо стало последней точкой опоры империи на континентальной Венеции. Таким образом, некогда великая провинция сократилась до поселения в лагуне, если не считать удаленных территорий на полуострове Истрия. Ее столицей стала Читтанова, которую в честь императора переименовали в Эраклею, но Торчелло, кажется, не утратил своего значения, и именно там в том же 639 году в честь Богоматери построили базилику. Ее заложил сам Ираклий, сделавшийся покровителем храма. Сохранился документ, регистрирующий основание базилики, с указанием византийских чиновников, имевших к этому отношение, Исаака, экзарха Равенны, и Мориса, главнокомандующего. Сейчас церковь известна как собор Санта Мария Ассунта[6 - В 864 и 1008 годах собор перестраивали. Здание, построенное в 1008 году, сохранилось до наших дней. Великолепные мозаики появились позднее, в XII и XIII веках. Так как очертания побережья Адриатики постоянно меняются, Эраклея исчезла практически без следа. Возможно, она стояла не на месте нынешней деревни, носящей это имя, а в нескольких милях к юго-востоку, возле Кортелаццо.].
Самое первое бегство из-под ломбардского владычества – из Аквилеи в Градо – было наиболее важным с точки зрения дальнейшего исторического развития. Принято считать, что епархия Аквилеи была основана святым Марком, вследствие чего ее архиепископ – получивший впоследствии титул патриарха – стал главным священником в Венецианской лагуне и занял второе место в итальянской церковной иерархии, сразу после папы римского. Тогда эта должность была скорее мифической, чем реальной, поскольку архиепископ Паулин не только избавил своих последователей от ереси (ломбардцы придерживались арианства), но также практически в то же время начал раскол. Не станем останавливаться на исторических и теологических причинах его разрыва с Римом (обычно это называется расколом из-за «трех глав»). Нам важно то, что с церковной точки зрения Венеция с самого основания была городом раскола, и, хотя митрополит Градо в 608 году вернулся в лоно римской церкви, раскол поддерживал мятежный архиепископ старой Аквилеи, ибо почти все следующее столетие обе стороны осуждали друг друга и подвергались взаимным интердиктам. Наконец, противники сошлись на диспуте, однако былое единство не удалось восстановить. Аквилея и Градо оставались независимыми епархиями, первая распространяла свое влияние на старые континентальные территории провинции, вторая – на Истрию и Венецианскую лагуну. Их взаимная ревность в течение нескольких поколений отравляла взаимоотношения Венеции с материковыми территориями как в политическом, так и в религиозном отношении. Но епископское кресло, на котором некогда сидел святой Марк, занял патриарх Градо. Произошло это в большой церкви, построенной Паулином и его последователями вскоре после прибытия. Церковь стоит до сих пор. Посвящена она, как ни странно, не евангелисту, а святой Ефимии, одной из девственниц, замученных в Аквилее. Тем не менее это было началом долгого «сотрудничества» святого Марка и Венеции, что подтвердилось, когда через 250 лет его мощи доставили в Венецианскую лагуну из Александрии.
После внезапного наплыва переселенцев Венеция начала быстро развиваться, но городом ее назвать было еще нельзя. Несмотря на две церкви, построенные Нарсесом, острова Риальто, образующие Венецию, знакомую нам сегодня, в VI и VII веках были почти необитаемы. На этой стадии будущая республика являлась всего лишь слабым объединением островных поселений, раскиданных на обширном пространстве, и всех их едва связывала правящая рука Византии. Даже латинское название города, которое использовали его обитатели, имело множественное число – Venetiae[7 - Было бы приятно, хотя и вряд ли справедливо, принять традиционную теорию о происхождении этого имени. Сын архитектора Якопо Сансовино, ученый и литератор, опубликовал в 1581 году книгу «Venetia, citta nobilissima et singolare, descritta in XIII libri». Она остается одной из важнейших работ, когда-либо посвященных Венеции. Там написано: «Некоторые утверждают, что слово “Venetia” – это “veni etiam”, что значит “приходи снова и снова”, потому что каждый раз ты увидишь что-то новое и прекрасное».]. У этих территорий не было центра. Эраклея являлась резиденцией византийского наместника, Градо считался вотчиной патриарха. И то и другое были большими деревнями. Торчелло был богаче обеих, и со временем соседи все больше на него косились. По мере разрастания отдельных поселений неприязненные отношения становились неизбежными; венецианцы VII столетия, похоже, утратили святую простоту, так поразившую в VI веке Кассиодора. Старые трибуны и недавно прибывшие епископы оспаривали друг у друга власть, а различия между соседними общинами в любой момент перерастали в открытое противостояние, и византийские власти не в силах были с этим справиться. Византийское присутствие в Эркалее мешало венецианцам самим выдвинуть из своей среды лидера, который мог бы их объединить. Неизвестно, сколько бы все это продолжалось, если бы не кризис византийской Италии 726 года.
Кризис начался, когда византийский император Лев III приказал уничтожить в своих владениях все иконы и святые изображения. Последствия такого приказа были ужасными. Население в гневе немедленно восстало, в особенности монастыри. В восточных провинциях империи иконопочитание достигло такого размаха, что во время таинств изображения святых часто заменяли крестных родителей. Реакция верующих стала неизбежной. Но даже в более умеренных западных провинциях новый закон был с негодованием отвергнут. Итальянская провинция Византийской империи, с энтузиазмом поддержанная папой Григорием II, восстала против своих хозяев. Павел, экзарх Равенны, был убит, его сподвижники бежали. Мятежные гарнизоны, состоявшие из местных жителей, избрали в экзархате собственных командиров и объявили о своей независимости. Выбор лагунных общин пал на некого Урсуса, или Орсо, из Эраклеи. Его поставили во главе бывшего правительства провинции и дали титул Dux[8 - Вождь, воевода (лат.).].
В последнем событии не было ничего примечательного. То же происходило в это время во многих других мятежных городах. Венецию отличает от остальных тот факт, что назначение Орсо положило начало традиции, которая в неизменном виде длилась более тысячи лет. Его титул – дюк – под воздействием грубого венецианского диалекта превратился в слово «дож». Сто семнадцать дожей сменили друг друга, прежде чем республике пришел конец.
В ранней венецианской истории очень часто перемешиваются правда и вымысел. В этом читатель может легко убедиться. Если вам случится прочесть на эту тему стандартную английскую монографию, то вы узнаете также, что история дожей предстает в ином свете, нежели раньше. Если поверите, что Венеция изначально была основана как свободный город, не сможете принять теорию о мятеже против византийцев. Согласно общепринятой версии, в 697 году все жители лагуны явились в Эраклею по призыву патриарха Градо. Он сказал, что их внутренние распри угрожают будущему страны, и предложил венецианцам избрать единого правителя вместо двенадцати трибунов. Выбор пал на некого Паолуччио Анафесто, который вскоре после этого заключил мирный договор с королем Ломбардии Лиутпрандом.
История звучит вполне правдоподобно. Но все происходило в века более ранние, чем первые дошедшие до нас документы. Так, самая ранняя история Венеции предположительно написана хронистом дьяконом Иоанном в начале XI столетия. В каждом перечне имен дожей первым, разумеется, стоит Паолуччио. У нас даже есть его портрет. С него начинается долгая портретная галерея на стенах дворца в зале Большого совета (Sala del Maggior Consiglio). К сожалению, он никогда не существовал, дожем, во всяком случае, не был, как не был и венецианцем. И договора с Лиутпрандом не было. Все, что нам известно из подлинных источников, это то, что некий dux Паулиций вместе с главнокомандующим Марчелло отвечал за оборону венецианской границы возле Эраклеи и что этот рубеж позже захватили ломбардцы. Венеция, как мы знаем, была в то время византийской провинцией. Очевидный и единственно верный вывод, который можно извлечь из этого, это то, что таинственный Паулиций был не кем иным, как Павлом, экзархом Равенны, правившим с 723 года и до своей гибели от рук мятежников в 727 году, в том самом году, на который случайно указывает дьякон Иоанн, сообщая о смерти Паулиция. Ему, как второму лицу после императора, недостойно было бы оборонять границу, как и наместнику провинции Марчелло, которого хронисты сделали вторым дожем. Историки Венеции, так же как и ее архитекторы, установили фундамент на болоте.
Глава 2
Возникновение
(727–811)
А близ них молодой Пипин.
Простер воинство
От Теснии до Палестринского берега,
Не жалея трудов и трат,
Чтобы вытянуть мост от Маламокко
До Риальто, и биться на мосту,
И бежать, растеряв своих в пучине,
Когда море бурею сбило мост[9 - Перевод М. Л. Гаспарова.].
Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь XXXIII
Мятеж Италии против византийских правителей скоро закончился. Папа Григорий, будучи духовным наставником, не хотел дальнейшего усиления ломбардских еретиков. Скоро стало ясно, что подчинение иконоборческому декрету не сможет на Западе принять серьезные формы. Возмущение схлынуло, и люди почувствовали, что новые демократические образования смогут получить продолжение в отдельных городах, даже если при этом поддерживать по меньшей мере номинальную приверженность империи. Неудивительно поэтому, что через несколько лет дожу Орсо пожаловали имперский титул Hypatos, или консул. Этим он, похоже, так гордился, что его потомки стали называть себя ипатами. Какие бы нововведения ни происходили в политической сфере, институциональные и эмоциональные связи с Константинополем не прерывались. А Орсо был лишь первым из дожей, возгордившихся от византийской лести. Звучные слова, такие как патриций (patricius), проэдр (proedrus) или спафарий (spatharius)[10 - Патриций – высший титул, дававший право занимать самые высокие должности; проэдр – высокий титул X–XII веков – глава сената. Спафарий – титул ниже ипата. – Примеч. ред.], звучали постоянно, вплоть до X века, и даже позднее. Очень скоро костюм дожа стали шить по образцу экзарха и даже самого императора. Церемониал намеренно повторял имперские ритуалы; воскресные мессы в соборе Сан Марко были эхом греческой литургии в храме Святой Софии. Многих византийских девушек отправили по морю на запад, к венецианским женихам, а венецианцы посылали своих сыновей на восток – заканчивать образование в Константинополе.
Тем не менее политическое давление империи на Венецию ослабело. Греки уступили не без борьбы, однако стало ясно, что власть Византии в Северной Италии заканчивается. В 742 году, после короткого междуцарствия, вторым дожем Венеции был избран сын Орсо Теодато – или Деусдедит, как его называли. Одновременно с избранием он перенес свою резиденцию из имперской Эраклеи в центр республики Маламокко[11 - Старый Маламокко располагался не в том месте, где сейчас находится современный городок, а на восточном берегу Лидо. Он был смыт морем в 1105 году.] и здесь в качестве суверенного правителя занимался всеми практическими вопросами.
Равенна пала в 751 году, и, хотя Венецианская лагуна казалась слабее, чем было на самом деле, ломбардцы, похоже, намеревались войти в Венецию. К счастью, у преемника Лиутпранда, короля Астольфа, были другие неотложные проблемы. В том самом году за Альпами Пипин Короткий, сын Карла Мартелла, сместил короля Хильдерика III и захватил франкский престол. Почти сразу же по приглашению папы Стефана II он перебрался в Италию и быстро, одну за другой, разбил две ломбардские армии. С этого времени, несмотря на то что большая часть его побед была посвящена Стефану и это привело к созданию Папского государства и усилению власти папы, франки являлись главной силой в Северной Италии. И снова Венеция осталась в стороне. В территориальный передел район лагуны не вошел; франки не спешили распространять там свое влияние, и только через шестьдесят лет после падения экзархата венецианцам пришлось защищать молодую республику с оружием в руках.
Это, однако, не значит, что вторая половина VIII века обещала стать для венецианцев более мирной, чем первая. Венеция, возможно, нашла форму правления, которая ее устраивала, однако не добилась при этом ни внутренней стабильности, ни сплоченности. Различные поселения занимали непримиримые позиции, и даже внутри отдельных общин кипели страсти и борьба между фракциями. Дож Теодато, как и его отец, закончил свое правление ужасно: соперник сместил его и ослепил. Впрочем, не прошло и года, как и его самого постигла та же участь. Четвертый дож продержался немногим дольше, однако ему не нравилось, что каждый год избирают двух трибунов, ограничивавших его власть. Через восемь лет сместили и этого дожа.
С избранием в 764 году Маурицио Гальбайо ситуация начала выправляться. Уроженец Эраклеи, заявлявший о своем происхождении от императора Гальбы, знаменовал собой возвращение к старой провизантийской традиции. Его враги, оба стойкие республиканцы, верили в то, что процветание Венеции тесно связано с поднимавшимся франкским королевством. Вероятно, они считали его реакционером, и их подозрения подтвердились: в 778 году он назначил себе соправителя, сына Джованни. Для развивающейся республики такой шаг столь же опасен, сколь и беспрецедентен. Теодато Ипато и в самом деле наследовал своему отцу, но произошло это не тотчас, да и наследование было поддержано народным голосованием. С другой стороны, возвышение Джованни Гальбайо означало, что после смерти Маурицио он автоматически получит полные права независимо от одобрения подданных. Ему с ними даже не надо будет советоваться. То, что старый дож искал и нашел в Константинополе одобрение императора, республиканцев вряд ли утешило.
Это не сулило ничего хорошего в перспективе, и дело не только в том, что Маурицио удалось осуществить свое намерение, но и в том, что в 796 году Джованни тоже разрешили взять себе в соправители сына. Тем самым Венеция сделала еще один шаг по дороге к наследственной монархии. Самое вероятное объяснение заключается в том, что венецианец-обыватель устал от кровопролития. Ему хотелось, чтобы один правитель спокойно приходил на смену другому, не нарушая общественного спокойствия и, разумеется, не мешая торговле. В этом нет ничего нового: мирный переход власти всегда считался самым красноречивым аргументом в пользу наследственности, и во многих странах мира полностью себя оправдал. Но только не для венецианцев, как скоро все в том и убедились.
Первые Гальбайо, считать их реакционерами или нет, заслуживали доверия. Одиннадцать лет они успешно и уверенно правили. Богатство рода росло, численность подданных возрастала, люди начали обживать разные острова лагуны, которые до тех пор ранние поселенцы по тем или другим причинам игнорировали. Люди, жившие на Риальто, на полпути между песчаными отмелями и континентальным побережьем, со времен Нарсеса оставались в изоляции. Песчаные, а скорее, грязные отмели затрудняли доступ к окружающим низинам, затапливаемым высокой адриатической волной. Эти острова не представляли соблазна для колонистов. Те, кто устал от бесконечных споров и дрязг в общинах, смотрели на центральные острова как на возможность начать мирную жизнь с чистого листа. С VIII века там развернулось серьезное строительство. Сначала, кажется, оно было сосредоточено в восточной стороне, на маленьком острове Оливоло. Туда бежали троянцы после разрушения их города. Там построили крепость, которая позже стала замком Кастелло. Примерно в 773 году дож Маурицио основал здесь новую епархию и переделал маленькую церковь, носившую имя святых Бахуса и Сергия, в собор Сан Пьетро[12 - Еще одна легенда приписывает выбор этого места самому святому Петру, чудесным образом явившемуся епископу Эраклеи и указавшему «место, где он увидел стадо пасущихся вместе коров и овец». Собор Сан Пьетро ди Кастелло с тех пор неоднократно перестраивался, последний раз – в 1598 году. Неудачное подражание стилю Палладио. На протяжении всего существования республики он являлся кафедральным собором Венеции. Только в 1807 году он уступил «титул» базилике Сан Марко, которая до того была просто церковью при Дворце дожей.].
В том же году старый дож скончался, и его сын, как и следовало ожидать, взял управление в свои руки. Увы, Джованни Гальбайо не обладал талантом отца: он был неспособен справиться с меняющейся ситуацией в остальной Италии, где франки быстро укрепляли свои позиции и становились угрозой независимости республики. Пипин умер, ему наследовал сын Карл – Карл Великий. Он прожил пятнадцать лет в Италии и за это время успел вызвать сильную неприязнь у венецианцев, которых он не без причины подозревал в получении больших доходов от работорговли. Однажды, по случаю, он обратился к папе и попросил его принять меры. После победы, одержанной над ломбардцами его отцом Пипином, папа оказался хозяином значительной части итальянского полуострова. Сам папа и его земля нуждались в защите, и в этом он полностью зависел от королевства франков. Его профранкская политика была естественным образом поддержана большей частью римского духовенства. Случилось так, что из двух традиционных фракций, давно существовавших в Венеции, которые для упрощения можно назвать провизантийской фракцией в Эраклее и республиканской в Маламокко, выросла третья, с сильным клерикальным уклоном. Она стояла за альянс с франками.
В последние годы века третья партия набирала силу и на Рождество 800 года получила более сильную поддержку: папа сделал Карла Великого императором Запада – Священной Римской империи. Патриарх Градо некоторое время открыто бунтовал против центральной власти на Маламокко, и теперь его призывы стали представлять опасность для государства. Дож Джованни, который к этому времени последовал примеру отца и взял в соправители сына, еще одного Маурицио, хорошо сознавал грозившую ему опасность и, пытаясь воспользоваться влиянием патриарха, назначил молодого грека по имени Христофор в новую епархию на Оливоло. К сожалению, Христофор не смог приступить к своим обязанностям без посвящения в духовный сан патриархом. Его святейшество отказался проводить эту церемонию, и дело тут было даже не в возрасте епископа – юноше исполнилось всего шестнадцать, – а в антифранкских высказываниях Христофора. В ответ дож послал сына в Градо вместе с флотилией. Патриарха схватили, подняли на дворцовую башню и, сильно израненного, сбросили вниз.
Политические убийства редко достигают той цели, ради которой совершаются. Ужас от этой вести распространился далеко за пределами Градо. Многие поколения людей утверждали, что видели следы крови на мостовой под башней. Не успел Маурицио вернуться домой, как до него дошла новость, что на место убитого патриарха избран его племянник Фортунат. К правлению Гальбайо Фортунат был расположен еще меньше, чем дядя, а потому немедленно уехал к франкам. Тем временем другие светские лидеры оппозиции, опасавшиеся, как и он, что недавние события в Градо могут стать прелюдией к террору в самой Венеции, удалились в Тревизо, где под руководством бывшего трибуна по имени Антенорио Обелерио организовали заговор против двух дожей. В 804 году они добились успеха. Народное восстание сместило Гальбайо. Им еще повезло уйти живыми. Молодой епископ Христофор последовал за ними в ссылку, а Обелерио с триумфом вернулся в Венецию, где сразу же получил высший пост.
Но если венецианцы думали, что последний государственный переворот положит конец всем их проблемам, то скоро им пришлось сильно разочароваться. Обелерио времени зря не тратил: быстро сделал соправителем своего брата Беато, и власть нового дожа трудно стало отличить от старой. Внутреннее беспокойство еще больше усилилось. За последние два года страсти накалились, что в свою очередь вызвало новые проблемы и новые обиды, требовавшие отмщения. Между Эраклеей и Маламокко разгорелась вражда, и все кончилось тем, что Эраклею сожгли дотла. Прошло несколько месяцев, казалось, что два злополучных правителя повторят путь своих предшественников. Но тут на политической сцене с предложением выступил патриарх Фортунат. Если Обелерио восстановит его в правах и признает власть франков над Венецией и лагуной, дож с братом смогут рассчитывать на протекцию Западной Римской империи.
И Обелерио, и его брат особой симпатии к франкам не проявляли, но теперь у них выбора не было. В Рождество 805 года правители Венеции присягнули в Ахене Карлу Великому, императору Священной Римской империи. Обелерио пошел еще дальше: среди придворных дам выбрал себе франкскую невесту, и она вернулась с ним в Венецию в качестве первой догарессы в истории.
Известие о венецианском предательстве – по вполне понятным причинам именно так его все и восприняли – вызвало в Константинополе большое недовольство. Византийцы, по праву считавшие себя законными наследниками Римской империи, еще не вполне оправились от шока, вызванного коронацией Карла Великого. Когда двумя годами позже правящая императрица Зоя (ок. 978–1050) не сразу приняла предложение Карла о браке, ее тут же сместили и выпроводили на остров Лесбос. Новый император Никифор, хотя и вынужден был принять возродившуюся Западную Римскую империю как данность, однако не без протеста воспринял покушение на свою власть. В 809 году византийская эскадра прибыла к далматскому берегу и бросила якорь в лагуне.
Приняли их холодно. Попытки византийского адмирала договориться отклонялись, пока, потеряв терпение, он не вынужден был атаковать – не саму Венецию, а франкскую флотилию, стоявшую в Комаччо, в сорока милях к югу от места переговоров. Флотилия оказалась сильнее, чем он предполагал. Спустя несколько дней, разбитый и униженный, он удалился на свою базу в Кефалонии.
В Венеции ситуация была такой же запутанной, как и прежде. Вражда, возобновившаяся между двумя соперничающими империями, выразилась в очередном обострении борьбы между партиями. Обелерио и Беато, привлекшие к правлению и третьего брата, Валентино, разыгрывали свою последнюю карту. Они направили гонцов в Равенну к Пипину с приглашением занять Венецию и разместить войска на территории всей провинции. Пипин согласился. По условиям договора 805 года выбора у него почти не было. Тем не менее он мог бы выяснить, как его встретят.
Экспедиция Пипина была подготовлена наспех. Из Равенны он выехал в начале 810 года. Обнаружилось, что венецианцы подготовились к его приезду, но не так, как он ожидал. Жители лагуны, увидев наконец грозившую всем опасность, забыли о внутренних противоречиях. Они попросту проигнорировали протесты и объяснения трех дожей. Братья оказались предателями, впрочем, их судьбу решат потом. Поручив оборону республики одному из старых поселенцев Риальто, некоему Аньелло Партечипацио[13 - Есть другой вариант его фамилии – Партечако. Позже, в X веке, этот род стал именоваться Бадоер.], они заблокировали каналы, убрали все лоцманские знаки и подготовились встречать врага, вооружившись тем, что было в их распоряжении.
Хотя Пипин встретил яростное сопротивление с того момента, как его армия вступила на венецианскую землю, он без труда завладел Кьоджей и Пеллестриной в южной оконечности лагуны. Но в канале Маламокко, отделявшем остров Пеллестрина от острова Маламокко (ныне известном как Лидо), он был вынужден остановиться. О том, что произошло потом, до нас дошел живой рассказ не кого-нибудь, а византийского императора Константина VII Багрянородного в трактате «Об управлении империей», который он написал для своего сына в середине X века. Хотя Константин и не являлся свидетелем тех событий, вполне возможно считать его источником надежных сведений.
Поэтому венетики, видя, что на них идет со своим войском король Пипин и что он намерен отплыть с конями к острову Мадамавку [Маламокко]… перегородили всю переправу, бросая шпангоуты. Оказавшись в бездействии, войско короля Пипина (ибо он был не в состоянии переправить их в ином месте) простояло напротив венетиков на суше шесть месяцев, воюя с ними ежедневно. Тогда как венетики поднимались на свои суда и устраивались позади набросанных ими шпангоутов, король Пипин стоял со своим войском на морском берегу. Венетики, воюя луками и пращами, не позволяли им переправиться на остров. Так, ничего не достигнув, король Пипин заявил венетикам: «Будьте под моею рукою и покровительством, ибо вы происходите из моей страны и державы». Но венетики ему возразили: «Мы желаем быть рабами римского императора, а не твоими»[14 - Константин Багрянородный. Об управлении империей. Перевод Г. Г. Литаврина.].
Войско Пипина продолжало наступление на других направлениях. Пал Градо, пал Езоло, но жители острова Ма-ламокко, переправив женщин и детей на Риальто, слабости не проявили. Как гласит легенда, однажды, прослышав о том, что Пипин намерен заморить их голодом, продемонстрировали ему тщетность его надежд – стреляли по его армии хлебом. Весна тем временем сменилась летом, и эпидемия, охватившая лидийские берега, начала косить захватчиков. Распространился слух, что на помощь Венеции движется огромный византийский флот. Пипин понял, что проиграл, и отдал приказ к отступлению. На его решение, должно быть, подействовало состояние собственного здоровья, ибо через несколько недель он скончался.