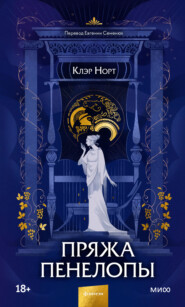скачать книгу бесплатно
Глава 2
Пурпурными перстами заря медленно провела вдоль спины Итаки, словно неумелый любовник, запутавшийся в длинном подоле. Рассвету этого дня больше подошел бы алый оттенок, в тон крови, окрасившей волны у Фенеры; ему пристало бы, подобно акулам, кружить вокруг острова. Посмотрите на море: даже глаза богов с трудом разглядят три паруса, исчезающих за горизонтом на востоке, а с ними – похищенный скот, зерно и рабов. Они будут далеко, очень далеко, когда корабли Итаки поднимут наконец паруса.
Поговорим же об Итаке.
Это отсталый, никудышный островок. Ни моих золотых шагов по ее скудной почве, ни ласковых слов, что шепчу на ухо ее просоленным матерям, Итака не стоит: она не заслуживает внимания богини. Но такова печальная правда: эта несчастная земля настолько бесплодна, что редко привлекает взор других богов; и я, Гера, мать Олимпа, та, что свела с ума Геракла и превратила в камень заносчивую царицу, – что ж, хотя бы здесь могу иногда потрудиться, не вызывая осуждения своих сородичей.
Забудьте песни Аполлона, забудьте гордые заявления высокомерной Афины. Своей поэзией они лишь прославляют самих себя. Послушайте мой голос: голос той, кого лишили причитающихся чести, власти и пламени; той, кому нечего терять, ибо у нее все отняли поэты. Я одна расскажу вам правду. Я, разводящая завесы времени, расскажу истории, которые могут поведать только женщины. Так последуйте за мною к западным островам, к дворцу Одиссея, и послушайте.
Остров Итака охраняет залив, этот раскрытый рот Греции, словно обломанный зуб; он похож на царапину на шкуре океана. Даже смертный, если его ноги выносливы, может обойти его весь за день – если, конечно, захочет с утра до вечера пробираться по нечистому лесу из мрачных, скрюченных деревьев, которые, кажется, выросли лишь настолько, чтобы никто не сказал, что они не старались выжить; или по осыпающимся каменным утесам, торчащим из земли, как пальцы мертвецов. Скажем прямо, остров занимателен лишь одним: какой-то глупец решил именно здесь построить город – так зовет его местная деревенщина; по правде говоря, едва ли можно так именовать горстку кривобоких домиков, прилепленных к угловатому склону над суровым морем, – а над ним – так называемый дворец.
Отсюда, из этого термитника, повеления царей Итаки разносятся по западным островам, каждый из которых гораздо приятнее этого несчастного утеса. И хотя живущие под властью итакийцев обитатели Гирии, Паксоса, Лефкады, Кефалонии, Китиры и Закинфа растят на островах оливы и виноград, едят сочный ячмень и даже, бывает, пасут коров, в итоге все подданные этого маленького царства одинаково неотесанны и различаются лишь уровнем своих необоснованных притязаний. Ни великим правителям Микен или Спарты, Афин или Коринфа, ни поэтам, что ходят из дома в дом, не приходит на ум часто говорить об Итаке и ее островах – может, лишь изредка, чтобы пошутить по поводу коз, – по крайней мере, не приходилось до недавнего времени. До Одиссея.
Так отправимся же на Итаку теплым поздним летом, когда листья на деревьях начинают сохнуть, а ползущие по небу над океаном облака чересчур большие, чтобы замечать эту маленькую сушу внизу. Ночью было полнолуние, а теперь наступило утро, и в городе у подножия царского дворца, куда нужно несколько часов идти босиком по жесткой земле, в храме Афины возносятся первые молитвы. Это кособокое деревянное строение, прижимающееся к земле, будто боится, что его сдует буря, но в нем есть и золотые, и серебряные предметы – плоды разбоя, которые лишь мужланы могли счесть великолепными. Я обхожу это скучное место, чтобы не дать повода самодовольной задаваке – моей падчерице появиться здесь или, что еще хуже, нашептать моему мужу, что видела меня ходящей среди смертных. Афина – чопорная, неприятная девица; пройдем же поскорее мимо.
От пристани до самых ворот дворца протянулся рынок. Здесь можно купить дерево, камень, коз, свиней, уток, даже иногда коня или корову; бусы, бронзу, латунь, янтарь, серебро, олово, веревки, глину, лен, красители, шкуры зверей – обыкновенных и редких, – фрукты, овощи и, конечно, рыбу. Сколько же здесь рыбы! Западные острова все как один провоняли ею. Когда вернусь на Олимп, мне придется искупаться в амброзии, чтобы смыть с себя этот запах, пока его не унюхает какая-нибудь болтливая нимфа.
Здесь много домов: есть и скромные лачуги ремесленников, которые едва могут позволить себе иметь одного раба, и просторные усадьбы богачей, кто предпочел бы жить с другой стороны пролива, на Кефалонии, где лучше охота и, если уйти вглубь острова, на несколько минут перестанет пахнуть рыбой, а вместо нее завоняет навозом: а ведь перемена – тоже своего рода облегчение. Здесь имеются два кузнеца, соперничавших долгое время, но наконец понявших, что вместе удерживать цены выгоднее, чем состязаться друг с другом. Тут есть и сыромятня, и еще одно место, бывшее раньше домом свиданий, но потом большая часть его посетителей уплыла воевать, и девушкам пришлось заняться ткачеством и окраской тканей; а поскольку ни один корабль итакийцев так и не вернулся из-под Трои с победой, то они и до сего дня продолжают ткать и красить.
Почти восемнадцать лет прошло с тех пор, как мужчины Итаки уплыли на осаду Трои, и, как ни многочисленны корабли, проходящие через здешние пристани со времени ее падения, их все равно недостаточно для того, чтобы шлюха зарабатывала больше искусной красильщицы.
И над всем этим высится дворец Одиссея, какое-то время известный под названием дворец Лаэрта, и, конечно же, старик предпочел бы, чтобы его каменное наследие продолжали называть этим славным именем, – ведь он был ни больше ни меньше аргонавтом и плавал когда-то под моим стягом, чтобы вернуть золотое руно, пока подонок Ясон не предал меня. Но Лаэрт состарился еще до того, как все мужчины Греции отправились под Трою. И сын затмил отца, и галереи теперь расписаны по-новому: черной и красной краской выведены на стенах большеглазые фигуры, подкрашенные охрой. Одиссей с луком в руках. Одиссей в битве. Одиссей выигрывает доспехи погибшего Ахиллеса. Одиссей с плечами Атланта и ногами быка. За те восемнадцать лет, что царя Итаки не видели на острове, он из низкорослого, чрезмерно волосатого мужчины непримечательной внешности превратился в чисто вымытого статного силача, пусть даже лишь в воображении поэта.
Поэты много расскажут вам о героях Троянской войны. Кое в чем они правы; в другом, как обычно, лгут. Они лгут, чтобы угодить своим хозяевам. Они лгут, не ведая, что творят, потому что искусство поэта в том и состоит, чтобы заставить каждого, кто слушает, поверить: древние песни исполняются для него одного, делая старое новым. А я никого, кроме себя, не стремлюсь услаждать своей песней и смею утверждать: то, что вы знаете о последних героях Греции, означает, что вы не знаете вовсе ничего.
Идите за мной сквозь залы Одиссеева дворца; идите за мной – и вы услышите истории, которых поэты-мужчины, поющие для алчных царей, вам не расскажут.
Даже в рассеянном свете зари, безупречно белом, отражающемся от моря, большой зал кажется темным вертепом. В нем воняет мужчинами, пролитым вином, разгрызенными костями, кишечными газами и желчью, и я останавливаюсь на пороге и зажимаю нос. По залу уже ходят рабыни, старающиеся смыть смрад вечернего пира, собирающие блюда, чтобы вернуть их на кухню, и возжигающие сладкие травы, чтобы очистить зловонный воздух; но им то и дело мешают: мужчины, лежа под столами, хрюкают во сне, как свиньи, а руки их протянуты к пеплу из очага, будто им снится лед.
Эти храпящие тупицы, эти грубые самцы – лишь несколько женихов, что, подобно прибою, накатывают на порог Одиссея и откатывают от него прочь, пожирая на пирах плоды его земли и лапая его рабынь. Два года назад их было двадцать, в прошлое солнцестояние – пятьдесят, а теперь сотня мужчин приплыла на Итаку с единственной целью: получить руку одинокой, скорбящей Одиссеевой царицы.
Нарисованные глаза Одиссея, может быть, и смотрят со стен, но он мертв – он мертв! – восклицают женихи. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он отплыл с Итаки, восемь – с той поры, как пала Троя, семь – с того дня, как его последний раз видели на острове Эола: он утонул, конечно же, он утонул! Невозможно плыть домой так долго, так плохо править кораблем. Ну же, печальная царица, ну же: пора выбрать нового мужчину. Пора выбрать нового царя.
Я знаю их всех, видящих себя князьями, спящих вповалку, как псы. Вот Антиной, сын Эвпейтов, его темные волосы покрыты маслом и воском и зачесаны назад ото лба блестящим ульем, таким жестким, что его не шелохнет ни дождь, ни пот. Его хитон оплачен отцовским богатством, оторочен багряной тканью, купленной у беззубого критянина, а на шее небрежно висит хитросплетение золота и бусин, будто говоря: «А, это старье? Я случайно его нашел, за амфорой валялось, ну, вы знаете, как это бывает». Антиною было пять лет, когда Одиссей ушел на войну, и он стоял на причале и плакал, и топал ножкой, и требовал объяснить, почему ему не разрешают быть воином. Теперь Ахиллес погиб, Аякс и Гектор превратились в пыль, и Антиной больше не задает вопросов.
Рядом с ним спит, похрапывая, Эвримах, чей отец Полибий не пошел на войну, отправившись в западные колонии «по срочному делу», которое пришлось срочно делать целых десять лет, и чья кормилица избаловала его до крайней степени, внушив ему, что он потомок Геракла. Нынче каждый недоросль – потомок Геракла, других просто не примут в приличное общество. Солнечный свет, играющий в волосах Эвримаха, кажется, придает ему какой-то пошлой божественности; хоть он и молод, но у него уже появились залысины, а льняная грива редеет. Только его нелепо высоченный рост и худоба отвлекают от этого взгляд, и он смотрит вниз, на мир, так, будто каждый раз удивляется, что земной диск все еще вертится под его огромными ступнями.
Кого еще стоит упомянуть? Вот Амфином, царский сын, которого научили, что превыше всего честь, и который подозревает, что сам он чести не имеет, но не совсем понимает, что с этим делать. У его отца было много сыновей, у всех были головы как тыквы-горлянки, они редко ссорились и играли музыку, похожую на вой Цербера. Все они теперь мертвы – троих убили троянцы, – кроме Амфинома, который сделает то, что должен.
Вот Андремон: он не спит, следит одним глазом за рабынями, сидя там, где уснул, уронив голову на скрещенные руки. Песком ли, солью ли выдублена его спина, так, что ногти, царапающие ее, шуршат, будто костяной иголкой водят по кожаной одежде? Жестокое ли солнце Трои обесцветило его волосы и придало им такой металлический блеск? Упражняется ли он каждое утро и каждый вечер в метании диска, чтобы сохранять такой рисунок мышц на груди, шее, плечах, руках, или его благословили Арес с Афродитой, чтобы мужчины дрожали, завидев его, а женщины падали без чувств?
Открою тайну: его никто не благословлял, и такие руки, как у него, требуют упорной работы.
Вот все, кого стоит упомянуть. Мы смотрим на них так, как смотрели бы на сыпь: надеясь, что она не распространится дальше, – и идем своей дорогой.
Меж спящими женихами ходят те, кто являет вторую часть этой истории – ту, о которой поэты не говорят, а если и говорят, то лгут. Служанок во дворце много, ведь дворец – это сложно устроенный организм. Ни один царь Итаки не смеет рассчитывать лишь на удачный ветер и богатые почвы, чтобы вырастить зерно, – а потому вдобавок женщины держат уток, гусей, свиней, коз; они рыбачат в маленькой бухте, в которую мужчины не заходят, отковыривают моллюсков с черного камня и трудятся в оливковых рощицах и полях ячменя, таких же скупых и жестких, как люди, что съедят их плоды; а ночью, когда последние из женихов засыпают, они ложатся и смотрят свои сны. Послушайте, послушайте. Давайте заглянем за свежеумытые лица, окунемся в душу идущей мимо служанки.
«…Прясть шерсть, прясть нитки – это легкая работа; как у меня ноги устали, хочу легкой работы…»
«Антиной посмотрел на меня вчера вечером; интересно, что он думает?..»
«Надо рассказать Меланте, ох она и взвоет, ох она и заорет; вот смеху-то; где Меланта? Скорей ей рассказать!»
Но что это? Послушайте – вот голос, который шепчет не в лад с остальными.
«Смерть грекам, – отстукивает сердце той, у которой волосы как свернувшаяся кровь, а глаза опущены в пол. – Смерть всем грекам».
Об этих девах Итаки – этих рабынях и проданных девушках, этих подневольных дочерях – о них мне нужно будет много еще рассказать вам. Я богиня цариц, жен и женщин; мои труды неблагодарны, а я все равно тружусь. Но, увы, уже начались события, которые требуют нашего внимания, так посмотрим же на север.
По каменистой, пробитой в скалах дороге, вьющейся вдоль уступчатой долины, спускаясь в место, которое мы – так уж и быть – назовем городом, приближается Теодора. Она уже не бежит, а бредет нога за ногу, считая шаги, все вперед и вперед, не зная, куда идет, опустив голову, выкручивая пятки; и люди разбегаются перед ней. Она несет лук без стрел, а рядом с ней идет старуха. С их приходом все лишь усложнится, но я никогда не боялась трудностей.
У ворот дворца человек по имени Медон готовится обходить рынок. Он голос царя Итаки, его посылают из дворца, чтобы он провозглашал волю монарха. Но царя Итаки уже восемнадцать лет нет дома, а волю какой-то там царицы он объявлять, конечно же, не может, так что в эти дни он мало что провозглашает и надеется, что горожане сами разберутся, как им лучше поступать. В последнее время его вера в людей истощается. У него круглый мягкий живот и круглое, обвисшее лицо, и он один из немногих мужчин на острове, которому больше двадцати пяти лет; и, вероятно, именно эта его необычность заставляет Теодору сбавить шаг; она подходит, ее чуть качает от начинающейся жары и груза ночного ужаса, а потом она останавливается прямо перед стариком, смотрит ему в глаза, будто надеясь найти в них подтверждение того, что все это было лишь сном, отразившимся в ее зрачке, и просто говорит:
– С моря приходили разбойники.
Глава 3
В комнате, построенной так, чтобы в нее попадал утренний свет, прилепившейся к стене дворца, словно старая свисающая бородавка, собрались три старика, один мальчик, желающий стать мужчиной, и три женщины; и сейчас все они узнают, насколько плохой день выдался сегодня на Итаке.
Из всех присутствующих старики и мальчик считают себя главными. Они стоят вокруг стола, сделанного из тиса со вставками из черепашьего панциря, и препираются.
Одного из них мы уже встречали, это Медон, он проснулся еще до рассвета, и этот день его уже утомил. Остальных зовут Пейсенор, Эгиптий и Телемах.
Вот кое-что из того, что они говорят:
– Будь прокляты эти разбойники. Будь они прокляты! А раньше ведь, знаете, раньше… Будь прокляты эти разбойники!
– Спасибо за стратегическую оценку, Пейсенор.
– Месяц назад они напали на Лефкаду. Тоже в полнолуние, тоже иллирийцы – северные варвары! Если это те же самые…
– Если бы у нас по-прежнему был флот…
– Его нет.
– Если бы мы могли подогнать корабли с Закинфа…
– И оставить земледельцев беззащитными как раз перед сбором урожая?
– Можно я спрошу?
– Не сейчас, Телемах!
На Итаке только два типа мужчин: те, кто был слишком стар, и те, кто был слишком мал, чтобы воевать, когда Одиссей отправился под Трою. (Строго говоря, есть еще одна категория – трусы, рабы и тот мужик, которому не хватило денег на меч, но кто про них вспоминает? Уж, во всяком случае, не поэты и не боги.) Между двумя этими возрастами пропасть, где должен был бы находиться цвет итакийского мужества. Отцы и те, кто мог бы стать отцами нового поколения, не вернулись, так что увидеть на острове местного старше тридцати, но моложе шестидесяти пяти – это редкий случай. Для девушек на выданье нет женихов, а вдов на западных островах больше, чем святилищ.
Посмотрим же на этих мужчин, слишком старых, чтобы воевать, и щенка, которого отец, исполняя одну из своих идиотских задумок, чуть было не переехал плугом в младенчестве. Эгиптий, может быть, и пригодился бы Одиссею под Троей, но он такой зануда и так надоел царю, что хитрый полководец придумал для него какую-то задачу дома: так честь всех вовлеченных сторон осталась нерушима, а моряки на тесном корабле были счастливо избавлены от скучных разглагольствований советника. Он встает, наклоняется, как ива, его лысая голова увенчана созвездием родинок, а под тонкой кожей, выдубленной солнцем, видны каналы там, где смыкаются кости черепа.
– Может, нам пора подумать про наемников?..
– Наемникам нельзя доверять. Сначала они вам служат, потом им надоедает, они грабят вас и сбегают с вашими же богатствами. – Это Пейсенор, волосатый, как боров, приземистый, как невысокие холмы, с которых он родом. Левую руку он потерял, занимаясь набегами на чужие берега под началом Лаэрта, и потому не может держать щит и наедине все жалуется, жалуется, жалуется, что он меньше, чем мужчина, – в общем, делает все, что в его силах, чтобы напомнить всем и каждому, что он воин и герой.
– С какими богатствами? – спрашивает Медон, которому кажется, что с каждым мигом, проведенным в этой комнате, он все быстрее стареет.
– Прошу прощения…
– Подожди, Телемах. Смотрите, все остальные цари Греции вернулись из-под Трои с награбленными богатствами. Говорят, когда Агамемнон возвратился, пришлось пять дней разгружать только его личную добычу – пять дней! А Менелай, говорят, моется в золотой ванне.
– Менелай в жизни не мылся.
– Так он особо и не торопился домой с войны, верно? Я слышал, они с братом отправились на юг, он и египетского золота набрал. Говорят, критяне в ярости.
– А у нас как раз хватает богатств, чтобы было что грабить, но не хватает, чтобы купить защиту.
– Прошу прощения!
Телемах. Ему восемнадцать, стоит здесь потому, что он сын Одиссея – хотя, если подумать, так ли это хорошо? Волосы у него не такие великолепно золотые, как у отца (у того-то на самом деле они седеющие, темно-русые, но поэты, поэты!), и, вероятно, есть что-то от бабки-наяды в его бледности, какая-то влажность в его веснушчатых чертах, которые даже ежедневные упражнения с копьем и щитом никак не превратят в твердую обожженную глину. О, разумеется, однажды его плечи станут широкими, а бедра будут подобны великанским палицам, но сейчас он всего лишь мальчишка, старающийся отпустить первую бороду, пытающийся говорить голосом чуть более низким, чем надо, и сам себе то и дело напоминающий не сутулиться – потому что он все время сутулится. Афина говорит: он далеко пойдет; а Гермес, чья кровь течет в жилах сынов этого дома, сообщает, что так бы и слетел вниз и расцеловал Телемаха. Но мой брат Аид, который более разумно подходит ко всему, смотрит в туман и бормочет: «Есть такие семьи, которые и севера не найдут».
Одиссей – на редкость неумелый мореплаватель. Вряд ли его сыну передалось более надежное чувство направления.
– Мы же можем обучить собственных воинов, у нас есть люди, есть…
– Не получится, Телемах.
– Но я…
Телемах почти никогда не заканчивает фраз. Когда его представляют людям, говорят: «Одиссеев сын Телемах». Имя его отца всегда идет впереди, и можно подумать, что этот речевой выверт проник и в голос самого Телемаха, так что ему почти никогда не удается закончить хоть какое-нибудь осмысленное предложение, если там проглядывает собственная личность. Слава отца создает для него не меньше сложностей, чем разрешает, потому что, будучи сыном героя, Телемах, естественно, должен будет когда-то и сам поднять парус и стать героем, чтобы отец не затмил его, как затмил в свое время его деда. Однако чтобы поднять парус, у вас должно быть войско – ведь героем быть гораздо проще, когда есть кому подлатать вам одежду и приготовить еду, – а учитывая, что воины Итаки не вернулись и все они, честно говоря, мертвы, исключая лишь одного, все это крайне непросто устроить.
– Есть очевидный ответ… – размышляет Эгиптий.
– Ну началось, – вздыхает Медон.
– Эвримах или Антиной…
– Брак с местным навлечет на нас гнев материка. Может, лучше жених из Коринфа или даже Фив? Или этот, как его, из Колхиды, он вроде ничего.
– Там еще снаружи какой-то египтянин ждет, представляете? – Пейсенор в жизни не встречал египтян, но уверен, что они ему не нравятся. – Хоть пахнет приятно.
– Мой отец жив! – Телемах говорит эти слова так часто, что собеседники замечают их не больше, чем стрекот цикады в поле.
– Нет, нет, нет! Брак с чужеземцем приведет к междоусобице, острова этого не потерпят, нам придется просить помощи у Микен, а то и, чего доброго, у Менелая. Представляете себе спартанцев на нашей земле, это же…
– Стоит выйти замуж не за того – и Менелай будет здесь в любом случае.
– Мой отец жив!
Телемах это выкрикнул. Телемах никогда не кричит. Одиссей никогда не кричал – только раз, когда орал своим морякам, чтобы отвезли его к сиренам, но то был исключительный случай. Никто не выражает неодобрения из-за такого нарушения приличий, но на мгновение даже женщины молча поднимают головы и смотрят широко раскрытыми глазами на происходящее. А вы и забыли, что тут, в этом ученом собрании, присутствуют женщины? И поэты забудут, когда будут петь песнь об этом.
– Мой отец жив, – тише повторяет Телемах, спокойно, сжимая край стола, наклонив голову. – Моей матери нельзя выходить замуж повторно. Это богохульство.
Старики смотрят в сторону.
Через некоторое время и женщины отводят глаза, хотя какая кому разница, куда они смотрят. Они для этой сцены не более чем украшение. Если поэты и упомянут их, то примерно в том же ряду, что и красивую вазу или искусно выделанный щит – элемент убранства, который добавляет атмосферы. Может быть, три женщины чувствуют это, потому и составили картину скромности. Одна, Автоноя, с каштановыми волосами и лицом жестким, как засушенная морская звезда, хрупкая, красивая и не предназначенная для мужского взгляда, настраивает лиру. Она делает это уже полчаса и никак не закончит. Рядом с ней Эос – пониже ростом, потолще в бедрах, лицо у нее похоже на виноградину, на щеках веснушки, она чешет пряжу, разделяя на тонкие нити, с той же тщательностью, с какой расчесывает волосы своей госпожи. Она умеет это делать с закрытыми глазами и открытыми ушами – всегда с открытыми ушами.
Последняя из женщин должна бы, наверное, ткать за маленьким станком, за которым ее часто видят на людях, – но нет, это личные покои, для важных дел, и она сидит, сложив руки на коленях, подняв подбородок, чуть поодаль от мужчин, собравшихся вокруг стола, и слушает с таким вниманием, что испугала бы Аякса (он всегда больше боялся женщин, чем смерти), но не смотрит на своих советников, дабы не смущать их силой своего внимания.
Это Пенелопа, жена Одиссея, хозяйка дома, царица Итаки и источник, как уверяют ее многие-многие мужчины, одних только бед и страданий. Ей кажется, что это несправедливо, но оспаривать это утверждение, пожалуй, пришлось бы так долго, что ни одному смертному не хватило бы дыхания.
Для греческой царицы у нее чересчур смуглая кожа, а волосы черные, как полночное море, – но поэты будут рисовать ее златокудрой, потому что златокудрые женщины желаннее, и опустят описание мешков под ее усталыми глазами. Хоть Пенелопа и царица, она не сидит за столом совета: это было бы неправильно. Но она все же верная жена отсутствующего государя, и, хотя почти все здесь уверены, что важные дела, обсуждаемые советом, не вместятся в ее хорошенькую головку, им все равно приятно видеть женщину, так ответственно относящуюся к своим обязанностям.
Пенелопа, сложив руки на коленях, слушает, как препираются ее советники.
– Телемах, мы знаем, что ты любишь отца…
– Тело не найдено. Тело не найдено! Одиссей жив, пока не нашли тела, он…
– …и замечательно, если он до сих пор жив, просто замечательно, но дело в том, что вся остальная Греция уверена в том, что он погиб, и эта самая остальная Греция теряет терпение! Западным островам нужен царь…
Если Пенелопе и интересны эти мужчины, обсуждающие ее мужа, или отсутствие оного, или виды на то, чтобы приобрести нового мужа, или что там на сегодня является самой насущной политической проблемой, – она этого не показывает. Ее, похоже, занимают черные спирали на фреске под самым потолком, как будто она только сейчас заметила, что нарисованная волна с легкостью может оказаться изображенным облаком или несовершенство взгляда художника придает изображенному особый характер.
Сидя у ее ног, Автоноя дергает струну – блям: она не настроена.
Эос вытягивает нить из шерсти, легонько двигая пальцами, которые танцуют, как лапы паука.
Наконец Эгиптий говорит:
– Вот если бы у нас было немного золота Одиссея…
– Какого золота?
Глаза Эгиптия на миг устремляются на Пенелопу, но он тут же отворачивается. Конечно, именно мудрецы Итаки занимаются деньгами дворца и принимают важные решения, как и пристало мужчинам. Но ни хитроумная математика хеттов, ни странные рисунки, что всякие чужеземцы чертят стилусом на глине или выводят золой на папирусе, называя это письменностью, еще не добрались до берегов Греции, и остается подозрение – недоказанное, непроверенное, – что экономика Итаки сложнее, чем могут понять эти ученые. Пенелопа заявляет, что у нее ничего нет, но продолжает кормить женихов, каждый вечер устраивает им пир, как и положено хорошей хозяйке, – как это у нее получается?
«В самом деле как? – думают Эгиптий и многие другие, кто приходит и стучится в дверь Пенелопы. – Действительно как?»
– Почему мы не можем обучить собственных бойцов? – спрашивает Телемах, изо всех сил стараясь не дуться. Старшие некоторое время неуютно молчат, не зная, стоит ли им тратить время на ответ. – На Лефкаде, на Кефалонии есть ополчение. Почему бы ему не быть и на Итаке?
– Воины Лефкады не сильно-то ей помогли, – бормочет Медон, а его лицо оползает вниз, как сход селя. – Когда в прошлое полнолуние на нее напали, половина ополчения валялась пьяная, а вторая была на противоположном краю острова.
– Они были неумелыми. Мы будем умелыми. – Телемах, похоже, в этом уверен, что в свете последних восемнадцати лет кажется проявлением изрядного оптимизма.
Ему отвечает Пенелопа. Это приемлемо: она говорит не как царица, что было бы неучтиво с ее стороны, а как мать.
– Даже если на Итаке найдется достаточно мужчин, кто поведет их? Ты, Телемах? Если ты способен собрать сотню копейщиков, верных тебе, кто может быть уверен, что этих самых копейщиков ты не обратишь против женихов и не потребуешь себе венца своего отца? Антиной и Эвримах – сыновья важных людей; Амфином и женихи из более дальних краев смогут пригласить наемников из Пилоса или Калидона. Стоит тебе повести за собой отряд, как они почувствуют в тебе угрозу, отложат свои распри, сплотятся против тебя и все вместе с легкостью одолеют. А еще проще будет убить тебя заранее, пока ты не встал во главе отряда. Так и возиться не придется.
– Но они тут ни при чем. Мы защищаем свой дом.
– Они тут при всем, – вздыхает она. – А даже если и нет, важно то, как считают они сами.
Телемах, как любой бог или смертный, не любит, когда его признают неправым. Он ненавидит это, и на мгновение его лицо искривляется, как будто он хочет всосать его и выплюнуть вместе с кровью и желчью; но он далеко не идиот, поэтому не поглощает себя, а приостанавливается, думает и выдает: