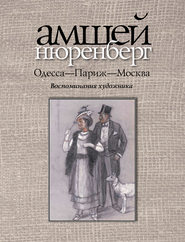скачать книгу бесплатно
Мой приход женщину ничуть не смутил.
– А я вас около часу жду, – не меняя позы, спокойно сказала она. – Меня зовут Рахиль. Я – вдова с двумя малолетними детьми. Хлеб мой тяжел и горек. Но я не пришла к вам жаловаться. Я хочу жить так, как живут все люди. Я тоже хочу иметь художественный портрет. Вы, я думаю, меня поняли?
– Хорошо, я вас нарисую.
– Но я не торговка. Каждая моя копейка залита потом и кровью, я не могу платить бешеных денег. Вы меня поняли?
Она глубоко и громко вздохнула.
– Да, я вас понял.
1924. Две женщины с детьми. Бумага, угольный карандаш, акварель. 21?24
– Вы мне должны сделать уступку и взять два рубля. И вы ничего не потеряете. Я вам белье постираю и заштопаю, пол вымою…
– Хорошо, – согласился я.
Она мягко улыбнулась. Небольшие, чернозолотистые глаза смотрели благодарным взглядом.
– Теперь я могу идти домой и взяться спокойно за свою работу.
Она встала. Быстро собрав свои тряпки, она ловким движением завернула в них ребенка и, шаркая по полу желтыми мужскими штиблетами, вразвалку пошла к двери.
В дверях она остановилась, обернулась.
– Да, совсем забыла… Я хотела бы, чтобы вы мне… кроме золотых часов с монограммой и броши нарисовали… – и, слегка покраснев, она почти шепотом добавила, – бриллиантовые серьги… Только не очень большие… лучше маленькие.
– Все будет сделано, – обещал я.
Невыразимая радость, наполнившая до краев ее сердце, осветила ее круглое, мясистое лицо. Изливая свои чувства, она крепко прижала к себе ребенка и стала целовать его, звучно причмокивая. Она приходила ко мне ежедневно. С ребенком и узелком, туго набитым тряпками. Непринужденно усевшись на мой единственный стул, Рахиль медленно расстегивала изумрудную вязаную кофту и, ловко вынув свою могучую, розовую грудь, с каким-то подчеркнутым достоинством счастливой матери начинала кормить ребенка.
Меня в ней поражали не только груди, но и великолепной рубенсовской формы шея и колени. Глядя на Рахиль, я часто думал, что для живописи она олицетворяет неувядаемый образ еврейской женщины. Я рисовал ее цветными грифельками на французской шероховатой бумаге.
Чтобы развлечь меня, она негромко напевала еврейские песенки. Чудесные песенки бедноты, в которых чувствовалось никогда не унывающее веселое сердце. Часто вскакивая, она клала ребенка на кровать и, подойдя к портрету, волнуясь, тихо спрашивала:
– Скажите, художник, будет ли всем ясно, что в ушах моих настоящие бриллианты?
– Будет, – заверял я ее.
– Подумайте, – победно улыбаясь, повторяла она, – за каких-нибудь два рубля вы меня делаете нарядной. Вы – чародей.
Портрет не удавался мне. Чем больше я тратил сил, тем слабее были его качества. Заказчица в конце концов это почувствовала. Наблюдая мои трудовые усилия сделать работу эффектной, она с нескрываемым огорчением заметила:
– Я знала, что бриллианты невозможно передать, как в натуре.
Художественная слава меня начала утомлять. Порой я помышлял бросить свою улицу и переселиться в другой район, где меня не знают и где можно отдохнуть от пятирублевых портретов, срисованных по фотографии. Я мечтал о больших портретах, написанных на полотне масляными красками и с натуры, мечтал о молодых моделях с крепкими, свежими руками и ногами. Это были, разумеется, девушки в легких развевающихся платьях и в дорогой изящной обуви. Таким девушкам, конечно, не нужны были ювелирные портреты.
Пришла весна. Непреодолимо потянуло к морю. Каждое утро я уходил на Ланжерон. Бродил по влажному песку и жадно вдыхал крепкие запахи проснувшегося моря. Под ослепляющими лучами апрельского солнца цвели и горели необъятные пространства воды и неба. На берегу, покрытом уже молодой зеленью, суетились голубовато-розовые фигуры рыбаков.
Мягкий лирический пейзаж вызывал у меня чувство душевного покоя. Забывались неудачи, бедные, но требовательные заказчицы.
В конце апреля мне удалось найти наконец долгожданный заказ. Правда, он не совсем совпадал с моими мечтами, но я понимал, что, приобретая реальные очертания, мечты очень деформируются.
Большой, в натуральную величину, во весь рост, портрет молодой женщины. Жена какого-то разбогатевшего честного адвоката. За работу, в случае удачи, заказчик обещал уплатить пятьдесят рублей. «Пятьдесят рублей», – повторил я. Сумма казалась мне головокружительной. Заказ мне был дан адвокатом в письменной форме, с подробными указаниями, что и как я должен писать.
На большом листе плотной кремовой бумаги мелким, скачущим почерком было написано:
«Жена моя, Раиса Моисеевна, должна быть изображена у большого концертного рояля. На рояле стоит дорогая хрустальная ваза с большими розами. Голова жены немного повернута в профиль, усталые руки ее красиво лежат на клавишах. Раиса Моисеевна будто только что сыграла какую-то сильную симфонию и, задумавшись, мечтательно разглядывает висящих перед ней на стене любимых композиторов – Шопена, Грига и Чайковского».
Ниже было написано:
«Рядом с композиторами художник обязан в уменьшенном виде нарисовать меня.
И еще: портрет должен быть выполнен в радостных, как жизнь, ярких тонах и в гладкой манере.
Самуил Блох».
Я принял все условия и с жаром взялся за работу. Первые дни модель моя – Раиса Моисеевна, невысокая, крепко сложенная, живая брюнетка – позировала охотно. На ней было шелковое, пепельного цвета платье с большим вырезом на высокой груди. Она сидела легко и спокойно, много болтала, но это не мешало мне писать. Увлеченный работой, я не всегда внимательно слушал ее пестрые, путаные рассказы. Она не сердилась на меня за это.
– Вы сейчас витаете в облаках, – иронически улыбаясь, говорила она. – Творческий экстаз, бурные взлеты фантазии… Все понимаю.
Как-то прищурив глаза, с чувством произнесла:
– Ближе к земле, художник. Она не так скучна, как небо.
За несколько дней она успела с мельчайшими интимными подробностями рассказать мне о своей бурной молодости, о своих неблагодарных подругах и многочисленных неверных друзьях. О муже она говорила с подчеркнутой иронией.
Мне нравились порывистые движения ее хорошо посаженной головы, тонкая форма рук и неровная, нервная речь. Чувствовалось, что она много перенесла и передумала. Я начал привыкать к ней.
Работа шла удачно. Моментами мне даже казалось, что я близок к рисовавшейся мне столько времени победе. Единственно, что меня беспокоило, это техника моего письма – мазки. Как назло, они получались широкие и густые. Самуил Блох, я знал, будет ими недоволен. Но я не мог связать себя. Яркие масляные краски, новенькие кисти, большой зернистый холст и, наконец, молодая модель – все это на меня так пoдействовало, что мазки получались сами собой. Спустя две недели я начал замечать, что модель моя позирует с ленцой. Вынужденное сидение на круглом (без спинки) стуле, видимо, утомляло ее. Возможно также, что, исчерпав все темы для своих рассказов, она потеряла и вкус к позированию. Чтобы спасти работу, я сделал перерыв на несколько дней. Не теряя пока времени, я взялся за композиторов и Самуила Блоха. Написав их (мне они также показались удачно выполненными), я пригласил Раису Моисеевну и показал работу.
Увидев портрет, Раиса Моисеевна пришла в ярость. Большие красные пятна вмиг расцвели на ее бледно-смуглом лице. Не глядя на меня, она сквозь зубы процедила:
– Кто вам велел такую глупость сделать? Этот кретин?
С искривившимся ртом прошипела:
– Он с ума сошел. Рядам с Шопеном и Чайковским такого мещанина, пошляка. Подумайте, что вы сделали?
После короткой паузы:
– Сейчас же замажьте! При мне сделайте это! Сейчас. Слышите? Не сделаете – порву ваш портрет на мелкие кусочки.
Чтобы успокоить ее, я взял кисть, развел на палитре светло-охристую краску и покрыл ею изображение Самуила Блоха.
Узнав об этом, заказчик мой бросился ко мне.
– Исправить можно? – задыхаясь, спросил он.
– Разумеется, – успокоил я его.
– А я думал, все пропало, – продолжал он, сильно волнуясь.
Он порывисто подошел к портрету, остановил долгий, пристальный взгляд на нем, потом скользнул глазами по палитре, лежавшей на стуле, и потрясшим меня голосом сказал:
– Подумайте, это делает самый дорогой мне человек. Моя надежда, цель жизни… Теперь она – известная пианистка, а когда я пятнадцать лет тому назад встретил ее, это была забитая местечковая девушка в рва ном ситцевом платьице и истоптанных шлепанцах… Подумайте – пятнадцать лет я ее воспитывал, учил, кормил, одевал… Сколько мне это стоило сил, здоровья и денег. Сколько раз я волновался… И вот мне благодарность. Я – мещанин, сумасброд. Чем я ей мешаю на портрете?
Глаза его стали влажными.
– Я вас очень прошу почистить мой портрет.
Глубоко вздыхая и понизив голос, добавил:
– Она не любит, когда ей напоминают о ее прошлом… А мой портрет о многом напоминал бы ей…
Самуил Блох съежился и дрожащими руками растирал крупные слезы.
Эта семейная сцена тяжело подействовала на меня и вызвала глубокую жалость к нему. Передо мной стоял опустошенный, раздавленный человек. Надо было что-то сказать ему, но я не был искушен в семейных делах и не находил нужных слов.
Макс
В конце октября на берегу моря я познакомился с одним молодым человеком. На нем было великолепное шелковистое пальто и такая же шляпа. Он сидел под скалой, спрятавшись от холодного ветра, и курил сигару.
Выцветшие лучи осеннего солнца играли на серебряной ручке его трости. За его спиной виднелось остывшее уже море с жесткими синими красками.
Узнав, что я художник, молодой человек предложил мне писать с него портрет, обещая хорошо заплатить.
– Я не миллионер, – сказал он мягко и певуче, – но я заплачу, как богач. Приходите ко мне. Я люблю художников.
Он дал мне свой адрес, крепко пожал мне руку (мягкая, теплая рука) и походкой человека, у которого жизнь хорошо налажена, ушел в город.
На следующий день утром я пришел к нему в гостиницу «Венеция», где он занимал просторный, светлый номер, и, получив авансом десять рублей, приступил к работе.
Мой новый заказчик был очень живописен. Широкие, прямые плечи, удлиненное коричневое лицо, светящиеся глаза и с черным отливом губы. Его звали Макс.
Амшей Нюренберг 3 февраля 1908 г.
На обороте надпись «На Дерибасовской ночью после жестокой выпивки»
Я приходил к нему через день. С мольбертом и этюдным ящиком.
Позировал он, как профессиональный натурщик. Он был блестящий рассказчик. Небольшие, бесцветные, казалось бы, события приобретали у него форму и смысл значительных явлений. Разумеется, многое из того, что он рассказывал, было взято им у других, но взято с большим умением и тактом. В рассказах он всегда выступал как щедрый и добрый малый. С завидной, непостижимой находчивостью он умел превращать печальное в веселое. За все время писания портрета я ни разу не видел этого человека в плохом настроении, раздраженным. Всегда спокойный, улыбающийся, услужливый, с мягкими, добрыми жестами. О людях он отзывался тепло. Я не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо.
Он знал толк в женщинах. Умел рассказывать о них ярко, образно, с неиссякаемой нежностью.
Он рассказывал, и я, часто отрываясь от работы, жадно глядел на него и с удивлением слушал. После сеанса он обычно говорил мне своим придушенным голосом:
– Не спешите. Мы с вами выпьем, закусим, поболтаем.
На столе, покрытом бархатной пестрой скатертью, появлялись оклеенная заграничной этикеткой, забавной формы бутылка, два хрустальных бокала с тоненькими ножками, дорогое фабричное печенье и невыразимого стиля коробка с сигарами.
– Пейте, ешьте и курите, – улыбаясь, говорил он. – Люблю худож ников. С ними не пропадешь. Я коммивояжер, но в душе всегда был художником.
С выражением величайшей расточительности он наливал в мой бокал густое красное вино, клал передо мной оклеенную золоченой этикеткой, источавшую нежный аромат сигару.
Часто после угощения он подавал мне вчетверо сложенную пятерку, с побеждающей дружественностью говорил:
– Вам, друг мой, вероятно, деньги нужны. Это пойдет в счет работы.
Однажды, когда я, окончив работу, вытирал палитру тряпкой и готовился сесть за волновавший меня стол, в дверь тихо постучали:
– Войдите, – сказал Макс.
Вошли трое. Один высокий, грузный, с жидкими усами и лиловым лицом и двое невысоких в мятых, жеваных костюмах. Лбы у всех были низкие, мрачные.
Высокий внушительно повернул ключ в двери, глухо кашлянул, не спеша подошел к Максу и, ухмыляясь, прогудел:
– А мы, господин Моисей Исаич, к вам. Принимайте гостей!
– Пожалуйста к столу, – спокойно ответил Макс.
Высокий подошел к столу, взял бутылку и, многозначительно разглядывая этикетку, произнес надменно:
– Нет уж, мы с вами выпьем и закусим в другом месте. А ты кто такой? – обратился он ко мне. Его лиловое лицо приняло брезгливое выражение.
– Это художник. Мой хороший знакомый. Он пишет с меня портрет, – ответил за меня Макс.
Высокий недоверчиво взглянул на меня, потом на Макса и залился смехом. У него прыгали лиловые щеки и рыхлые плечи.
– Портрет Моисея Казацкого. На какую же выставку вы думаете послать его. Парижскую? Замечательно! – потрясал он номер своим гулким голосом.
– Так, так, так. Ха-ха! Скоро, значит, мы увидим портрет известного контрабандиста Моисея Казацкого. Очень, очень интересно. Может быть, вам дадут золотую медаль на шею. Очень интересно, – продолжал он гудеть.
Я ощущал оглушающий удар в самое сердце. Трудно было принять все это. Первая мысль: пропал мой победоносный портрет, хвалебные отзывы в газетах и заказы. Все пропало. Минута – и мне казалось, что это инсценировка. Что трое незнакомых мне людей в отвратительных масках – актеры, блестяще разыгравшие сцену из какой-то пьесы. Сейчас все кончится. Они уйдут. И мы с Максом опять всласть будем пить густое красное вино и курить ароматные гаванские сигары… Но эта минута проходила, а люди в масках не уходили.
Пока высокий с лиловым лицом гудел, двое других открыли шкаф и начали степенно рыться в ящиках.
Макс, величественно сидя в кресле, спокойно курил сигару, пуская правильные круги голубого дыма.
– Ну, как ваши успехи? – дружески обратился он к рывшимся в ящиках. – Нашли что-нибудь вкусное?
– Довольно ломаться, – вдруг сухо заговорило лиловое лицо. – Собирайтесь, пойдемте. Проверим, какой это художник, который малюет контрабандистов. Знаем их. Снаружи для виду художник, а внутрях – аферист… И с вами покалякаем, господин Казацкий.
Близко подойдя ко мне и нацеливаясь глазами в мои глаза, мрачно буркнул:
– Собирайся! Ну!
Вместе с Максом меня поволокли в старое, мрачное помещение, расположенное на углу Преображенской и Полицейской улиц. Утомительно и долго допрашивали. Максу дали стул, и он с большим достоинством сел на него. Мне приказали стоять и руки держать по швам.