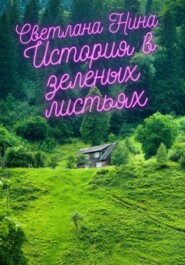скачать книгу бесплатно
– Знаешь, раньше я мало что понимала. А теперь научилась смотреть на вещи с иной, более трансцендентной стороны. Всё в человеческом социуме более-менее легко объясняется – предпосылки каких-то действий и особенно воззрений. Всё так или иначе уже было, корни нашего поведения очень часто даже не в семье и детстве, а в тысячелетиях человеческой истории. Это страшит.
– Почему?
– Потому что история эта не блещет человеколюбием.
– Но времена меняются. Посмотри на Скандинавию. – Варя приподняла брови в несогласном удивлении.
– Времена меняются медленнее, чем нам бы хотелось. Прогресс почему-то не останавливает грязи.
– Все мы милы, пока относительно сыты. По европейцам это прослеживается особенно доходчиво.
– А миллионы людей сделают всё, лишь бы оставить сложившийся порядок вещей, потому что остальное предполагает какое-то напряжение, пересмотр взглядов, а значит, умственную работу, которая выбрасывает их из зоны комфорта. Им лень. Они боятся думать и особенно показывать себя глупыми и беспомощными, вот в чём правда. Что бы ни пытался сделать человек во имя свободы, это будет встречать препятствия и насмешки. Просто потому, что люди не могут вытерпеть развенчания намертво впечатанных стереотипов, ведь это пошатнёт жизнь, заставит строить новые планы взамен устаканившихся… И особенно общество ненавидит, когда кто-то пытается скинуть с себя клише. Осознавшиеся люди опасны; скрыто они внушают зависть и восхищение, но, не выразившись в безвредной осознанности, это порождает выверты и агрессию у тех, кто понимает их величину, но не видит, откуда она исходит.
Варя слушала эти полудетские изобличения не без удовольствия. Часто даже искренние мысли типичны на выходе.
– Природа и социум – две составляющие личности.
– Это только так кажется. В личности должны быть вселенные, океаны. Мало быть хорошим специалистом или хорошим человеком, безмерно мало. Как часто, произнося бравые речи, мы всё равно руководствуемся в итоге чем-то интуитивным, что наш же собственный разум отвергает…
– Чтобы понять, надо либо побывать в шкуре другого, либо попросить хорошо объяснить. Есть такая чудная вещь, как эмпатия. Я, например, физически не могу находиться рядом с людьми, которые мне не нравятся. Начинаю ёрзать и мечтать исчезнуть из помещения. – Мира улыбнулась собственным словам.
Думая о Тиме, Мира продолжала скакать по темам.
– Даже если об этом не говорят, все хотят найти для себя идеальную пару. Это мечта, сидящая в нас со времён основания мира. Это древний миф о раздвоенности человеческой души.
– Грани между людьми иллюзорны. Единственная ощутимая – нежелание сближения.
– Между людьми пропасти…
– Ты пессимистична.
– А ты наивна. При том, что сама себя позиционируешь как закоренелого пессимиста.
Варя как-то странно посмотрела на Миру.
– Может, просто хочу такой казаться перед самой собой.
– Пессимисты не работают над собой, как ты. Они просто прикрываются тем, что всё ужасно, – значит, и работать нет надобности.
– Быть может.
Мира почувствовала раздражение. Столько изгаляться и получить безразличный ответ!
6
– А я, по-твоему, закаляю сама себя на жёсткие суждения? – с сомнением произнесла Мира немного погодя, опасаясь, верно ли она поняла непроизнесённое.
– Я не говорила этого.
– Может, так мы себя и строим. Говорим – и лепим себя по подобию произнесённого. Наши действия – энергия. А она имеет колоссальное влияние на все проявления жизни.
Варя зажмурилась, с удовольствием обдумывая эту мысль. А Мира, охваченная упоением её присутствия, когда так ясно соображала голова, продолжала:
– Мне сносит крышу от того, что каждая жизнь, комбинация людей, книг и событий в ней неповторимы. То, что видела и думала ты, не повторится в тех же сочетаниях и той же окрашенности, равно как и не повторится ничего из жизни того, кого ты знаешь или любишь. Вопреки теории мультивселенной. Лично я безумно завидую тому, что видят другие.
– Для этого и придумали искусство.
– Намекаешь, что чувства нам навязываются?
– Разумеется. В нашем-то перегруженном сторонними образами мире. Плюс к этому люди не замолкают, тут и их видения не нужно – всё преподнесут на блюде.
– Но при этом большинство людей вовсе не хочется слушать. Хотя я и пытаюсь их опытом заполнить пробел узости своего. Потому что я только человек… А хочется знать чуть больше, чем нам дано. Не выдумать, а знать.
– А как же априорное знание и солипсизм?
– Не впечатлена.
– Как и я. Как-то меня назвали слишком рациональной.
– А я идеалист, но лишь в сфере чувств. Во вселенной ничего идеалистического быть не может, она всё больше расшифровывается математикой. Даже то, что мы называем чудесами или интуицией, рано или поздно возведётся в чёткий описанный алгоритм, когда переломит и снобизм учёных голов, и невежество примет.
– Сомнительно, что когда-то это расшифруют.
Мира рассмеялась.
– Всё же твой пессимизм невыносим.
– Я к тому же меланхолик.
– У нас похожий темперамент, но я оголтело пытаюсь перебороть его, особенно зимами. Стоит только отойти с намеченной тропы света и понимания – погрязнешь в темноте.
– Может, ты просто сильнее.
– Ты такая утончённая, выверенная, всё ты понимаешь… И не перестаёшь отмачивать такие фразы.
Обе улыбнулись, погрязая во взаимопонимании.
– Почему проявления жизни так трагичны? Оттого ли, что мы усиливаем чувства, которые, по нашему мнению, испытывают другие? Или потому, что трагедия интереснее, чем счастье? Счастье мы допускаем у себя, но не у других. Мы не можем поверить, что другой человек может быть счастлив тому, что у нас вызывает приступы паники или омерзения.
– Почему ты говоришь такое? – тревожно отозвалась Мира.
– Нет людей, у которых всё хорошо.
– Это с какой стороны посмотреть. Дело здесь в нашей цивилизации, в раздробленности людей.
– Сама обожаешь эту раздробленность.
– Да, без неё мне нет счастья. Если бы кто-то влезал в мой дом и постель, если бы ежечасно нужно было быть на виду, я бы двинулась. Но и без отблесков на меня людей с их теплотой так мутно порой на сердце…
– Ты – как Солнце, а говоришь такие вещи, – с утончённой улыбкой произнесла Варвара.
Мира зарделась, скрывая свой путаный восторг от похвалы. Вот оно – наконец-то её тёплое отношение к кому-то отразилось на ней самой, а не кануло в небытие.
– Не терплю, когда на человечество сваливается столько критики. «От людей больше зла, чем добра», – значит, зла больше именно от тех, кто говорит такое, и они продуцируют его на собственную картину Вселенной. Вот к ним бумеранг и возвращается. И некого становится винить в своих проблемах. Человечество показывает такой диапазон от скотства до вознесения, что видеть лишь низ стыдно. В природе всё выстроено потрясающим законом круговорота. Тут говори – не говори, запрещай – не запрещай, а твоя отправленная энергия нигде не рассеется, она неуничтожима. И от этого порой реально страшно, как будто тебя неотвратимо преследует расплата за то, в чём ты не уверена, а никто не дал тебе реального талмуда, как жить. Пытались, конечно, прихлопнуть книгами, которые некоторые зовут святыми, но слишком они избиты…
– И вовсе не универсальны, – с озорным отсветом поспешила добавить Варя.
– …и тогда на самом деле понимаешь, что жить никто не умеет.
– А порой гонишься в какой-то карусели, сама не понимая зачем, и думаешь: к чему все эти усилия, уехала бы сейчас в Индию просветляться – может, счастливее бы была. Мы живём, чтобы восхищаться жизнью, быть за неё благодарными… Только это имеет смысл, только это оправдывает рождение детей. Если ты не понимаешь, зачем они рождаются, выталкивать их на свет – преступление.
– Никто не понимает.
– В том и трагедия. Когда слепые учат видеть беззащитных существ, приученных лишь копировать.
– И любовь, которая тлеет, выплёскивается и наполняет счастьем. Любовь ко всему вокруг. Это ли не смысл сам по себе? Как и наполненность каждого мига красками, запахами, звуками, лицами. Смысл, который мы и передаём своим детям без пафосных речей и оправданий. Смысл не может быть в чём-то одном, как не может быть односторонним ни одно чувство.
– Может, любовь – только побочный эффект познания.
Мира погрустнела, как бывало часто, если не удавалось найти в собеседнике желанный ответ.
– Как ты можешь говорить такое? Любовь – основа всего!
Варя обнажила зубы. Мира против воли испытала раздражение.
– Всякое можно говорить, устав. Не воспринимая уже области, считающиеся ценными, как догмы. Пропуская от обилия сорной информации. Всё, что мы разводим, в любом случае – лишь трёп.
– Но из таких разведений и складывается жизнь.
– Если ты так воспринимаешь любовь, тогда любить надо всех. А я не могу.
Мира изумлённо взирала на Варю. Совершенство… обнажившее человеческую черствость и мягкотелость в недозрелости суждений.
– Если умеешь ненавидеть одного, любовь к другим – притворство, преломление собственной личности через уродливое стекло Снежной Королевы, – продолжала Варя. – Притворство или вывернутый инстинкт собственничества – ревность и зависть. Уродливые вариации. Как к мухе относишься, так и к человеку будешь. Это кажется сумасшествием, но это одна из основных задач нашего пребывания здесь. Потому что нет ничего легче, чем любовь к родственнику или подходящей для размножения особи.
Варвара замедленно провела ладонью по щеке и остановила пальцы на подбородке.
– А я всё чаще думаю, что не хочу, чтобы кто-то мучился по моей милости. Я просто не потяну детей эмоционально. Они не заслуживают расти в таком мире. Нет такого запаса нежности во мне, чтобы всё стерпеть.
– Может, стоит лишь сместить акценты здесь? Жизнь прыщет, сочится. Она повсюду, особенно в искусстве, – столько выплеснутых душ, которые остальным помогают обрести смысл. Да, материально нам всем тяжело. Хотелось бы просто не думать об этом, наконец. А мы тратим на заработок столько своего времени…
– Но мы же и учимся при этом.
– Хотя да, ты сама говорила, что не работать тебе скучно.
– А может, я поменяла мнение и теперь хочу на пенсию. Невозможно заскучать наедине с собой – столько ещё можно узнать, исследовать, открыть.
– Люди, которые убеждённо говорят, почти всегда неправы, – осторожно заметила Варя.
– Люди вообще никогда не правы, как и мы с тобой. Понять это – значит понять историю человечества. Её подвалы.
– История человечества – худший враг её будущего тогда уже.
– Или на ошибках учатся?
– Недостаточно.
7
Мира помнила мучительность того путешествия. После него дом уже не был прежним. А навязчивое ощущение хода времени и его безвозвратности только обострилось вдали от привычной среды обитания.
Западная цивилизация так мечтает сбежать в тропики и негу от давящего севера, забыться вдали от суеты. Но в жизни нет рая. Земля – чистилище, совмещающее ужас и красоту на одной улице. И в хижине у моря свои беды. Побег – не искупление, а рубеж, несущий новые муки и новые вспышки благоденствия. Жизнь – борьба и работа, и Мира всё отчётливее осознавала необходимость сталкиваться с ней лбом и натыкаться на мнения узколобых. Чтобы неудовлетворённостью настоящим растормошить сок грёз.
Люди расходятся не потому, что что-то выгорело или иссякло. А потому, что понимают: нарушен какой-то непреложный баланс их удобства, в чём бы оно ни заключалось.
– Ты любишь нарушать правила, – сказал он ей у трапа самолёта, выкидывающего их обратно в монолитный массив сожалений и словно мстящего за что-то ветра. Мире хотелось лишь молчать, чтобы в неосознанном прерываемом сне добраться до собственного дивана и расплескаться по нему. – Тебя заводит мысль, что ты плохая девочка, что ты исключительная, раз можешь переступать через что-то. Но ты не плохая. Тебе просто скучно. Ты ищешь впечатлений, тянешь из людей их чувства и жизнь. И они это ощущают.
Мира не верила своим ушам. Ей никогда не было скучно с пятидневной рабочей неделей и кучей увлечений. Напротив, всё больше истово хотелось просто задёрнуть шторы и не вылезать наружу. Скука – признание, что в жизни нет ничего взамен. А её жизнь фонтанировала, хоть и не всегда приятным. Фонтанировала настолько, что своим переизбытком будто забивала её личность и мечты, не давая им пробиться.
– Ты сам всегда говорил про правила и смехотворность тех, кто их соблюдает.
– Значит, я ошибся. Не всё так однозначно. Ты сама любишь повторять это.
– Ты струсил, – догадалась она, не желая раскрывать глаза сама себе.
– Есть вещи важнее юношеской потребности идти наперекор всему.
– А если это не юношеская потребность, а стиль жизни? Свобода духа.
Мира почувствовала, как тяжело стало дышать. Она была убеждена, что он её друг, что они двое против всех, Сид и Нэнси, Исида и Осирис… Она ведь тоже способна оплакать, а затем воскресить силой своей самоотверженности. Отозваться на любовь – уже быть влюблённым. А он же тогда отозвался! Эта завораживающая рок-н-ролльная связь должна была родить нечто долгосрочное, непримиримое против остальных… То, о чём Мира столько мечтала, создавая себе воображаемых друзей в противовес тем, которым всегда чего-то недоставало, и со временем они растворялись где-то в пучине двадцать первого века. Тим так привлекал своей особостью, непохожестью на неё, дополняя её суждения оголтелым юмором и пропуская в закрытые для неё прежде миры. Но… должно быть, она зря возложила на него столько призрачных надежд.
«Меня заводит не мысль, что я плохая, а ты…» – жалобно думала Мира после тирады, пока он мрачно сидел у иллюминатора, под которым проплывали вырезанные лоскуты улиц и полей. Всклокоченный, статный. Постыло склонив голову, которая так часто запрокидывалась назад в приступе хохота. Он никогда не стеснялся. Над ним не властвовали законы общества. Он был свободен. Так казалось… Он что есть мочи кричал, обращался к случайным прохожим, танцевал на улицах, высмеивал религии… Мирослава обожала его за это.
То, что на миг показалось достижимым миражом, накрыло своей безвозвратностью. Осень запятнала деревья, вгрызлась в поникшие листья. Неизменное начало конца природы придавало дням эту острую прелесть.
Только она прикоснулась к Тиму – и он снова уплывал… Мира с пугающей отчётливостью помнила, что он говорил ещё, как предлагал ей раф, забирал сумки, сажал в метро… Она устала, бесконечно устала. Ей было всё равно, как и когда она доберётся до дома, проложенного через Неву. И доберётся ли вообще. Кристальный колющий свет сочащегося восхода тоскливо подчёркивал талую красоту города и неразличимые очертания пара вдали, где-то на границе фаз. А осколки нарождающегося солнца прятались в распластанного дракона, покрывающего Неву.
После ослепительного солнца юга, от которого болели глаза и плечи, босых прогулок по пляжу и тихих поцелуев под завораживающий шум невидимых, но опасных волн внизу, сурово шепчущих людям свою околдовывающую песню. После растворённого в воздухе счастья под застенчивое мерцание маяков, в ряд выстроившихся вдоль прибрежного городка. После задёрнутых штор в их номере и совместного обряда смывания пляжного песка. Под защитой дымки распластанных гор и бледно-зелёного купола сумерек в момент, когда море становится таким же серебряным, как нагретое небо с рассеивающимся по вершинам гор мягким закатом. Тотальная свобода и отсутствие дум о том, что будет, когда придётся возвращаться домой. Тим так же старательно обходил эту тему, как и сама Мира.
8
Она не помнила, как и с каким лицом ехала в лифте. Она не помнила зачем. Она даже не замечала обращённых на себя испуганных взглядов. Наверное, видок у неё был заоблачный. Ну да какая разница теперь! После изматывающего страстью и жарой лета по возвращении в Питер в ловушку захлопнул дождь. Показались изуродованные городом пейзажи с низкорослыми двориками, изъеденными пылью. И из жизни разом исчезли радость, красота и желание будущего – самая необходимая деталь. Утром не хотелось подниматься с широкой постели, заправленной простыми светлыми простынями. Не хотелось даже пить свежий кофе с булочкой. Не хотелось выбираться из квартиры под боль в мышцах и тяжесть в голове.
Она вышла на этаже Артёма. Внизу на необозримой высоте виднелись серая аскетичность городских построек и канал, пронзающий бетонную почву. Дверь с рассеянным видом открыл поджарый блондин.
– Где ты пропадала, мать? – грубовато разразился он.
Не дождавшись ответа, добавил: