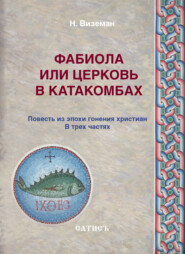скачать книгу бесплатно
– Что касается меня, – прервала шустрая гречанка, – я не осмелилась бы желать такого счастья; для меня было бы достаточно видеть из-за дверей, как хорошо будет сидеть эта чудесная шелковая туника, выписанная из Азии за посланное туда золото. Ничего не может быть прекраснее ее; вместе с тем, не могу не заметить, что и работа этого платья, по-моему, нисколько не уступает самой материи.
– Ну, а ты, Сира, – с иронической улыбкой отозвалась госпожа, – чего бы ты желала или чем ты хочешь похвастаться?
– Я ничего не желаю, благородная повелительница, кроме твоего счастья и хвастаться не могу, так как чувствую, что ничего не сделала выше моих способностей.
Это был ответ покорной и искренней невольницы, однако, он не понравился Фабиоле.
– Мне кажется, невольница, – сказала она, – что ты больше всех любишь хвастаться и только в редких случаях ты говоришь мне приятные слова.
– Да что стоит похвала, выраженная моими устами, – возразила Сира, – устами бедной слуги для благородной повелительницы, привыкшей слушать целый день только приятные и цветистые речи. Ведь ты не веришь похвалам, которые произносят достойнейшие люди и пренебрегаешь теми, которые исходят из наших уст.
Две другие невольницы пронзили Сиру ненавистными взглядами; в свою очередь и Фабиола раздражилась этими словами, так как они показались ей дерзостью невольницы.
– Неужели ты хочешь, чтобы я напомнила тебе, сказала она сурово, – что ты моя невольница и и куплена, чтобы служить мне по моему желанию. Я имею право, как на тебя самое, так и на твои руки и язык и, если мне нравятся твои лесть и слова, то ты должна угождать мне, а нравится ли тебе это или нет – это для меня все равно. Это было бы новостью, если б слуги могли управлять своею волею, в то время, когда даже жизнь невольницы принадлежит ее повелительнице.
– Правда, – покорно, но серьезно ответила Сира, – моя жизнь, как равно и время, здоровье и сила принадлежат тебе; все это ты купила на свое золото, и все это твое, однако, позволь заметить, что есть некоторые вещи, которые принадлежат мне… Это такие сокровища, которые нельзя ни купить за деньги, ни заковать в цепи невольника, ни ограничить его права.
– Это что же такое?
– Душа.
– Душа?! – воскликнула с удивлением Фабиола. Она никогда не слыхала и не допускала, чтобы невольница осмеливалась говорить о такой собственности. – Позволь же мне спросить тебя, что же ты понимаешь под словом «душа»?
– Я не умею говорить языком философии, – ответила невольница, – но я говорю о том внутреннем существе, которое дает мне повод чувствовать мое собственное существо и считать его лучшим из тех, которые окружают меня, но сами не понимают окружающего и даже вздрагивают при мысли о существовании того духа, о котором не имеют никакого представления. Пока живет во мне этот дух, – а он никогда не умрет и гнушается лжи, – я всегда должна быть и буду искренней.
Две другие невольницы ничего не поняли из этих слов и только остолбенели от показавшейся им дерзости их подруги. Фабиола тоже смешалась, но скоро пришла в себя и с нетерпением сказала:
– Кто тебя научил подобным глупостям? Что касается меня, я много думала над этим и пришла к заключению, что все духовные мысли о внутреннем существе не более, как мечта поэтов или софистов, а ты, невежественная невольница, хочешь быть умнее своей повелительницы и мечтаешь, что после смерти, когда твое тело будет брошено вместе с телами другой прислуги, околевшей под кнутом или сгорит на одном из костров, а потом, когда пепел, смешанный с землею будет зарыт в одном гробу, – ты думаешь, что не перестанешь жить и будешь независима и счастлива?
«Non omnis morjar», – говорит один из великих поэтов, – скромно отвечала невольница, хотя взгляд ее пылал огнем, удивившим гордую римлянку. – Надеюсь, даже более, я убеждена, что переживу все это, а тем более верую, что за этой могилой, так эффектно обрисованной тобой, сказывается рука Провидения, которая сохранит каждую порошинку моего тела. Кроме того, есть еще одно существо, могущее призвать все четыре небесные ветра и приказать им собрать порошинки моих костей, разметанные вами, и я, в свое время, восстану в том же самом теле, но не для того, чтобы быть опять твоей или чьей-нибудь невольницей, но, чтобы пользоваться свободой и счастьем, быть навеки любящей и любимой, и эта надежда глубоко сидит в моем сердце.
– Что за странная и дикая фантазия восточного воображения, – воскликнула Фабиола, – делающая человека неспособным рассуждать о своих обязанностях! Но я постараюсь выяснить этот вопрос. Скажи мне, пожалуйста, в какой школе тебя научили таким несообразностям? Я никогда ничего подобного не читала ни в греческих, ни в латинских книгах.
– В моем собственном крае, в школе, где не знают и не допускают никакой разницы между греком и варваром, между свободным и невольником.
– Как! – воскликнула задетая за живое Фабиола, – и ты, не ожидая этой будущей и воображаемой жизни по смерти, уже хочешь равняться со мною и даже, может быть, считаешь себя выше меня? Скажи мне немедленно, без всяких обиняков, так ли я поняла тебя или нет?
И Фабиола села на софу в нетерпеливом ожидании; за каждым словом спокойного ответа Сиры гнев ее усиливался, волнение увеличивалось, глаза ее словно метали искры.
– Благородная повелительница, – отвечала Сира, – ты стоишь намного выше меня по отношению своего положения в свете, как равно и по отношению к тому, что обогащает и украшает твою жизнь; что же касается красоты твоего тела, твоих жестов и движений, то ты несомненно стоишь выше всякой лести. Что же поэтому значит зависть в таком ничтожном и ничего не значащем существе, как твоя бедная Сира, но если ты приказываешь, я должна повиноваться и отвечать на твои вопросы.
При этом она робко поклонилась, но, заметив повелительный жест Фабиолы, принуждена была продолжить:
– Я обращаюсь к твоему собственному рассудку, – сказала она. – Почему бы бедной невольнице не обладать тою непоколебимою верою, которая внушает ей, что она обладает душой, душой, проникнутой верою в бессмертие, верою, что ее отечество – небо; почему бы эта невольница не могла занимать последнего места между созданиями мыслящими, как те, которые одарены каким-нибудь талантом; почему она не может желать другой жизни и жить, как этот красивый но неразумный певец, трепещущий в этой золоченой клетке без всякой надежды быть когда-нибудь свободным?
Глаза Фабиолы загорелись; она в первый раз в жизни была поставлена в тупик невольницей. В раздражении она схватила правой рукой кинжал и бросила его в спокойно стоявшую невольницу. Сира быстро закрылась рукой и брошенный кинжал вонзился ей в руку. На глазах у Сиры навернулись слезы, так как рана была глубока и из нее ручьем полилась кровь.
Фабиоле вдруг сделалось стыдно за свой порыв и необдуманный поступок в присутствии других невольниц.
– Скорее ступай к Ефросинии, – сказала она Сире, унимавшей кровь платком, – и скажи, чтобы она перевязала рану. Я вовсе не хотела тебя обидеть… Но, подожди минутку, я вознагражу тебя за это.
Она порылась в шкатулке, вынула из нее перстень и сказала:
– Возьми его на память и сегодня вечером можешь не приходить ко мне.
Этой подачкой совесть Фабиолы была совершенно успокоена; драгоценный подарок, данный невольнице, казался ей достаточным вознаграждением за причиненную той обиду.
В следующее воскресенье в церкви Доброго Пастыря, находящейся неподалеку от дома Фабиолы, между подаяниями, которые собирались для нищих, был найден драгоценный смарагдовый перстень. Благочестивый отец Поликарп принял его за дар какой-нибудь богатой римской дамы, но всемогущий Господь, увидевший некогда в Иерусалиме, что брошенный вдовой грош, был ее последней монетой, заметил и здесь, что этот перстень был брошен в кружку невольницей с перевязанной рукой.
V
Посещение
Во время последней сцены и вышеописанного разговора, в минуту приключения, закончившегося в комнате Фабиолы, на пороге ее комнаты появилась фигура, которая, если б вошла раньше и заметила гнев Фабиолы, наверное, прервала бы разговор и не допустила ее до такой обиды бедной невольницы. Входы во внутренние покои в римских домах большей частью закрывались коврами или занавесями, а не дверями, вследствие чего очень легко было войти совсем незамеченным, что случилось и теперь. Когда Сира повернулась, желая выйти из комнаты, она почти вскрикнула, увидев фигуру человека, отделившуюся от занавеси. Это была девочка или даже еще дитя двенадцати – тринадцати лет в белом простеньком платьице без всякой отделки. В ее чертах обрисовывалась детская простота, сочетающаяся с рассудком зрелого возраста, а в ее глазах отражалась не только нежность, которую воспевал певец словами: «твои глаза яко очи голубицы», но и огонь чистой и бесконечной любви, не допускавший загрязнить себя посторонними предметами. Казалось, что они почивали только на одном дорогом ей существе невидимом простыми глазами смертных. Ее лоб, как зерцало целомудрия, сиял искренностью, а ласковая, невинная улыбка играла на ее прелестных устах, между тем, как свежие, молодые черты ее лица скрашивали это выражение присущей ей простоты. Те, кто знал ее ближе, видели, что она, никогда не думая о себе, награждала своей добротой и радушием всех, кто окружал ее, и что любовь свою она посвятила невидимому Предвечному Возлюбленному.
Когда Сира увидала это прекрасное существо, представшее перед ней, как ангел, она вдруг остановилась, между тем как дитя схватило Сиру за руку и, с величайшим уважением целуя ее сказало:
– Я видела все, подожди меня в маленькой комнатке у выхода.
И с этими словами она пошла далее.
Заметив молодую посетительницу, Фабиола вдруг покраснела; румянец стыда выступил на ее лице, она боялась, что эта юная девушка была свидетельницей ее вспышки, повергшей теперь ее в глубокую печаль. Холодным движением руки она отправила невольниц, а затем сама встала и приветствовала свою родственницу с сердечным радушием.
Мы уже заметили, что гордость и высокомерие Фабиолы часто стушевывались в присутствии некоторых избранных лиц. Одним из таких исключений была старая мамка, освобожденная из неволи, по имени Ефросиния, которая управляла ее домом и находилась под ее особенным покровительством; последняя слепо верила, что Фабиола самая совершенная, умнейшая и мудрейшая на свете и потому достойна всякого уважения. Другим таким исключением была только что вошедшая юная родственница Фабиолы, которую она любила и обходилась с ней самым лучшим образом, так как ее общество всегда было приятно ей.
«Дом Веттиев», Помпеи. Внутренний дворик
– Ты сделала для меня истинное благодеяние, дорогая Агнесса, – сказала ласково Фабиола, – что пришла так неожиданно на ужин. Сегодня мой отец пригласил несколько знакомых и мне очень хотелось видеть у себя кого-нибудь из близких с целью поболтать с ними. Признаюсь, я с нетерпением ожидаю одного гостя… – это Фульвий, о красоте, способностях и богатстве которого я так много слышала. Жаль только, что никто не знает кто он такой и откуда приехал.
– Милая Фабиола, – отвечала Агнесса, – ты знаешь, что я всегда счастлива, когда имею возможность навестить тебя; мои дорогие родители охотно отпускают меня и поэтому тебе не за что благодарить меня.
– Но ты пришла ко мне, – сказала Фабиола, осматривая ее, – по обыкновению, в том же простом белом наряде без всякой отделки и без драгоценных украшений!.. Когда я вижу тебя в этом платье, мне кажется, что ты только что пришла из под венца… Но, Боже, что это значит, на твоей тунике большое красное пятно, похожее на кровь. Позволь мне одолжить тебе другое платье.
– Ни за что на свете, Фабиола! – запротестовала Агнесса, – это сокровище – единственное, что будет украшать меня сегодняшний вечер. Это кровь твоей невольницы, но она благороднее и дороже в моих глазах той, которая течет в моих и твоих жилах.
Нагая истина открылась перед глазами Фабиолы; Агнесса тотчас заметила это. Чувствуя укор совести, задевший ее за живое, Фабиола резко возразила:
– Что же, не желаешь ли ты объявить целому свету о моей вспышке, которая была вызвана дерзостью этой невольницы?
– Нет. Дорогая Фабиола, эта мысль далека от меня; я только хочу сохранить доказательство той силы и величия ума, которыми обладает эта женщина. Примеру этому позавидовали бы многие.
– Какая странная мысль, Агнесса! Мне не раз уже казалось, что ты ошибаешься в своем отношении к этому классу людей. Скажи мне, в сущности, что они такое?
– Что? – переспросила Агнесса, – они такие же люди, как и мы, одаренные таким же самым умом, теми же чувствами и такой же организацией… Надеюсь, ты согласишься с этим. Кроме того, они принадлежат к одному с нами отечеству и, если Господь, от Которого зависит наша жизнь, нвзывается нашим Отцом, в таком случае Он и их Отец, а они наши братья.
– Невольник мой брат или невольница моя сестра! – воскликнула с иронией Фабиола, – помилуй Агнесса!.. Да сохранят нас боги от такого родства; они наша собственность, наше имущество и я никогда не слышала, чтобы они смели двигаться, действовать, мыслить и чувствовать вразрез нашей воле или не в пользу и угождение своих господ.
– Довольно! – воскликнула Агнесса, – не станем вдаваться в такие неприятные подробности. Ты чрезвычайно искренна для того, чтобы не понять, что сегодняшний разговор с невольницей возвысил ее в твоих глазах… Ты удивляешься этому. Да, он возвысил ее разумом, смелой искренностью и геройской самоотверженностью… Не возражай, потому что я вижу ответ в твоих глазах, переполненных слезами. Но, дорогая подруга, я желаю, чтобы ты никогда более не испытывала таких неприятных минут, поэтому я хочу поговорить с тобою, но обещаешь ли ты удовлетворить мою просьбу?
– С удовольствием сделаю все, что будет в моей власти.
– В таком случае, позволь мне купить у тебя эту Сиру – так кажется ее зовут. Я думаю, что теперь тебе было бы неприятно видеть ее подле себя.
– Ошибаешься, Агнесса, я хочу победить свою гордость и признать, что я обязана уважать и удивляться Сире. У меня явилось новое чувство к человеку такого происхождения. Как Сира.
– Но мне кажется, Фабиола, что я могла бы сделать ее счастливее, чем она теперь.
– Без сомнения, дорогая Агнесса, ты обладаешь даром осчастливливать всех, окружающих тебя. Я никогда не видела такой жизни, как ваша. Мне кажется, что вы поступаете согласно той философии, о которой мне говорила Сира и которая не допускает разницы между невольником и свободным человеком. Каждый слуга в вашем доме всегда улыбается и так весело предается своим занятиям, что можно только удивляться. Мне кажется, что у вас никто не приказывает им. Объясни мне эту тайну.
Агнесса только улыбнулась.
– Мне кажется, моя маленькая чародейка, что в твоей комнате, всегда закрытой для меня. Ты прячешь какие-то средства, которыми возбуждаешь к себе любовь всех и во всем, что тебя окружает. Если бы ты была христианкой и если бы тебя выставили в амфитеатре, я убеждена, что даже львы и тигры пресмыкались бы и ластились у твоих ног… Но почему ты так призадумалась, мое дитя? Ведь ты знаешь, что я шучу.
Агнесса действительно казалась призадумавшейся и смотрела тем взглядом, о котором мы упомянули, когда она входила в комнату и слышала разговор искренне любимой ею невольницы, но вскоре она пришла в себя и весело сказала:
– Правда, правда, Фабиола, но верь мне, что бывают и более удивительные вещи… Однако, если когда-нибудь должно случиться ужасное, то Сира именно такая женщина, которую каждый хотел бы иметь подле себя.
– Помилуй, Агнесса, не принимай же моих слов за чистую монету. Уверяю тебя, что я сказала это шутя. Имея чрезвычайно высокое мнение о твоем уме, я не могу допустить такого несчастья. Что касается твоего мнения о Сире, то ты нисколько не ошибаешься в ней… Когда в прошлом году мы были в деревне и я хворала горячкой, нужно было прибегать к строгости, чтобы заставить других невольниц приблизиться ко мне, между тем, как это бедное существо не хотело отойти от моей постели, она ухаживала за мною день и ночь… После этого я начала думать, что она была причиной моего выздоровления.
– И ты не полюбила ее за это?
– Полюбить невольницу! Ты много требуешь от меня, мое дитя, но не забывай, что я ее прилично вознаградила, хотя и не знаю, на что она употребила мое вознаграждение. Ее подруги говорили мне, что она ничего не тратит на себя. Я даже слышала, что эта чудачка разделяет свою пищу с одной слепой нищей!.. Какой странный вкус!
– Милая Фабиола. – воскликнула Агнесса, – она должна быть моею, ты обещала исполнить мою просьбу. Назначь за нее какую хочешь цену и позволь мне взять ее с собою сегодня вечером.
– Пусть будет по твоему, потому что твоей просьбе никто не может отказать, но мы не станем торговаться. Завтра утром пришли кого-нибудь с поручением к управляющему моего отца и все свершится по твоему желанию, а теперь, когда мы покончили этот важный вопрос, пойдем в столовую к нашим гостям.
– Но ведь ты забыла одеть твои драгоценности.
– Не напоминай мне о них, так как сегодня я не имею охоты наряжаться.
VI
Пир
Молодые девушки застали гостей собравшимися в нижней зале. Это был не пир, а обыкновенный обед в богатом доме, приготовленный для множества друзей и приятелей; ввиду этого мы скажем только, что убранство стола было так же прекрасно, как и самые кушанья. Лучше обратим наше внимание на тот факт, который так хорошо характеризует нашу повесть.
Когда обе девушки вошли в экзедру (столовую), Фабий, приветствуя свою дочь, воскликнул:
– Отчего ты, дитя мое, пришла так поздно и почему не надела своих драгоценностей? Ты сегодня одета словно какая-нибудь простушка.
Фабиола пришла в замешательство и не знала, что отвечать. Ей было стыдно своей слабости по отношению к Сире, а тем более того, что ее заметила Агнесса, в виду чего она захотела подражать ей и пошла в простом платье. Но Агнесса выручила ее из неловкого положения и, зарумянившись, сказала:
– Я виновата в том, что она пришла сюда так поздно и в таком наряде. Мы заговорились и, вследствие этого, она осталась в том же платье, в каком я ее застала, чтобы ничем не отличаться от меня.
– Ты, дорогая Агнесса, – сказал Фабий, – обладаешь тем даром, который вызывает всепрощение, и чтобы ты ни делала, все тебе сходит с рук. Но я должен тебе заметить, что такая простота была сносна, пока ты была ребенком, но теперь, в твоих летах, когда ты почти невеста[11 - Римлянки вообще выходили замуж от двенадцати лет.], ты должна наряжаться и постараться снискать расположение приличного молодого человека. Например, прекрасное ожерелье, каких у тебя немало, нисколько не уменьшило бы твоей красоты. Напротив, оно увеличило бы ее. Но ты меня не слушаешь? Можно сказать, что ты уже думаешь о ком-нибудь и имеешь в виду…
Во время этого продолжительного наставления Агнесса казалась призадумавшейся, как это часто с нею случалось. Ее очаровательные глаза, как выражалась Фабиола, были устремлены с улыбкой на невидимый предмет; не смотря на это, она слушала Фабия, не прерывая его, а когда тот закончил, она ответила:
– Да! Вы правы. Я обручена уже с моим возлюбленным, который наградил меня неисчислимыми дарами.
– Неужели? – спросил Фабий, – какими же дарами?
– Какими? – переспросила Агнесса, бросив на него взгляд, полный горячей любви и искренней простоты. —
«Мой возлюбленный украсил мои руки и шею дорогими каменьями, а уши драгоценным жемчугом».
– Вот как! Кто бы это мог быть? Ты должна как-нибудь прийти ко мне и рассказать мне свою тайну. Это наверно твоя первая любовь?.. Желаю, чтобы она продолжалась нескончаемые годы и сделала тебя счастливее…
Худ. Л. Альма-Тадема. «Интерьер дома Гая Марция»
– На веки, – прибавила Агнесса, обращаясь к Фабиоле, которая, выйдя на минуту, возвращалась в столовую.
К счастью Фабиола не слыхала этого разговора; она была бы очень опечалена тем, что Агнесса, ее приятельница, утаила перед нею, важную в ее глазах тайну, но когда Агнесса сказала ей несколько слов, она удалилась и занялась гостями. Одним из этих гостей был тяжелый и грубый римский софист или ученый по имени Кальпурний; другой – Прокл, большой любитель роскоши, часто гостивший в доме Фабия; что касается двух остальных, то они заслуживают большего внимания.
Первый был, по видимому, приятель Фабиолы и Агнессы, он был трибуном и старшим офицером преторианской стражи и, хотя ему было не более тридцати лет, однако он успел приобрести себе громкую славу, был удостоен милостей императора Диоклетиана на востоке и Максимиана Геркулия в Риме. Офицер это был очень красив, но просто одет и хоть много говорил, но видимо избегал светского разговора. Словом, это был образец благородного человека с прекрасным сердцем, возвышенными мыслями. Мужественный. Без всякой гордости и высокомерия. Полную противоположность представлял собой последний, о котором уже вспоминала Фабиола, как о новом явлении в этом обществе. Это был некто Фульвий. Он был молод и почти женоподобен, одет очень изысканно, каждый палец его руки был украшен перстнем и вся его одежда блестела золотом и дорогими каменьями. Он не любил говорить; из этого можно было заметить, что он был чрезвычайно вежливый иностранец. Будучи, по видимому, благодушным, он в самый короткий промежуток времени успел расположить к себе все высшее общество. Всему этому он был обязан тому обстоятельству, что его видели всегда вращающимся при дворе, а отчасти и своей наружности: Фульвий был недурен собой. Он прибыл в Рим в обществе пожилого человека, с виду очень привязанного к нему, но был ли этот человек его слугой или другом, никто не знал. Они разговаривали между собой на иностранном языке; грубые черты, огненные глаза и отталкивающие манеры невольника приводили в трепет подчиненных ему рабов. Когда Фульвий занял помещение в доме, называемом «инсуля» (остров), т. е. в меблированных комнатах, он окружил себя невольниками более, чем нужно для холостого человека. Во всей его домашней обстановке было заметно скорее мотовство, чем роскошь; но в отживающих и развращенных кружках языческого мира загадочность всей обстановки и история его жизни вскоре были позабыты в виду тех доказательств богатства, которыми скрашивалась его ветреная натура. В минуту забытья, его угрюмый взгляд из-под насупленных бровей и искривление верхней губы вызывали недоверие и наводили на мысль, что под этой маской скрывается опасный человек.
Вскоре гости заняли свои места у стола, а так как женщины во время обеда сидели, а мужчины полулежали на мягких подушках, то Фабиола и Агнесса сели рядом, а два молодых человека, только что описанные нами, заняли места напротив дам. Фабий и два старших приятеля заняли места посередине стола, изображавшего из себя род греческой сигмы*), если так можно выразиться при описании сидевших и полулежавших на подушках гостей, то есть, три части овала были заняты гостями, а одна оставалась открытой для прислуги, которая подавала кушанья. Нужно заметить, что скатерть, этот предмет, бывший неизвестным еще во времена Горация, уже вошел в употребление. Когда в первые минуты ужина голод был утолен, разговор оживился.
– Что слышно сегодня в банях? – спросил Кальпурний, – мне не хватает времени самому собирать сведения.
– Очень любопытные новости, – ответил Прокл, – я почти убежден, что уже пришел приказ от божественного Диоклетиана об окончании его больших терм в течение трех лет.
– Не может быть! – воскликнул Фабий, – я недавно осматривал работы, проходя сады Саллюстия и заметил, что с прошлого года строение продвинулось очень мало. Еще большая часть самых кропотливых работ, как например, обтесывание мрамора и колонн, остались недоконченными.
Император Диоклетиан
– Правда, – прервал его Фульвий, – но мне известно, что император разослал повеления прислать сюда всех ссыльных рудокопов из Испании и Сардинии и даже из Херсонеса для работы в термах, и я уверен, что если пришлют тысячи две-три христиан для этой работы, то бани скоро будут окончены.
– А почему христиане сделают скорее, чем другие преступники? – спросила с любопытством Фабиола.
– Право, – отвечал Фульвий с иронической улыбкой, – я не могу объяснить вам этой причины, но так должно быть. Я убежден, что среди пятидесяти наших преступников не найдется более одного христианина.
– Неужели! – воскликнули все хором, – почему?
– Обыкновенно, наши преступники, – отвечал Фульвий, – не любят трудиться и их каждую минуту нужно подгонять, а как только надсмотрщик отвернется от них, они перестают работать. При том, наши преступники обыкновенно не воспитаны и не совершенны, сварливы и слабы, между тем, как христиане, осужденные на каторжные работы считают себя всегда счастливыми и весело исполняют свое дело. Я видел в Азии молодых патрициев, осужденных на эти работы; руки их, никогда до этого не поднимавшие топора и слабые плечи, не носившие тяжестей, исполняли тяжелые работы, и они были, как мне казалось, так счастливы и веселы, как у себя в доме. Не смотря на это, смотрители не жалеют и для них ни розог, ни палок и это понятно, так как воля божественного императора, чтобы их жизнь была самая тяжелая, должна быть исполнена, но они никогда не жалуются и считают это справедливостью.
– Не могу согласиться, чтобы такая справедливость нравилась кому-нибудь, – сказала Фабиола, – но странно! Какой это должен быть удивительный народ! Мне очень хотелось бы знать, откуда проистекает это побуждение или причина такой глупости и неестественного бесчувствия христиан.
– Кальпурний, без сомнения, объяснит нам это, – сказал Прокл шутя, – потому что он философ и может говорить по целым часам о каком-нибудь предмете, начиная от Альп и кончая антиподами.
Кальпурний, задетый за живое и, чувствуя себя в центре внимания, серьезно отозвался:
– Христиане, – начал он, – принадлежат к чужестранной секте, которую основал несколько веков тому назад известный халдейский учитель. Учение его было перенесено в Рим во время Веспасиана двумя братьями, по имени Петр и Павел. Некоторые ученые доказывают, что эти братья-близнецы назывались евреями – Моисеем и Аароном, младший из них купил у брата право первородства за козленка, кожа которого была ему нужна на перчатки. Я не ручаюсь за достоверность того, что записано в мистических книгах жидов, но там сказано, что один из этих братьев, видя, что жертвы, приносимые братом, предвещали ему счастливую будущность, убил его, как наш Ромул Рема, с тою разницей, что для этого убийства он употребил ослиную челюсть, за что царь Мардохай Македонский, по просьбе своей сестры Юдифи, велел повесить его на виселице в 50 футов вышины. И так Петр и Павел, как я сказал, пришли в Рим; Петр был признан невольником у Понтийского Пилата и по приказанию своего господина был распят на кресте в Яникуле. Их ученики, которых у них было немало, приняли этот крест за символ своей веры и теперь молятся ему. В виду этого они считают за величайшее счастье страдать и переносить насмешки и даже позорную смерть, как лучший способ уподобиться своему учителю. Они говорят, что соединятся с ним в каком-то месте за облаками.
Такое извращенное понятие христианства все слушали с большим удовольствием, за исключением двух лиц: молодого воина, который обратился к Агнессе с выражением жалости на лице и как бы спрашивая ее, должен ли он отвечать этому глупому человеку или только смеяться над ним и его словами. Агнесса поняла это и, приложив палец к губам, умоляющим взглядом просила его молчать.
– Из всего этого видно, – отозвался Прокл, – что термы скоро будут окончены и, что вследствие этого нам, в недалеком будущем, предстоит много удовольствий и потех. Не слыхали ли вы, Фульвий, придет ли божественный Диоклетиан на открытие этих бань?